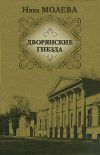Текст книги "Встречи на московских улицах"

Автор книги: Павел Николаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Метрополь» и далее. В начале июля 1918 года в Москве проходил 1-й съезд Советов. На нём левые эсеры развернули ожесточённую борьбу против Ленина и большевиков. Они требовали прекращения борьбы с кулаками и отказа от посылки продовольственных отрядов в деревню. Получив отпор со стороны большинства съезда, они организовали мятеж, во время которого был убит германский посол Мирбах. Покушение на него совершил Я. Г. Блюмкин. Современник вспоминал:
– Убийцу немедленно посадили в ВЧК. Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счёт жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь.
Сохранением собственной шкуры Блюмкин очень поспособствовал большевикам в разгроме партии левых эсеров. «Следует заметить, – писал Д. А. Волкогонов, – что в истории левоэсеровского мятежа остаётся много неясных моментов. По чьему прямому заданию стрелял Блюмкин? Было ли на этот счёт решение ЦК партии левых эсеров? Почему не было проведено тщательное следствие? Одно ясно: события июля 1918 года стали хорошим предлогом, чтобы расправиться с партией левых эсеров. В телеграмме Ленина Сталину в Царицын содержался приказ начать массовый террор против левых эсеров, что и было сделано».
По описанию А. Мариенгофа, Блюмкин был большой, жирномордый, чёрный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Обожал целоваться («Этими-то мокрыми губами!» – возмущался поэт).
После перехода на сторону большевиков Блюмкин возглавлял охрану народного комиссара республики по военным и морским делам. Поэтому днём находился с Кремле, а вечера проводил в «Кафе поэтов». Как-то молодой Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои латаные полуботинки.
«Хам», – заорал Блюмкин. Мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, он направил его чёрное дуло на артиста: «Молись, хам, если веруешь!»
Ильинский побелел как полотно. К счастью, рядом оказался Есенин:
– Ты что, опупел, Яшка?
– Бол-ван!
Есенин повис на руке Блюмкина, а тот орал:
– При социалистической революции хамов надо убивать. Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет.
Есенин отобрал у фанатика потрясений оружие:
– Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.
– Отдай, Серёжа, отдай. Я без револьвера как без сердца.
Блюмкин был лириком, любил стихи, любил славу (и свою, и чужую), но храбрецом не был. ЦК левых эсеров вынес постановление: «Казнить предателя». На этом поприще у эсеров был немалый опыт. Блюмкин, уже однажды смотревший в лицо смерти, трусил. Перед закрытием кафе он обычно просил Мариенгофа и Есенина проводить его до пенат. Расчёт был прост: не будут же левоэсеровские террористы ради «гнусного предателя» (как именовали они бывшего однопартийца) убивать сопровождающих его молодых поэтов. Первый из них вспоминал:
– Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в «Метрополе», называвшемся 2-м Домом Советов. Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева обычно шёл я, а справа – Есенин, посерёдке – Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки.
Как-то Блюмкин предложил своим «охранникам»:
– Ребята, хотите побеседовать с Львом Давидовичем? Я могу устроить встречу.
– Хотим!
– Очень!
– Устраивай!
Через неделю Блюмкин пришёл в Богословский переулок, где проживали поэты:
– Ребята, сегодня едем ко Льву Давидовичу. Будьте готовы.
Мариенгоф был болен, но сразу оживился и, разбинтовывая шею, попросил:
– Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.
– И не подумаю давать. Лежи, Анатолий, я не могу позволить тебе заразить Троцкого.
– Яшенька, милый…
– Дурак, это контрреволюция!
– Контрреволюция? – испуганно пролепетал Мариенгоф.
Пришлось охраннику наркома ограничиться одним Есениным. Для начала беседы Сергей Александрович передал Троцкому только что вышедший номер журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном»[3]3
«В прекрасном» – имеется в виду искусство.
[Закрыть]. Поблагодарив за журнал, нарком выдвинул ящик стола и достал тот же номер, чем сразил и покорил Есенина.
В журнале была напечатана «Поэма без шляпы» Мариенгофа, и в ней была следующая строфа:
Не помяни нас лихом, революция.
Тебя встречали мы какой умели песней.
Тебя любили кровью —
Той, что течёт от дедов и отцов.
С поэтом снимая траурные шляпы, —
Провожаем.
– Передайте своему другу Мариенгофу, – заметил Троцкий, – что он слишком рано прощается с революцией. Она ещё не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция – это движение. А движение – это жизнь.
…Троцкий был единственным из советского руководства, кто после трагической кончины Сергея Александровича сказал о нём доброе слово:
– Он ушёл из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, – не хлопнув дверью, а тихо прикрыв её рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неограждённой, незащищённой души.
Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит, не случайную, дань, – Есенин всегда, видимо, чувствовал себя не от мира сего. Это не в похвалу, ибо по причине именно этой неотмирности мы лишились Есенина. Но и не в укор: мыслимо ли бросать укор вдогонку лиричнейшему поэту, которого мы не сумели сохранить для себя! Поэт погиб потому, что был не сроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его[4]4
Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 20.01.1926.
[Закрыть].
Латышские стрелки. В конце XVIII столетия на Большой Сухаревской площади возник рынок, на котором торговали съестными припасами, картинами, скульптурой и изделиями прикладного искусства. К концу следующего века рынок стал центром торговли букинистическими изданиями. В годы Гражданской войны и НЭПа он превратился в барахолку, которую описал В. А. Каверин в трилогии «Освещённые окна»:
«Сухаревка раскинулась так широко, что сама Сухаревская башня, с её часами и строгим остроконечным фасадом, казалась сиротливо пристроенной к громадной толпе, хлопающей руками, чтобы согреться, и отбивающей дробь ногами. Все говорили разом, пели – впрочем, пели что-то божественное только слепцы, одетые в живописное тряпьё.
Здесь продавалось всё: корсеты, царские медали, шандалы, бритвы, манекены, иконы, заспиртованные уродцы в стеклянных банках, четки, ложечки для святых даров. Прилично одетый мужчина с большущими усами предлагал какие-то раскрашенные щепочки, уверяя, что это „целебные останки иконы Николая Чудотворца, уничтоженной большевиками“. Прямо на снегу стояли шкатулки из слоновой кости, веера, книги, статуэтки, часы с фигурками, дамы с интеллигентными лицами. Другие, с неинтеллигентными, торговали горячими чёрными лепёшками на сале, от которых шёл круживший голову, соблазнительный чад».
Было начало 1919 года, второго года Гражданской войны, времени бедственного и жестокого. Москва голодала. Катаев писал: «На днях я видел, как чуть не убили прохожего, бросившего корку хлеба собаке».
За хлеб действительно убивали, хотя по существу его трудно было назвать хлебом. «Тяжёлый вязкий хлеб, – вспоминал Вениамин Александрович, – был даже и не похож на хлеб. Не знаю, что подмешивали в муку, но, высыхая, он разламывался как штукатурка.
Иногда мы покупали на Сухаревке дуранду – плоские, твёрдые, как камень, лепёшки из отжатого льняного семени или конопли. Мама разбивала их молотком, размачивала, перемалывала, прибавляя горстку муки, и готовила с помощью ещё сохранившихся специй полный обед – суп с клёцками и оладьи. К сожалению, это случалось редко».
В 1925 году в Сухаревой башне был открыт Московский коммунальный музей (впоследствии – Музей истории города Москвы). В связи с этим рынок перевели в один из дворов на Садово-Сухаревской улице (близ кинотеатра «Форум»), а через пять лет он вообще был закрыт, просуществовав около 140 лет.
Милиция разбежалась. Сухаревка жила бурной, но весьма неприглядной жизнью. По воскресным и праздничным дням рынок представлял собой бушующее человеческое море, кишевшее мелкими и крупными хищниками: спекулянтами, шулерами, проститутками, карманниками, налётчиками. На Сухаревке продавали всё, что только можно было продать и купить, причём процветала в основном меновая торговля: шубу из соболей меняли на полмешка пшена, серебряные ложки – на сало, золочёные подсвечники – на керосин. Деньги утратили свою ценность.
На Сухаревке пьянствовали и дрались, играли до потери рассудка в карты, заключали самые невероятные сделки, обирали до нитки простаков, спекулировали, воровали и грабили. Молодая советская власть решительно очищала рынок от этой нечисти, что на первых порах не всегда получалось. Характерна в этом плане облава, проведённая в воскресенье, 21 апреля 1918 года.
Утром этого дня из Кремля выехало несколько грузовиков. К рынку они подъехали с разных сторон – с Садовых, Сретенки и 1-й Мещанской. Латышские стрелки рассыпались цепью и начали сжимать кольцо. Было задержано более 300 подозрительных личностей. Их рассадили по машинам, латыши с винтовками наперевес разместились по бортам.
Задержанных везли для разбирательства в Кремлёвские казармы. Улицы были пустынны, грузовики мчались на большой скорости. И вдруг, когда первый грузовик приближался к «Метрополю», неподалёку раздался винтовочный выстрел. Постовые милиционеры, стоявшие у подъезда гостиницы, решили, что стреляли с грузовика, и подняли тревогу. Отряд, охранявший «Метрополь», высыпал из здания на площадь, выкатил пулемёты и залёг.
В это время к гостинице приблизилась вторая машина с задержанными и латышами. Милиционеры бросились наперерез ей. Шофёр решил, что это сообщники арестованных, и прибавил газу. Вслед машине раздалась пулемётная очередь. Был убит один латыш, пострадали несколько человек, находившихся в кузове, и несколько прохожих.
В Кремле латыши взбунтовались. Комендант кремля П. Д. Мальков вспоминал: «Вклинившись в толпу, я схватил первого попавшегося командира роты за рукав:
– В чём дело?
– Полк выступает.
– Как выступает, куда?
Из толпы раздались голоса:
– Идём на „Метрополь“. Громить милицию. Может, это и не милиция, а бандиты, переодетые в милиционеров.
Я подоспел вовремя. Ещё несколько минут – и было бы поздно. Взобравшись на ближайший грузовик, я крикнул что было мочи:
– Митинг! Митинг давай! Нельзя выступать без митинга!
К моему голосу стали прислушиваться. Кое-кто поддержал:
– Верно, надо митинг. Потом выступим».
Провели митинг, на котором выбрали делегацию для поездки в Моссовет, чтобы там разобраться в случившемся и потребовать сурово наказать виновников бессмысленной стрельбы в центре города. В Моссовете делегаты застали нескольких членов президиума. С одним из них отправились в отдел милиции Городского района: «Едем. На улице ни одного милиционера, как в воду канули. Нет милиционеров и возле „Метрополя“, и на Петровке, а в отделе двери настежь, и тоже ни души. Даже часового нет. Оказывается, как только распространилась весть о столкновении с латышами, милиционеры Городского района разбежались кто куда. Пришлось расследование на время отложить».
Серёжка. Есенин и его сестра Катя как-то проходили мимо Иверских ворот и увидели на руках молодого вихрастого парня рыжего щенка, который дрожал всем своим маленьким телом. Поворачивая щенка в разные стороны, парень предлагал свой «товар»:
– Не надо ли собаку? Купите породистую собачку.
– С каких это пор дворняжки стали считаться породистыми? – бросил мимоходом рабочий.
– Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, не говорил бы чего не следует, – возмутился парень и обратился к Есенину: – Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятёрку. Деньги нужны и стоять мне некогда.
Есенин подошёл к продавцу и погладил щенка. Почувствовав нежное прикосновение тёплой руки, щенок облизнулся, заскулил и ткнулся мордочкой в рукав пальто поэта, который сразу расцвёл в озорной улыбке и предложил сестре:
– Давай возьмём щенка.
– А где же мы его будем держать? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.
– Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.
– А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? – робко напомнила Катя о возможностях их жилищных условий.
По лицу Сергея Александровича пробежала тень отчаяния и грусти – никаких комнат у него не было. Жил великий поэт в это время в Брюсовском переулке, 2/14, у Г. А. Бениславской. В квартире № 27 Галина Артуровна занимала комнату в семнадцать квадратных метров. Её постоянными обитателями были сама хозяйка, Есенин и его сестры – Катя и Шура. Ими, как правило, «население апартаментов» не ограничивалось.
– Ночёвки у нас, – говорила Бениславская, – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и ещё кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке – кто-либо ещё из спутников Сергея Александровича или Кати.
Холодная комнатушка принадлежала не Галине Артуровне, а другой обитательнице квартиры, которая временно отсутствовала. С её возвращением ситуация ещё более осложнилась.
– Позже, – уточняла Бениславская, – картина несколько изменилась: в одной комнате – Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Балдовкин, рядом в комнатушке, в которой к этому времени жила её хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу у окна – её сестра, всё пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причём крайняя из нас спала наполовину под кроватью.
Словом, задуматься было о чём, но Есенин легко отгонял от себя мрачные мысли, а потому на предупреждение сестры заявил, улыбнувшись:
– Ну, если погонят, то мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмём.
Уплатив пять рублей, Сергей Александрович взял из рук парня дрожавшего щенка, расстегнул шубу и, прижав крохотульку к груди, запахнулся. Так и нёс своё приобретение до самого дома. Войдя в квартиру, осторожно опустил щенка на пол и на удивлённый возглас Галины Артуровны, озорно улыбаясь, рассказывал:
– Идём мимо Иверских. Видим: хороший щенок и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а это – настоящая, породистая. Смотрите, какие у неё уши.
Есенин волновался, но к появлению нового поселенца все отнеслись почти одобрительно. Сергей Александрович дал ему своё имя, и все звали щенка Серёжкой. Прошло несколько дней, и щенок стал проявлять беспокойство: скулил и лапами теребил свои длинные отвислые уши. И вскоре выяснилось, что уши у него были пришиты. Обращение «породистого» щенка в дворняжку веселило поэта несколько дней – хохотал до слёз.
Серёжка радовал хозяина, отвлекал от тяжёлой повседневности. У Есенина всегда было много друзей – к сожалению, много и так называемых. Постоянные разочарования в людях рождали у поэта недоверие к ним, желание отстраниться, отгородиться от них. Тема некой отверженности от людского сонма наглядно проявляется в стихотворении «Я обманывать себя не стану»:
Я московский озорной гуляка,
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою лёгкую походку
Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.
Я хожу в цилиндре не для женщин.
В глупой страсти сердце жить не в силе.
В нём удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук. …
Серёжка был бестолков, но удивительно игрив. Для него не существовало чужих, к каждому он ластился, с каждым заигрывал. К лету Серёжка вырос и стал большим псом. Держать его в перенаселённой квартире было невозможно, и Бениславская отправила его к знакомым в Тверскую губернию. Там Серёжка, играя с коровой, откусил ей хвост, за что был выгнан со двора.
Есенин к этому времени умер, и, храня память о нём, близкие поэту люди не решились бросить его любимца на произвол судьбы. Мать и отец Сергея Александровича взяли пса в Константиново, но «перекрестили» его – назвали Дружком. Хлопот от него был полон рот. На цепи пёс выл дни и ночи, отказывался от еды. Без привязи гонялся за овцами, курами и прочей живностью, вызывая всех на игру. Однажды по селу проходил охотник, и Дружок захотел поиграть с ним. Кончилось это печально: как и его почивший хозяин, Серёжка принял насильственную смерть.
«Песнь песней». В тридцатые годы И. О. Дунаевский жил в Ленинграде, но очень часто бывал в столице. Останавливался всегда в гостинице «Москва». Номер, который предоставлялся широко известному композитору, бывал обычно трёхкомнатным и производил впечатление квартиры героя-ударника. В гостиной стоял большой рояль. За ним, как бы в нише, находилась миниатюрная эстрада, обнесённая перильцами. Интерьер помещения дополнял огромнейший диван. Словом, не гостиная, а театр в миниатюре.
Для города, подавляющая часть населения которого жила в коммуналках, это была недосягаемая роскошь, но композитор уже сжился с излишествами правительственного отеля и не замечал их. Мыслями он всё реже и реже возвращался к бедной полуголодной молодости. И в тот день, выйдя из гостиницы, меньше всего думал о прошлом.
Только что прошёл короткий весенний дождь. В лужицах асфальта ярко играли солнечные блики. Воздух был насыщен озоном. Исаак Осипович вздохнул полной грудью и вдруг замер, задержав воздух в лёгких: на него внимательно смотрела полная, очень полная женщина. Вернее, даже старуха, плохо, безвкусно одетая. Вид был отталкивающий.
– Исаак? – неуверенно и как-то просяще произнесла она.
Дунаевский, то ли приветствуя даму, то ли поправляя шляпу, коснулся её полей и скользнул мимо. Он шёл по широкой и радостной улице Горького и вспоминал.
…Было это в далёком 1918-м, в Харькове, раздиравшемся бандитами всех мастей. Женщину-мечту Исаак увидел в полуподвальном кафе. Вера Леонидовна Юренева приходила в полуночные заведения города, чтобы избавиться от тоски.
Молодой музыкант заворожённо смотрел на актрису, имя которой уже обросло легендами. Это была страстная и увлекающаяся натура, без оглядки пускавшаяся в любовные приключения.
Сближение с Юреневой произошло в театре Синельникова. Вера Леонидовна предложила Исааку Осиповичу сделать программу любовной лирики. Тот с готовностью согласился и приступил к работе над музыкой к «Песне песней» ветхозаветного царя Соломона.
Юренева играла с юношей, а он влюбился со всей страстью поэтической натуры и молодости. Позднее с грустью говорил:
– Это была любовь, по силе более неповторимая. Мне теперь кажется, что она забрала мою жизнь в мои двадцать лет и дала мне другую.
Работа, которую композитор сделал для актрисы, он так и не решился отдать на суд публики – незримая нить ещё долго соединяла с женщиной, перевернувшей всю его душу. «Встрече с ней, – писал Дунаевский, – я обязан одним из лучших моих произведений, музыкой к „Песне песней“… „Песнь песней“ лежит у меня далеко спрятанной, как нежное хрупкое воспоминание о далёкой и печальной моей любви».
…Они встретились впервые весной. И опять была весна, но уже последнего предвоенного года. Прошла четверть века – целая жизнь. Композитор шёл по главной улице столицы и шептал:
О, ты прекрасна, возлюбленная моя,
ты прекрасна…
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,
и пятна нет на тебе.
По-прежнему сияло солнце. В дождевых каплях сверкали изумруды. Но на сердце было тяжело и тоскливо.
Там, на линии фронта. Во время Великой Отечественной войны дом писателей в Лаврушинском переулке был частично разрушен, и И. Г. Эренбург жил в гостинице «Москва». Этой привилегии он был удостоен как корреспондент газет «Правда», «Известия», «Красная Звезда», в которых почти ежедневно появлялись его статьи, передававшиеся ещё и по радио. Впечатление, которое производили эти публикации на современников, надолго оставались в их памяти, а на фронтах войны становились оружием советских солдат и офицеров; маршал И. Х. Баграмян считал их «действеннее автомата». Илья Григорьевич был зачислен «почётным красноармейцем» в 1-й танковый батальон 4-й гвардейской бригады.
В дождливый мартовский вечер 1942 года с Эренбургом встретился автор романа «Два капитана» В. А. Каверин. Встретились писатели у входа в гостиницу: Илья Григорьевич вывел погулять собаку. Пришлось его подождать. Вениамин Александрович стоял и наблюдал.
У подъезда остановилась фронтовая, закамуфлированная машина, из которой, разминаясь, вылез немолодой офицер. Взгляд его упал на сгорбленную фигуру Эренбурга, терпеливо ждавшего, пока собака закончит то, ради чего её вывели из тёплого помещения.
– Чёрт знает что! – возмутился военный! – И откуда ещё такие берутся? Просто уму непостижимо!
Понимая, что офицер говорит это не для себя, Каверин сказал:
– А вы знаете, кто это? Эренбург!
– Ну да?
– Честное слово!
– Да вы шутите!
Вениамин Александрович ещё раз подтвердил, что офицер имеет честь лицезреть спину знаменитости. И тогда он вернулся к машине, сказал что-то водителю, и, перешёптываясь, они смотрели на Эренбурга, пока он не исчез в темноте. Всё было прощено мгновенно: и до неприличия штатский, тыловой вид, и то, что кому-то, видите ли, ещё до собак дело, и старый берет, из-под которого торчали давно не стриженные седые лохмы.
Отношение к штатским во время войны отнюдь не было благожелательным. Вернувшийся к подъезду Эренбург сразу набросился на Каверина: почему он не на фронте, а отсиживается в Москве. Вениамин Александрович успокоил его, сообщив, что является военным корреспондентом «Известий» на Северном фронте и только-только приехал из Мурманска.
В номере гостиницы Каверин напомнил Илье Григорьевичу об их последней встрече в мирное время:
– Наш разговор начался с воспоминания о том, с какой непостижимой точностью Эренбург предсказал дату начала войны. 1 июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнётся война?» – Эренбург ответил: «Недели через три».
И вот она идёт почти год, конец её не предвидится, есть о чём подумать, и гость подытожил свои наблюдения: «На окнах, на столе, на полу, на диване лежали рукописи – Эренбург был как бы вписан в этот своеобразный пейзаж. Он похудел, был бледен, очень утомлён.
В середине разговора, не допив свой чай, он расстелил на столе большую грязную карту и стал рассматривать её с карандашом в руках, что-то прикидывая, соображая. Впечатление человека потрясённого, отдалившегося от всего случайного, неотступно думающего о том, что происходит там, на линии фронта».
Не ко времени. В писательской среде он прослыл высокой порядочностью, непримиримостью к лжи (во всех её проявлениях и оттенках) и язвительностью. Последней переполнена вся его публицистика, но мы ограничимся примером из дневниковой записи, сделанной Владимиром Сергеевичем 20 января 1982 года: «По телевидению сейчас передали, что умер на 65-м году Семён Цвигун, зам Андропова. Ну, тут понять можно. Его последний роман (как и предыдущий, впрочем) напечатали одновременно и В. Кожевников, и А. Софронов. Конечно, он из этого заключил, что замечательный писатель, – вот сердце могло не выдержать. Словом, в его смерти виноваты редакторы „Огонька“ и „Знамени“».
Без колебаний и пиетета по отношению к высоким особам Бушин изобличал их публично. 19 ноября 1985 года поднёс дулю председателю Правления Союза писателей СССР Г. М. Маркову: «Ну и дали мы в День артиллерии, залп по толстобрюхим».
«Мы» – это В. Лазарев и наш герой. Перепалка с президиумом партийного собрания произошла по поводу «изданий-переизданий» узбекских и таджикских писателей в переводах Маркова и его дочери Ольги. Человек основательный, Бушин хорошо подготовился к собранию: убийственные цифры по злоупотреблению властью секретариатом Союза писателей ошеломили рядовых его членов и заставили понервничать руководство Союза. На следующий день Бушин с внутренним удовлетворением писал: «А как толстобрюхие изворачивались, как пытались процедурными хитростями запутать нас, сбить с толку! Не удалось.
Я чувствую себя сейчас как Пётр после Полтавы».
Впрочем, что Союз писателей – Бушев брал высоты и повыше:
«М. С. Горбачёву, Н. И. Рыжкову. ЦК КПСС. 25 октября 1985 года.
Уважаемые товарищи[5]5
Товарищи – без всякого чинопочитания и словоблудия.
[Закрыть].Вы настойчиво призываете народ к свежести взгляда на вещи, к новизне подхода к проблемам жизни, к слитности слова и дела. Очень хорошо!
Но вот вам через несколько дней предстоит подписать важный документ, который явится воплощением совершенно противоположного – косности взгляда, рутинности подхода, полного разрыва слова и дела. Это – постановление ЦК КПСС и Совета министров о присуждении Государственных премий.
После того как в 1978 году председателем Комитета по премиям назначали Г. М. Маркова, из процесса присуждения премий исчезли последние остатки демократичности.
Теперь премии не присуждаются в результате обсуждения, а просто раздаются. В этом году, как и прежде, никакого обсуждения в печати не было. Дело доходит до бессмыслицы».
Далее Бушин приводил конкретные примеры этой бессмыслицы и спрашивал:
– Вам, новым руководителям, какая нужда начинать свое участие в деле премий с одобрения замшелого порядка?
Конечно, обращался Владимир Сергеевич к руководителям партии и страны для очистки совести; в изменениях к лучшему он сомневался, а потому закончил своё письмо весьма пессимистичной фразой: «Если всё остаётся по старому даже в такой области, как литература, то какие же надежды на перемены к лучшему!»
Итогом этого обращения в верха и выступления на партийном собрании стало лишение Бушина пригласительного билета на Съезд писателей РСФСР. Он проходил в Кремле (первый день, 11 декабря 1985 года) и в Колонном зале Дома Союзов (последующие дни). На открытии съезда случилось невиданное: с трибуны его делегаты прогнали аплодисментами М. Алексеева, Р. Гамзатова и Е. Исаева. По этому поводу Владимир Сергеевич писал: «Когда в Кремлёвском дворце в присутствии членов Политбюро сгоняют с трибуны увенчанных героев, то это что-нибудь значит».
Не дожидаясь разрешения этого «что-нибудь», Бушин направился в Дом Союзов и без затруднений (по членскому билету Союза писателей) попал на съезд. По пути в Колонный зал у него родились следующие строки:
Когда говорунов отпетых
С трибуны гербовой в Кремле
Сгоняют, догола раздетых,
Жить веселее на земле.
В Доме Союзов Владимир Сергеевич оставался до пяти вечера. Оттуда шёл пешком до Белорусского вокзала (то есть по улицам Охотный Ряд и Горького) и предавался воспоминаниям о прошедшем дне, который оказался насыщенным интересными встречами.
Конечно, грели душу приветствия более-менее близких людей:
– Тобой все восхищаются (А. Пистунова).
– Это сверхразум. Ты как Александр Матросов, бросаешься на амбразуру (А. Мошковский).
– Это офицерский поступок (В. Гордейчев).
«Залп» Бушина по толстобрюхим пришёлся литераторам по душе, и на второй день заседаний съезда писателей он оказался в центре внимания многих. «В суете и толчее всё же удалось поговорить или хотя бы перемолвиться словечком в кругах с Мишей Лобановым. Несколько раз говорили и в буфете, и в фойе. Много было интересного и согласного, но он пугает меня своей чрезмерной критичностью. Вот и о Твардовском говорил плохо, хотя в том, о чём говорил, был прав. Александр Трифонович писал „дура-смерть“ и т. п».
– Он никогда не думал о смерти. А как вельможно держался!
И вспомнил, что в своё время он будто бы отрёкся от отца.
Суета и толчея не помешали Бушину дважды перекинуться словечком с В. П. Астафьевым. Владимир Сергеевич похвалил его статьи в «Правде», «Литературной России» и «Литературной газете». По поводу первой (в «Правде») Виктор Петрович сказал, что Чайковский и А. Иванов ходили в отдел пропаганды ЦК к Яковлеву с возмущением, как, дескать, он пишет, что наши солдаты бежали.
В ответ Бушин рассказал сибиряку о своём выступлении 19 ноября на партийном собрании и выслушал его критику по поводу статьи «Военная пора Маркова». Времени объясняться не было. Расстались на обещании Владимира Сергеевича указать на свои доводы в отношении председателя Союза писателей в письме к Астафьеву.
С претензией на особость подошёл Анатолий Рыбаков. С обидой напомнил, что в прошлом году Владимир Сергеевич не дал ему почитать «Анти-Б.». «Да, – вспоминал Бушин, – я тогда сказал ему, что мы, дескать, незнакомы и, пожалуй, не совсем корректно с моей стороны давать незнакомому человеку неопубликованную рукопись отрицательного свойства об известном писателе. Он тогда согласился. Мы, говорю, соприкасались лишь один раз, и заочно: вы были председателем приёмной комиссии, и там было отклонено моё заявление о приёме из-за одной „телеги“. Да, говорю, я был в Доме кино, куда явился крепко выпившим, и, стоя в ложе, вступил в полемику к каким-то писателем, выступавшим с эстрады (был праздник 8 Марта).
– А это, – говорит Рыбаков, – было представлено как антисемитская выходка.
– Возможно, что писатель и был евреем, но я этого не мог знать. Мне передали, что вы тогда сказали приблизительно так: „Мы Бушина знаем, его принять надо, но вот „телега“, и потому вернём дело в секцию“.
– Да, и мне дал хороший отзыв Леонид Зорин».
Рыбаков уезжал в Венгрию. Договорились, что после его возвращения Бушин пришлёт ему просимую рукопись.
О ней же говорил с Владимиром Сергеевичем Даниил Гранин, которому «Анти-Б.» был послан летом с целью публикации в журнале «Нева». Он назвал труд Бушина огульным (с чем тот согласился), но отметил, что в нём много удивительно меткого, интересного.
– Я за публикацию таких работ, – заявил Гранин, – так как должны существовать разные мнения. Но она для журнала велика по объёму.
Конечно, Даниил лукавил, почему потребовалось полгода, чтобы сообщить автору о том, что для публикации «Анти-Б.» работу надо сократить. Не хотелось маститому писателю конфликтовать с Ю. Бондаревым, против деятельности которого на высоких литературных постах была направлена работа его однокашника по Литературному институту. Труд этот объёмен, Бушин говорил по этому поводу:
– Конечно, я родом из Ла-Манчи. Вот написал 1000 страниц, которые, по всей видимости, никто не напечатает, и ведь я знал об этом, когда писал.
Человек, взыскующий к истине, Бушин отдавал должное заслугам сокурсника по институту на поприще литературы, но без всяких скидок бичевал его как чиновника и администратора. В «Анти-Б.» много материала по обоим из этих аспектов, приведём лишь пару примеров в отношении Шолоховской премии, о которой Бондарев, будучи председателем комитета по присуждению оной, писал: «Международная Шолоховская премия уникальна тем, что она объединяет ярчайшие личности планеты в борьбе с мировым злом. Авторитет её неоспоримо высок. Её лауреатами стали крупнейшие писатели и общественные деятели…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?