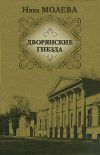Текст книги "Встречи на московских улицах"

Автор книги: Павел Николаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Собственного жилья в Москве поэт не имел, но это не значит, что он не хотел этого. Друзья хлопотали за него перед Троцким и перед Луначарским, в Моссовете и в Союзе писателей. Всё было тщетно. Почему? В. Ф. Ходасевич, современник поэта, свидетельствует:
– Так «крыть» большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян.
Какие уж тут квартиры! Разве что за железной решёткой с часовым у дверей? Но советская власть разобралась с последним поэтом деревни несколько по-другому…
Шутка. Из заграницы Сергей Есенин привёз десяток неподъёмных чемоданов всяческого добра, среди которого были цилиндр и чёрная накидка на белой шёлковой подкладке. Однажды в этом опереточном наряде он разгуливал с начинающим писателем В. П. Катаевым по ночной Москве, пугая редких прохожих. На углу Тверского бульвара и Никитских ворот друзья заметили дряхлого извозчика, уныло ожидавшего клиентов.
Извозчик дремал на козлах. Есенин осторожно подошёл к дрожкам, вскочил на их переднее колесо и, заглянув в лицо старика, пощекотал ему бороду. Извозчик очнулся, увидел барина в цилиндре и решил спросонья, что спятил. А пассажир из прошлой жизни (при царе-батюшке) предложил:
– Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь?
– Ты что? Не замай! – испугался извозчик. – Не хватай вожжи! Ишь фулиган! – закричал он в испуге и пригрозил позвать милицию. Но тут произошло чудо: Есенин вдруг улыбнулся прямо в лицо хозяина дрожек такой добротой, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под чёрной трубой шёлкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом. После этого они трижды поцеловались, как на Пасху. И мы ещё долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом.
…Этот рассказ о Королевиче, как называет Валентин Петрович великого поэта, озорника и буяна, он закончил многозначительной фразой:
– Это были золотые денёчки нашей лёгкой дружбы. Тогда он ещё был похож на вербного херувима.
Предчувствие. В 20-е годы XX столетия в Кривоколенном переулке Москвы располагалась редакция первого толстого советского журнала «Красная новь», вокруг которого крутились все поэты и писатели того времени. С напором, присущим почти всем провинциалам, «атаковал» журнал и одессит В. П. Катаев. За короткий промежуток времени он познакомился в редакции со всеми знаменитостями. Да что познакомился! Со многими подружился, а с некоторыми сошёлся на «ты».
Об одном из таких сближений Валентин Петрович писал позднее: «Однажды по дороге в редакцию я познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широко известным поэтом – буду называть его с маленькой буквы королевичем, – который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу:
Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт».
По-видимому, многие из читателей сразу вспоминают автора этих строк – гениального русского лирика С. А. Есенина. Но классик (или почти таковой) был не слишком высокого мнения о своих читателях, поэтому дал весьма обстоятельную расшифровку личности Королевича[21]21
Из уважения к личности Сергея Есенина я не могу писать с маленькой буквы псевдоним, данный Катаевым ему (как и другим знаменитостям советской литературы).
[Закрыть]: «Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену Большого театра в красной тунике, с развёрнутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец „Интернационал“».
Из дальнейшего описания истории покорения Королевичем Босоножки все сомнения рассеиваются, и читатель понимает, что речь идёт именно о Есенине и его заморской супруге Айседоре Дункан. Это, конечно, сразу и многократно увеличивает интерес к случайному знакомству, происшедшему как бы на наших глазах.
– Во мне всё вздрогнуло: это он! Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся. Это был он. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта, самородка, образ которого давно уже сложился в моём воображении, когда я читал его стихи: молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых берёзок легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой, заповедный скит, сочинитель «Радуницы». Или бесшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или даже Ванька-ключник, злой разлучник, с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел: молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм – пиджак в талию, – брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щёчками и по-девичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чёртиков, нечто настороженное: он как бы пытался понять, кто я ему буду – враг или друг. И как ему со мной держаться.
К счастью, они понравились друг другу. Знакомство это произошло в августе 1923 года. А вскоре состоялась новая встреча (на Тверской), которая оказалась более обстоятельной и весьма продолжительной. Катаев был с другом, которого называл Птицеловом. Конечно, любитель пернатых был представлен знаменитости. Птицелов и Есенин быстро сошлись на любви ко всему живому. Сергей доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя не прочитал ещё ни одной его строчки.
Разговаривая, подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, окружающие его. Фигура поэта со склонённой курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря нежно-сиреневого цвета.
Желая поднять авторитет нового знакомого в глазах Есенина, Катаев сказал:
– Птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему.
Есенин с интересом посмотрел на Птицелова и предложил ему написать сонет на тему «Пушкин». На обложке журнала «Современник», взятого у Катаева, его приятель в один момент настрочил «Сонет Пушкину». Есенин недовольно нахмурился и заявил, что и он может сделать то же самое. Долго думал, от напряжения слегка порозовел, наконец выдал:
Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий.
Нам не нужно адов, раев,
Только б Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.
– Сонет? – с сомнением спросил Птицелов.
– Сонет! – запальчиво ответил Есенин.
Его новые друзья предложили перенести спор в более удобное место, чем цепи, окружавшие пьедестал памятника. Не спеша перешли Страстную площадь и пошли вниз по бульварам. Остановились на пересечении Мясницкой с Чистыми прудами и крепко засели в трактире, который находился тогда примерно на месте сегодняшней станции метро «Чистые пруды» (до 5 ноября 1990 года – станция «Кировская»). Чем больше пили, тем ближе становились друг другу. Спустя половину века Катаев писал: «Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стесняясь спросил Королевича, какого чёрта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить».
Бурный роман Есенина и Дункан на фоне пуританства первых лет революции воспринимался как скандал. В очень молодом мире московской богемы на заморскую диву смотрели как на порядком поношенную старую львицу. Есенин знал это, и вопрос нового друга не смутил его, не вывел из равновесия.
– Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест! – Сергей перекрестился на трактирную икону и продолжил: – Хошь верь, хошь не верь: я её любил. И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!
Есенин положил свою кудрявую голову на мокрую клеёнку стола и заплакал, бормоча: «И какую-то женщину сорока с лишним лет называл своей милой…»

Айседора Дункан
Поэт был пьян, на этом бы и остановиться. Но нет, ему вдруг захотелось домой, в деревню.
– Братцы! Родные! Соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на всё и махнём в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы четыре. Ну? Давайте! Я вас познакомлю с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей всё обещаюсь да обещаюсь приехать, да всё никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен…
– Он был так взволнован, – вспоминал Катаев, – так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своём родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с Птицеловом заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета.
До отхода поезда было два часа. Время коротали в очередной пивной, колоритное описание которой оставил Катаев:
– Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными ёлками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навыпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками таранки цвета красного дерева, мочёным сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй, старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зелёное бутылочное стекло.
Но ограниченность денег не давала возможности развернуться. Тогда Птицелов, проявив благородство, сдал свой билет в кассу. Вскоре его примеру последовал Катаев. Сдал свой билет и Есенин – не ехать же в Константиново одному?
Разом забыв старушку-мать в ветхом шушуне, Сергей читал свою поэму «Анна Снегина»:
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас…
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.
При этих словах Есенин всхлипнул, по щекам его текли горючие слёзы. Расчувствовались и его застольные друзья. По щекам Катаева тоже потекли ручейки. Птицелов опустил на стол свою лохматую голову и издавал носом горестное мычание.
…Через пятьдесят лет Валентин Петрович, умудрённый горьким опытом жизни, писал: «Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я вижу станцию метро „Кировская“ и памятник Грибоедову, я предчувствовал ужасный конец Есенина. Почему? Не знаю!»
Растить человека. Сергей Есенин был человеком контрастов и неожиданностей. В 1925 году поэт вдруг решил перемениться, зажить по-иному. Планы на ближайшее будущее он связывал с женитьбой. Вот что услышал от него в один из первых летних вечеров коллега по поэтическому цеху Рюрик Ивнев, сидя на скамейке Тверского бульвара:
– Ты должен дать мне один совет, очень… очень важный для меня.
– Ты же никогда ничьих советов не слушаешь и не исполняешь!
– А твой послушаю. Понимаешь, всё это так важно. А ты сможешь мне правильно ответить. Тебе я доверяю.
Я прекрасно понимал, что если Есенин на этот раз не шутит, то, во всяком случае, это полушутка… Есенин чувствовал, что я не принимаю всерьез его таинственность, но ему страшно хотелось, чтобы я отнёсся серьёзно к его просьбе – дать ему совет.
– Ну хорошо, говори, – сказал я, – обещаю дать тебе совет.
– Видишь ли, – начал издалека Есенин. – В жизни каждого человека бывает момент, когда он решается на… как бы это сказать, ну, на один шаг, имеющий самое большое значение в жизни. И вот сейчас у меня… такой момент. Ты знаешь, что с Айседорой я разошёлся. Знаю, что в душе осуждаешь меня, считаешь, что во всём я виноват, а не она.
– Я ничего не считаю и никогда не вмешиваюсь в семейные дела друзей.
– Ну хорошо, хорошо, не буду. Не в этом главное.
– А в чём?
– В том, что я решил жениться. И вот ты должен дать мне совет на ком.
– Это похоже на анекдот.
– Нет, нет, Ты подожди. Я же не досказал. Я же не дурачок, чтобы просить тебя найти мне невесту. Невест я уже нашёл.
– Сразу несколько?
– Нет, двух. И вот из этих двух ты должен выбрать одну.
– Милый мой, это опять-таки похоже на анекдот.
– Совсем не похоже… – рассердился или сделал вид, что сердится, Есенин. – Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина?
– Я тебя не понимаю.
– Сейчас поймёшь. Я познакомился с внучкой Льва Толстого и с племянницей Шаляпина. Обе, мне кажется, согласятся, если я сделаю предложение, и я хочу от тебя услышать совет: на которой из них мне остановить выбор?
– А тебе разве всё равно, на какой? – спросил я с деланым удивлением, понимая, что это шутка. Но Есенину так хотелось, чтобы я сделал хотя бы вид, что верю в серьёзность вопроса. Не знаю, разгадал ли мои мысли Есенин, но он продолжал разговор, стараясь быть вполне серьёзным.
– Дело не в том, всё равно или не всё равно… Главное в том, что я хочу знать, какое имя звучит более громко.
– В таком случае я должен тебе сказать вполне откровенно, что оба имени звучат громко.
Есенин засмеялся:
– Не могу же я жениться на двух именах!
– Не можешь.
– Тогда как же мне быть?
– Не жениться совсем.
– Нет, я должен жениться.
– Тогда сам выбирай.
– А ты не хочешь?
– Не не хочу, а не могу. Я сказал своё мнение: оба имени звучат громко.
Есенин с досадой махнул рукой. А через несколько секунд он расхохотался и сказал:
– Тебя никак не проведешь! – и после паузы добавил: – Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой.
Биографы по-разному оценивали этот шаг поэта: польстился на фамилию гения, надоело бродяжничать по чужим углам, попытался отойти от мнимых «друзей» и зажить по-новому… Лишь немногие видят в этом поступке искреннее проявление чувств. Писатель H. H. Никитин свидетельствует: «Встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не „проходным“ явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелёгкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:
– Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил…
– Но что другое?..
Он махнул рукой, промолчал».
Толстая была для поэта как последняя соломинка для тонущего. Его свояк Василий Наседкин, вспоминая поездку в Константиново 7 июня, писал: «До этого я, как и все знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового, но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжёлые и явно нездоровые формы.
Через два дня, возвращаясь вдвоём на станцию, я осторожно сказал ему:
– Сергей, ты вёл себя ужасно.
Слегка раздражаясь, Есенин стал оправдываться.
Но чуть ли не в этот же день, вспоминая деревню, Есенин оправдывался уже по-другому. Он жаловался на боль от крестьянской косности, невежества и жадности. Деревня ему противна, вот почему он так…
– Это не оправдание. Тебя все ценят и любят как лучшего поэта. Но в жизни этого мало. Пора растить в себе человека.
Есенин был почти трезв, заговорил торопливо:
– Ты прав, прав… Это хорошо – „растить человека“. Разве вот жениться на С. Толстой и зажить спокойно».
Где эта улица, где этот дом? Писатель Н. С. Тихонов был ровесником Сергея Есенина, но пережил его более чем на половину столетия. На закате своих дней ему было что вспомнить:
– Однажды весенним утром шёл я с Есениным по московским улицам. Мы опаздывали и должны были торопиться. После бессонной ночи, когда было о многом переговорено, у нас в распоряжении были только обычные утренние слова. Вдруг Есенин остановился. Улыбка осветила его лицо. Он взял меня под руку и сказал весело: «Свернём в сторону. Я тебе покажу кое-что забавное».
Николай Семёнович удивился: в какую ещё сторону? Ведь опаздываем!
– Ничего, это недалеко, – настаивал поэт, и Тихонов согласился.
Они прошли одну улицу, другую, прошли пару переулков, и всё это в сторону от первоначальной цели.
– Ничего, – успокаивал Есенин приятеля, – зато ты увидишь очень забавное.
В конце концов, миновав два квартала, Есенин подвёл Николая к витрине с фотографиями, среди которых был и его портрет.
– Разве это не забавно? – спросил Сергей Александрович и засмеялся своим лёгким смехом.
Портрет был хорош. Прохожие останавливались и любовались им, с восхищением в голосе говорили: «Есенин!».
– Ты прав, – согласился Тихонов. – Пусть мы опоздали и пусть это дело подождёт или провалится, но это действительно забавно. Ты очень похож, и, чтобы посмотреть на Есенина, можно пройти побольше, чем несколько улиц.
Апофеозом поэта звучит сегодня последняя строфа писателя, умудрённого долгим жизненным опытом: «В эту минуту я увидел всего Есенина. Его наполняла гордость, какой-то лёгкий и свободный восторг; светлые кудри его развевались, его глаза странника, проходящего по весенней земле с песней и любовью ко всему живущему, лукаво усмехались».
* * *
Есенин пользовался необычайной популярностью, особенно у женщин. Как-то он ехал с приятелями – В. И. Вольпиным и В. И. Эрлихом. Не успела пролётка остановиться, как была окружена изрядной толпой. С трудом к поэту пробилась женщина лет сорока, чёрненькая, невзрачная. Попросила автограф и назвала свою фамилию – Брокгауз.
– А… словарь? – спросил Александр Сергеевич.
– Да-да, это мой дядя.
– Здесь неудобно. Едем с нами, – предложил Есенин и втащил любительницу автографов на пролётку.
Спутники поэта не слышали его разговора с «Брокгаузихой», очень удивились её внезапному соседству и с присущей им свободой в обращении осведомились, с чего это ему вздумалось прихватить «эту дурёху».
– Знаете, всё-таки племянница словаря, – пояснил Есенин.
С миллиардом в кармане. Весной 1922 года будущий писатель Н. К. Чуковский издал в Петрограде поэму «Ушкуйники». 1000 экземпляров небольшой тощей книжонки обошлись ему в… 381 миллион рублей, которые надо было отдавать. Конечно, молодой автор рассчитывал на успех и отправился с младшим братом Бобой по магазинам города.
– Оказалось, что в Петрограде, – вспоминал Николай Корнилович, – нет и двадцати книжных магазинов. Мы все их обошли за два часа. НЭП был в самом разгаре, и почти все книжные лавки принадлежали частным владельцам. В двух магазинах у нас купили по пять экземпляров. В одном купили три, – и только потому, что Боба был очень хорошенький мальчик и понравился продавцу. В двух магазинах у нас взяли по десять экземпляров, но на комиссию, – с тем, что деньги нам будут уплачены только тогда, когда экземпляры разойдутся. В остальных не взяли ничего. Когда нам отказывали, Боба, выходя из магазина, плевал на порог.
После недолгих раздумий Николай засобирался в Москву:
– Я запаковал весь тираж «Ушкуйников» в рогожу, нанял человека с тачкой, злополучный сборник был отвезён на Московский вокзал, называвшийся тогда Октябрьским, и сдан в багаж. Я стал готовиться к отъезду. Достал заплечный мешок на ремнях, положил в него три банки сгущённого молока, полученного папой из Ара, чистую рубаху и полбуханки хлеба; мама дала мне немного денег на путевые расходы – миллионное двадцать.
Москва встретила юного поэта жарой и солнцем. Денег на трамвай (билет за один проезд стоил 250 тысяч) у Николая не было; спросив дорогу в центр, он побрёл по Мясницкой, Кузнецкому Мосту и Тверской. По пути заходил в книжные магазины и предлагал своих «Ушкуйников»:
– Очень скоро мне стало ясно, что все книжные магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что всё зря, расплатиться с типографией не было надежды. Да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь груз целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.
Дойдя до Тверского бульвара, Николай, разомлённый жарой, присел на скамейку. Хотелось пить. Достал из своих запасов банку сгущённого молока – от него тошнило. Бросил банку в траву и побрёл по бульвару. С трудом дождался окончания долгого жаркого дня. Опять сел на скамейку и задремал.
Бульвар постепенно пустел. Дольше всех на нём оставались проститутки. Как солдаты на часах, они ходили от фонаря к фонарю, когда поворачивались, под фонарём вспыхивали их серьги.
Перед рассветом стало холодно, захотелось есть. Николай достал хлеб и последнюю банку сгущёнки. Поев, растянулся на скамейке и заснул. Проснулся от чьего-то пристального взгляда. Открыл глаза и увидел О. Э. Мандельштама. Оказалось, ночь он провёл напротив Дома Герцена, в левом флигеле которого жил Осип Эмильевич. Знакомство семьи Чуковских с поэтом было довольно поверхностным, но Мандельштам участливо отнёсся к начинающему автору. Николай Корнеевич вспоминал:
«На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повёл меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с собой на скамейку, в тени под липой.
Мы начали прямо со стихов – всё остальное нам обоим казалось менее важным. Мандельштам читал много.
Потом он попросил читать меня.
Я читал последние свои стихи, читал старательно и именно так, как читал он сам и все акмеисты, – т. е. подчёркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил:
– Ещё.
И я читал ещё.
Когда я прочитал всё, что мог, он сказал:
– Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они всё равно плохие.
Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.
Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Всё так же участливо повёл он меня к себе в комнату, на второй этаж.
Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна – один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свёртывать и курить.
Он расспрашивал меня о своих петроградских знакомых, и я рассказывал ему всё, что знал.
Осип Эмильевич отнёсся к „Ушкуйникам“ с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.
– Ну, это мы сейчас уладим, – сказал он мне. – Пойдёмте.
И он повёл меня по раскаленным московским улицам и привёл в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Мандельштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня мою накладную на „Ушкуйники“ и сразу же заплатили мне за неё один миллиард рублей.
Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом запихался в мой пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией».
Редкая удача начинающего автора! Но на дальнейшие дерзания на поэтическом поприще она его не подвигла – перешёл на прозу, подарив миру ряд биографических повестей о знаменитых мореплавателях и роман «Балтийское небо».
Кстати, невольно возникает вопрос: сколько же заработал будущий писатель на своём слабом поэтическом опыте? Как упоминалось выше, билет на проезд в трамвае стоил в 1922 году 250 тысяч рублей, сейчас[22]22
В начале 2011 года.
[Закрыть] он стоит 24 рубля, то есть в 10 тысяч раз меньше (округлённо). Делим 1 млрд на 10 тысяч, и получается 100 тысяч рублей на наши деньги, то есть прибыль (1 млрд минус 380 тысяч) составляет 250%. В сегодняшних условиях, когда большинству авторов вообще ничего не платят, это просто фантастика. После такой удачи можно было и «взбрендить», то есть, игнорируя оценку старшего собрата по перу, уверовать в свои поэтические способности. К счастью, истинный писатель не мерит свои творческие возможности рыночными отношениями: товар-деньги-товар.
Моряк на суше. В последние годы жизни Александр Степанович Грин редко и неохотно оставлял Феодосию. Но если это случалось, то использовал каждый час, чтобы восполнить пробелы, которые возникали из-за оторванности от очагов культуры.
В 1928 году писатель был в Москве. В этот период Владимир Лидин встретил его на торжествах по случаю пятилетия журнала «Огонёк». В Доме учёных Грина видели за бильярдным столом. За игрой Александра Степановича с интересом наблюдал нарком просвещения A. B. Луначарский. С поэтом Дмитрием Шепеленко писатель гулял по Тверскому бульвару.
Была осень. Золотая россыпь листопада похрустывала под ногами. Грин говорил:
– Да, эпоха роскошных удач миновала, и впереди как никогда трусливо-тускло. Риск выродился. Египет и фараоны уважали случай. Французы превратили его в азарт. А русские вынесли азарт на базар.
Писатель только что закончил одну из лучших своих повестей – «Бегущая по волнам». В Москве отдыхал, отходил от творческого напряжения последних недель.
– Писательская работа для меня, – посетовал Александр Степанович, – как ядро на ногах каторжника.
Молча прошли с полсотни шагов. Как бы стряхнув с себя тяжесть дум, писатель вдруг весело заявил спутнику:
– В качестве пирата, золотоискателя и следопыта я, Грин, ваш покорнейший слуга, пойду сегодня с вами на «Отелло».
Вечером были на постановке знаменитой трагедии. Наибольшее впечатление произвёл на Грина актёр, игравший роль Яго. Писатель почувствовал в нём какую-то надломленность, скрытую внешней раскованностью, свободой в движениях и поступках.
– Поверьте мне, старому морскому волку: этот клипер чересчур презирает бурю. Он очень скоро очутится под волнами. Он умрёт не больше как через три дня, – подытожил Грин свои наблюдения.
Как ни странно, писатель оказался точен в своем печальном прогнозе. «Предсказание Грина, увы, оправдалось, – заключает свои воспоминания о великом романтике Шепеленко. – Ровно через три дня, переходя в пьяном виде с бутылкой в руках по карнизу пятого этажа из окна в окно, актёр сорвался и погиб».
Автографы. В июне 1929 года на Тверском бульваре была организована продажа книг – книжный базар. В один из этих дней в роли продавцов выступали писатели. Наибольшей популярностью пользовался В. В. Маяковский. Всю литературу он продавал со своими автографами. На одном из романов Диккенса зачеркнул эту фамилию и написал свою. Ошарашенного покупателя с нажимом спросил:
– Ведь так вам приятней?
На своей фотографии в первом томе собрания сочинений Маяковский подрисовал шевелюру, так как был в это время уже «не стружатый». На исследовании П. С. Когана «История западной литературы» написал:
Тихо и растроганно
Всучил безумцу Когана.
Редактор Госиздата H. A. Брюханенко, увидав на одной из палаток надпись: «Здесь торгует писательница Таратута», спросила Владимира Владимировича, знает ли он такую.
– Да это не писательница, а припев: та-ра-ра-ра-ра-ту-та…
На этом же книжном базаре Наталья Александровна услышала о намерении Маяковского написать роман «Двенадцать женщин». Владимир Владимирович сказал, что уже заключил договор с Госиздатом на его издание, и прочитал Брюханенко эпиграф к роману:
О женщины!
Глупея от восторга,
Я вам
готов
воздвигнуть пьедестал.
Но…
измельчали люди…
и в Госторге
Опять я
пьедесталов
не достал.
Молодой сотруднице Госиздата Маяковский подарил пятый том собрания своих сочинений и, конечно, с автографом:
Наталочке Александровне.
Гулять
Встречаться
есть и пить
Давай
держись минуты сказанной.
Друг друга
можно не любить
но аккуратным быть
обязаны.
Это была не последняя их встреча, что и отразила Наталья Александровна в воспоминаниях «Пережитое».
А снег летит. Аркадий Гайдар стоял у входа в Дом Герцена и что-то шептал.
– Стихи сочиняете? – шутливо спросила Агния Барто.
Писатель отрицательно покачал головой.
– Разве прозаики тоже бормочут на ходу? – не унималась поэтесса.
– Не знаю, – буркнул Гайдар.
Барто понимала, что мешает, но ей хотелось блеснуть знанием писательского мастерства.
– Очень важно иметь запас предварительных заготовок, – просвещала она собрата по перу. – Маяковский пишет, что у него уходит на заготовки от десяти до восьми-десяти часов в сутки. И всё является для него объектом наблюдений.
– И для меня тоже, – сердито ответил Гайдар, глядя Барто прямо в лицо.
Сделав вид, что не поняла колкости, поэтесса подалась восвояси.
Аркадий Петрович с иронией относился к Барто, но после её поездки в сражающуюся с фашистами Испанию помягчал, и поэтесса пытала его:
– Кого слушаться? Ведь все говорят разное. Горький, беседуя с молодыми, сказал, что лучше всего учиться на миниатюрах, на маленьких вещах. Брюллов советовал художникам: «Пишите шире, шире, не вдавайтесь в миниатюрность».
– Всех надо выслушать, а потом, придя домой, работать по-своему, – отвечал Гайдар.
Писатель навсегда остался в памяти Барто как простой добрый человек, светлая личность. Поэтесса посвятила ему поэму «Двое из книжки»:
Про ваш мальчишечий народ
Уже он не напишет,
И во дворе не соберёт
Вокруг себя мальчишек.
Погиб писатель на войне
А снег летит, летит в окне,
А снег летит,
Всё снег да снег,
Протяжный свист метели.
«Чук-Чук и Гек,
Чук-Чук и Гек…» —
Колёса вдруг запели.
«Чук и Гек» – одна из повестей Аркадия Петровича для детей. Из других наиболее известных – «Тимур и его команда», «РВС», «Школа», «Военная тайна». Все они написаны в 30-е годы прошлого столетия, но подростки зачитывались ими и несколько десятилетий позже.
Не в своей тарелке. И. М. Гронский в 1925–1934 годах был заместителем, а затем главным редактором «Известий». В газете часто печатались стихотворения В. В. Маяковского, и Иван Михайлович хорошо знал поэта. Вот что он рассказывал о своих последних встречах с Владимиром Владимировичем.
«Одна из таких встреч произошла в Доме Герцена на одном из банкетов художников. Я заказал ужин. Приходит Маяковский. Он поздоровался со мной, я предложил ему сесть. Маяковский не сел, топтался на месте, жевал папиросу. Я говорю:
– Какая муха вас укусила?
– А что такое?
– Вы же явно в расстроенных чувствах.
Перекинулись несколькими словами, и неожиданно Маяковский меня спрашивает:
– Скажите, Иван Михайлович, будете вы меня печатать?
Я говорю:
– Владимир Владимирович, приходите ко мне в „Известия“, домой, если хотите, приходите, и мы с вами посидим потолкуем. Приносите всё, что вы написали, почитаем, обсудим и решим, что, где и как печатать.
Он продолжал стоять, топтаться на месте.
Я говорю:
– Знаете, Владимир Владимирович, а может быть, вам стоило бы отдохнуть? Поезжайте-ка куда-либо. Я вам дам командировку, деньги, всё вам устрою, что необходимо.
– Нет, я не поеду никуда.
– Может быть, стоит поехать за границу? Я вам командировку за границу дам.
– Никуда не поеду, никуда не поеду – такой был ответ Маяковского, сколько я его ни уговаривал поехать куда-либо».
Отойдя от Ивана Михайловича, поэт подошёл к столику, за которым сидели Асеев и Пастернак. Поговорив с ними минут пять, вернулся к Гронскому и к разговору о том, будут ли его печатать в «Известиях». Наконец ушёл. Тогда к Гронскому подсел Асеев:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?