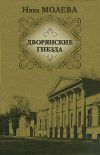Текст книги "Встречи на московских улицах"

Автор книги: Павел Николаев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Замоскворечье
Б. Полянка, 20. Сегодня под этим адресом числится Детская городская клиническая больница № 20 неотложной хирургии и травматологии имени К. А. Тимирязева. Когда-то её корпуса занимала Иверская община, основанная в 1896 году. Для нас она интересна тем, что в ней почти треть жизни работала H. A. Пушкина (1871–1915), внучка поэта.
Надежда Александровна была дочерью старшего сына Александра Сергеевича. После окончания ею петербургской гимназии княгини Оболенской семья переехала в Москву. Жили в Трубниковском переулке, 14.
Училась девушка хорошо, проявляла необычайную склонность к химии, но жизнь у нее как-то не сложилась. Мы ничего не знаем о том, на что ушла её молодость. Но можно определённо сказать, что что-то случилось, что-то толкнуло энергичную, полную сил 33-летнюю женщину фактически порвать со светской жизнью.
В 1904 году Надежда Александровна пришла в Иверскую общину учиться на фельдшерских курсах, а после их окончания осталась работать сестрой милосердия. Некоторое время была испытуемой, а вскоре стала «крестовой», то есть приняла обет безбрачия и целомудрия.
Служение сестер Иверской общины являлось безвозмездным. Это было первое условие их христианского призвания. Сестры не имели права принимать какие-либо вознаграждения ни от учреждений, ни от отдельных лиц. Одеждой им служили тёмно-коричневые платья и длинные белые передники, на голове – белоснежный платок, который подвязывался под подбородком. Фартуки сестёр выделялись большими красным крестами. На шее носился крест с изображением лика Богородицы и надписью «Сердоболие».
В общине Надежда Александровна, как говорится, нашла себя. Всегда подтянутая, одетая в хорошо отутюженное платье и накрахмаленный передник, она была примером для других сестёр, проявляя высокий профессионализм, доброту и сердечность.
Через пять лет после вступления в общину Надежда Александровна стала её настоятельницей. В годы руководства ею Иверской общиной были построены здание аптеки, терапевтический и хирургический корпуса, часовня, а также перестроено одноэтажное здание 1860 года, обращённое фасадом к Малой Якиманке.
В ноябре 1909 года сестры общины приняли на себя несение ночных дежурств в убежище для больных туберкулезом. Убежище находилось в Большом Спасском переулке. В него Марфо-Мариинская обитель помещала безнадёжно больных бедных женщин. В течение года сестры ухаживали за 65 пациентками, 35 из них выздоровели. С началом Первой мировой войны в Иверской общине начали формироваться добровольческие бригады из священников, врачей и сестёр милосердия. Они развертывали полевые стационарные госпитали на фронтах Западной Украины и Бессарабии. Надежда Александровна на фронт не выезжала, обеспечивая деятельность общины в Москве. Дел хватало: формирование полноценного сестринского состава бригад, контроль за работой сестёр, хозяйственные заботы.
Длительное перенапряжение (бессонница, переживания, перегрузки) скоро сказались на здоровье настоятельницы. 15 июня 1915 года Надежды Александровны не стало. Прожила она только 43 года.
В заключение надо сказать, что в отличие от большинства старых московских зданий, истории которых новые владельцы не знают и не хотят знать, в Детской клинической больнице № 20 помнят истоки своего прошлого. И в 1996 году здесь отметили 100-летие Иверской общины. Многие сотрудники больницы интересуются историей и литературой, любят произведения A. C. Пушкина. Больница поддерживает связи с потомками гениального поэта.
Вычеркнутая страница. И. Η. Кнебель, основатель издательства, выпускавшего с конца 1890-х годов книги и альбомы по русскому изобразительному искусству родился в заштатном галицийском городке Бучач. В тринадцать лет он ушёл из дома, поссорившись с отцом. В двадцать с небольшим окончил Коммерческий институт в Вене и двинулся в Россию, охваченный фатальной страстью к искусству (коммерция, а до нее медицина не интересовали его).
В Москве Иосиф Николаевич устроился в магазин иностранной книги Девриена. Изучал русский язык, что давалось ему легко (к концу жизни знал четырнадцать иностранных языков), знакомился с русской живописью и русскими музеями. Но жил он одной мыслью – о создании издательства. Как-то во дворе будущей Третьяковской галереи «изловил» её основателя и представился как австрийский подданный, любитель русской живописи. Обрушив на Павла Михайловича свои длительные раздумья о величии (и безвестности) русского искусства, Кнебель заинтересовал его. Третьяков пригласил Иосифа Николаевича в дом для обстоятельного разговора. Там спросил:
– Каким капиталом вы располагаете?
– У меня нет денег.
– То есть как нет? Совсем нет?
– Ни копейки.
– Не понимаю вас, молодой человек. Вы, по-видимому хотите увлечь меня интересным делом. Вы хотите, чтобы я вложил деньги в издательство. А что вы сами собираетесь делать в этом издательстве? Хотя… это не может меня интересовать, весь мой капитал в мануфактурной фабрике, а живопись я просто люблю, я коллекционер, трачу на нее деньги и не собираюсь ничего на ней наживать.
– Вы меня не поняли, – с отчаянием сказал Иосиф Николаевич, – я хочу издавать вашу коллекцию!
– Молодой человек, вы понимаете, что вы говорите? Как же вы будете издавать без денег? Как бы мало я ни разбирался в издательском деле, но ведь всякому ясно, что на это нужны бумага, печать, фотография…
И тут Кнебель рассказал о своем плане: он брался уговорить специалистов-фотографов сделать снимки в долг; он уговорит типографию дать бумагу и напечатать издание. Долги будут уплачены после продажи продукции. Издание, он гарантирует это, будет иметь оглушительный успех. Вся прибыль пойдёт владельцу картин.
Третьяков, который редко смеялся, расхохотался:
– А себе вы сколько оставите?
– Ничего, но зато я хочу получить полностью прибыль со второго издания.
– Знаете, молодой человек, – став сразу серьезным, сказал Третьяков, – вы или сумасшедший, или очень талантливый человек. Я скорее склонен думать, что вы сумасшедший. Я ничем не рискую. Я дам вам разрешение фотографировать картины своей галереи, но имейте в виду: никогда и ни при каких условиях не просите у меня денег.
– Мне ваши деньги не нужны, – уверенно заявил Кнебель, – и не я от вас, а вы от меня через год получите очень много денег.
Так и случилось. Без средств, при наличии лишь огромной энергии и неуёмной всепоглощающей любви к искусству и книге Кнебель создал первое в России издательство, которое в течение нескольких десятилетий пропагандировало богатства русского искусства. Оно находилось на Петровских линиях и немало содействовало развитию эстетического вкуса русской интеллигенции.
Кнебель издал альбомы гравюр и репродукций Айвазовского, Верещагина, Маковского, Орловского, Перова, Федотова, альбомы русских писателей и композиторов, пятитомную «Историю русского искусства» И. Грабаря. Он много сделал для высококачественного издания детской литературы. К оформлению детских книг привлекались Билибин, Нарбут, Серов и другие замечательные мастера. Издавались разнообразные пособия для школы. «Наглядность – основа обучения», – считал Иосиф Николаевич и издавал таблицы по истории, географии, астрономии, этнографии, зоологии и пр. Над пособиями работали художники Бенуа, Билибин, Добужинский, Кардовский, Лансере, Нестеров, Рерих, Серов.
После Октябрьской революции просветительская деятельность Кнебеля привлекла внимание Ленина, и его вызвали в Кремль.
– Здравствуйте, Иосиф Николаевич, – приветствовал Кнебеля председатель Совнаркома, – ну как, саботировать или работать?
– Работать, – без малейшего колебания ответил «буржуй».
– Я так и думал, – одобрил Ленин ответ. – Чудесно. А теперь, не теряя ни одной минуты, организуйте национализацию своего издательства. Нужна точнейшая опись всего имущества, издательского и типографского. В ближайшее время я вызову вас на заседание по организации Госиздата, и пояснил: – Самый крупный издатель-капиталист не может позволить себе такого размаха, такого тиража изданий, какие наметили мы – социалистическое государство.
Здесь нет никакого Алёши. В 1935 году у артиста Б. Н. Ливанова, будущего пятикратного лауреата Сталинских премий, родился сын. Борис Николаевич хотел назвать его Алёшей в честь писателя А. Н. Толстого, с которым очень дружил. Но не назвал – помешал досадный случай.
Как-то драматург Константин Тренёв устроил у себя на квартире званый вечер, на котором были оба приятеля. Толстой незадолго до этого представил в Художественный театр пьесу «Чёртов мост». Станиславский и Немирович-Данченко отклонили её.
Было обидно. А тут ещё раздражающий фактор – хозяин вечера, пьеса которого, «Любовь Яровая», с успехом шла на сцене Художественного. И Алексей Николаевич начал за столом громко сетовать на театр и договорился до того, что МХАТ кончается, изжил себя.
Тренёв забеспокоился и попросил Ливанова угомонить друга. Борис Николаевич поднялся с бокалом в руке и повёл речь о том, что Толстой (он назвал его Алёшей) гениальный писатель, но основатели Художественного театра – хозяева в нём и у них свои художественные принципы, которые мы не всегда понимаем. Тут писатель резко оборвал друга:
– Здесь нет для вас никакого Алёши. Вы обращаетесь к депутату Верховного Совета, члену Правления Союза писателей СССР Алексею Николаевичу Толстому.
Ливанов побледнел, но поправился:
– Товарищ депутат Верховного Совета, член Правления Союза писателей СССР Алексей Николаевич Толстой! К вам обращается народный артист РСФСР Борис Ливанов и хочет вам сказать, что ваша пьеса, – выдержав паузу, закончил: – дерьмо!
И друзья бросились друг на друга. Драка была нешуточной – участники званого ужина с трудом растащили вошедших в азарт не последних представителей отечественной культуры.
Небожитель. Драматург А. К. Гладков всю свою жизнь вёл дневник, в котором скрупулёзно фиксировал всё, что считал интересным в своей жизни. А интересовали его в первую очередь театр и литература. 11 ноября 1944 года Александр Константинович встретил на Пятницкой улице Б. Л. Пастернака. Борис Леонидович шёл к себе, то есть в Лаврушинский переулок. Гладков круто развернулся и последовал за поэтом. У дома 17 они остановились и проговорили около получаса. Пастернак сказал, что закончил перевод трагедии «Отелло».
– Не хотите ли вы перевести всего Шекспира? – пошутил Александр Константинович. Пастернак только махнул рукой и стал заверять собеседника, что больше не возьмет переводов. Гладков спросил о поэме «Зарево», отрывок из которой был опубликован 16 октября прошлого года в газете «Правда». И тут у Бориса Леонидовича было неладно: читал поэму A. A. Фадееву, и тот отсоветовал её продолжать.
– Он помолчал, усмехнулся и добавил, что у него на выходе две книги и пока не стоит рисковать их судьбой.
То есть содержание поэмы было таково, что, по мнению председателя Союза писателей, могло вызвать негативную реакцию и повлиять на издание других произведений поэта. А в 1943–1944 годах печатался он довольно активно: «Зарево» в «Правде», «Смерть сапёра», «Преследование», «Летний день», «Неоглядность» – в «Красной звезде», «Зима начинается» – в «Литературе и искусстве». Вышел отдельным изданием перевод «Ромео и Джульетты». Готовились к публикации книги «Земной простор» и сборник избранных стихотворений.
То есть рисковать всем этим ради ещё не написанной поэмы смысла не было. Но отказ от выношенного сюжета и насилие над собой угнетали. Настроение у Пастернака было неважное, и это нашло отражение в его послании поэту А. Е. Кручёных:
Я превращаюсь в старика,
А ты день ото дня все краше.
О боже, как мне далека
Наигранная бодрость ваша!
Но я не прав со всех сторон.
Упрёк тебе необоснован:
Как я, ты роком пощажён:
Тем, что судьбой не избалован.
И близкий правилам моим,
Как всё, что есть на самом деле,
Давай-ка орден учредим
Правдивой жизни в чёрном теле!
«Правда жизни!» – звучит, конечно, красиво, но где, когда, в каком царстве-государстве была эта правда? Оба понимали, что это химера, и перешли к конкретным вопросам текущей жизни:
– Говорили о разных злобах дня: о переизбрании Рузвельта в четвертый раз президентом, о боях под Будапештом, о замене в Малом театре Судакова Провом Садовским после разгромной статьи в «Правде», о постановке толстовского «Грозного».
– Вот видите, как мне не везёт, – с грустью заметил Борис Леонидович. – Судаков собирался ставить весной «Ромео и Джульетту»[10]10
Пастернак перевёл трагедию У. Шекспира на русский язык.
[Закрыть].
К «злобам дня» Гладков отнёс выход книги Шкловского «Встречи». Писатель встречался со многими знаменитостями, но не все прошли цензуру военного времени. Из книги исключили очерки о писателе М. М. Зощенко, композиторе Д. Д. Шостаковиче и изобретателе Костикове. Собеседники пришли к одному выводу: книгу изуродовали, от неё остались рожки да ножки. Беседу у подъезда дома № 17 завершили обсуждением слуха о том, что в правительстве решен вопрос о вступлении СССР в войну с Японией.
Подводя итоги очередной встречи с обожаемым им поэтом, Гладков записал в тот же день: «На этот раз Б. Л. меньше, чем когда бы то ни было, показался мне отрешённым от окружающей жизни, и я даже пошутил, что он не оправдывает репутации небожителя. Он рассеянно улыбнулся».
Московские дворы. В январе 1947 года Андрей Вознесенский, ученик шестого класса 554-й школы, познакомился с Б. Л. Пастернаком. Чем-то он понравился известному поэту, и на долгие годы между ними установились дружеские отношения. Борис Леонидович довольно часто звонил Андрею (иногда несколько раз в неделю), приглашал его к себе, ходил с ним в театр и другие учреждения культуры. Невольно Пастернак стал наставником и воспитателем своего юного подопечного. «Мы шли с ним, – вспоминал Вознесенский, – от Дома учёных через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шёл ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе[11]11
«Об уходе» – об оставлении Л. Н. Толстым 10 ноября 1910 года семьи и дома, об уходе его из Ясной Поляны.
[Закрыть], о чеховских мальчиках, о случайности и предопределённости жизни[12]12
Неплохие темы для беседы с подростком.
[Закрыть]. Его шуба была распахнута, сбилась на бок его серая каракулевая шапка-пирожок; он шёл легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была тёплая слабость снега, предвкушение перемен.
Как не в своём рассудке,
Как дети ослушанья…
Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.
– Надо терять, – говорил он. – Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо…»
Тут Андрей сказал, что в записях Блока есть место о том, что надо терять. Эту запись он сделал в связи со сгоревшей в Шахматове библиотекой.
– Разве? – удивился Борис Леонидович. – Я и не знал. Значит, я прав вдвойне.
Сокращая путь, они шли проходными дворами. У подъездов на солнышке дремали старушки, рядом сидели кошки. После ночных трудов отдыхали блатные, провожавшие странную пару затуманенными глазами. Вспоминая эту картину, Вознесенский с ностальгией писал в воспоминаниях «Волчий билет»:
«О эти дворы Замоскворечья! О мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом „Рио-Риты“ из окон и стертой, соскальзывающей лещенковской „Муркой“, записанной на рентгенокостях.
4-й Щипковский переулок! Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры!
Где вы теперь, кумиры нашего двора – Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы.» – с ностальгией говорит поэт.
К счастью, у подростка было увлечение – рано начал писать стихи. В четырнадцать лет у него уже была их целая тетрадь, и он недолго думая отослал её «соседу» – Б. Л. Пастернаку. Оба жили в Замоскворечье: Борис Леонидович – в Лаврушинском переулке, 17, Андрей – в 4-м Щипковском переулке. Пастернак что-то почувствовал в юном стихотворце и позвонил, а затем и пришёл (!) к нему. С этого дня началась их дружба.
«Он не любил, когда ему звонили, – говорил Вознесенский, – звонил сам, иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии. Говорил он взахлёб, безоглядно. Потом на всём скаку внезапно обрывал разговоры. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.
– Художник, – говорил он, – по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а уныние и размазня не рождают произведения силы».
– Ставил ли он мне голос? – задавался вопросом Андрей Андреевич и так отвечал на него: – Он просто говорил, что ему нравится и почему.
Борис Леонидович иногда приглашал подростка в гости, когда у него бывали знаменитости того времени: A. A. Ахматова, И. Л. Андроников, А. Н. Вертинский, В. Б. Ливанов, Г. Г. Нейгауз, Р. Н. Симонов, К. А. Федин… Андрей жадно впитывал все разговоры, которые велись за столом. Тут было чему поучиться и что перенять.
В январе 1947 года Пастернак подарил Андрею первую свою книгу. «„Надпись“[13]13
Надпись – фамилия автора на обложке и титульном листе книги.
[Закрыть] эта, – писал Вознесенский, – была для меня самым щедрым подарком судьбы».
С переездом Пастернака в Переделкино встречи с ним проходили на природе – в парках и на бульварах. 18 августа 1953 года в скверике у Третьяковской галереи Борис Леонидович говорил много и сумбурно:
– Вы знаете, я в Переделкине рано – весна ранняя бурная странная – деревья ещё не имеют листьев, а уже расцвели – соловьи начали – это кажется банально – но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать – и вот несколько набросков – правда, это ещё слишком сухо – как карандашом твёрдым – но потом надо переписать заново – и Гёте – было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне, склерозных – идёт, идёт кровь, потом деревенеет – закупорка – кх-кх – и оборвётся – таких мест восемь в «Фаусте» – и вдруг летом всё открылось – единым потоком – как раньше, когда «Сестра моя – жизнь», «Второе рождение», «Охранная грамота» – ночью вставал – ощущение силы, даже здоровый никогда бы не поверил, что можно так работать, – пошли стихи – правда, Марина Казимировна говорит, что нельзя после инфаркта – а другие говорят, это как лекарство – ну вы не волнуйтесь – я вам почитаю – слушайте.
И прочитал стихотворения «Белая ночь», «Август», «Сказка». Немного помолчав, заговорил о переводах:
– Мне мысль пришла: может быть, в переводе Пастернак лучше звучит – второстепенное уничтожается переводом – «Сестра моя – жизнь» первый крик – вдруг как будто сорвало крышу – заговорили камни – вещи приобрели символичность – тогда не все понимали сущность этих стихов – теперь вещи называются своими именами – так вот о переводах – раньше, когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика, переводы не удавались – они были плохие – в переводах не нужна сила форм – лёгкость нужна – чтобы донести смысл – содержание – почему слабым считался перевод Холодковского – потому что привыкли, что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи – мой перевод естественный – как прекрасно издан «Фауст» – обычно книги кричат – я клей! – я бумага! – я нитка! – а здесь всё идеально – прекрасные иллюстрации Гончарова – вам её подарю – надпись уже готова.
Вознесенский уже был студентом. Борис Леонидович говорил с ним как с состоявшейся личностью. Прочитав очередную тетрадь его стихов, заявил:
– Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они был моими, я бы включил их в свой сборник[14]14
В это время Пастернак готовил своё «Избранное».
[Закрыть].
…Размышляя в зрелые годы о причине привязанности великого поэта к нему, Вознесенский задавался вопросом: «Почему он откликнулся мне?»
И так отвечал на него:
– Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось вырваться из круга – и всё же не только это. Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину? Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нём.
На наш взгляд, тяга Бориса Леонидовича к Вознесенскому – подростку, юноше, молодому человеку объясняется во многом, как говорили раньше, и неким родством их душ.
Это очень заметно по дружественной надписи, сделанной Пастернаком на издании поэмы Гёте «Фауст», переведённой им:
«2 января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1 января.
Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, – большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас – Ваш Б. Пастернак».
Мечта поэта. В августе 1954 года в города европейской части СССР хлынул поток реабилитированных, возвращавшихся из-за Зауралья в свои пенаты. Среди них был и драматург А. К. Гладков, отсидевший шесть лет за чтение «не той» литературы. Первым, кого он встретил в Москве, был Б. Л. Пастернак. Произошло это в Лаврушинском переулке. Александр Константинович вспоминал:
– Уже слышал, что вернулись, – сказал Борис Леонидович, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих. – А я вот не исправился…
Фонетически это прозвучало по-пастернаковски: «А я воот не исправился…» Я обрадовался этим знакомым протяжным гласным как чему-то родному, утерянному и вновь обретенному. А семантически[15]15
Семантически – по смыслу.
[Закрыть] здесь подразумевалось то, что я, освобождённый из «исправительно-трудовых лагерей», предположительно «исправился», а он, Пастернак, за это время проделал «противоположный путь».
Гладков обрадовал Бориса Леонидовича сообщением о том, что уже читал его стихи из романа «Доктор Живаго», опубликованные в журнале «Знамя». Поведал и о том, что всё время заключения возил с собой однотомник поэта; и читал его стихи по утрам, первым просыпаясь в бараке, а если ему мешало что-то сделать это, чувствовал себя весь день как будто не умывался.
– О, если бы я знал это тогда, в те тёмные годы! Мне легче было бы от одной мысли, что я тоже там… – воскликнул Пастернак и заговорил о возобновлении Центральным театром Советской Армии постановки пьесы «Давным-давно»:
– Вот видите, я оказался хорошим пророком. Сколько перемен во всём, и в наших судьбах тоже, а ваша девушка-гусар всё ещё скачет по сценам, – и грустно добавил: – А мне не повезло в театре.
– Зато вам повезло в другом, ведь после постановки в Художественном театре вашего перевода «Марии Стюарт» родилась «Вакханалия».
Борис Леонидович улыбнулся:
– А вы её уже знаете? И, конечно, заметили, что она написана наперекор всему, что я писал перед этим и после?
Гладков поспешил тут же высказать мнение о новом произведении мастера:
– Это большое и сложное по содержанию стихотворение, вернее, маленькая поэма, кажется, написанная одним дыханием, в один присест, залпом.
Пастернак был доволен замечанием младшего коллеги и дал некоторые пояснения по созданию «Вакханалии»:
– Это хорошо, если так чувствуется, но не совсем верно. Я написал это почти в два приема, как пишу большую часть своих стихотворений. Но вы правы, оно было неожиданным для меня самого. Это прилив того, что обычно называют вдохновением. Знаете, бывает так: всю зиму в чулане стояла закупоренная бутылка с наливкой. Она простояла бы ещё долго, но вы нечаянно дотронулись до нее – и пробка вдруг вылетела. Эти стихи – моя вылетевшая пробка. Они удивили меня самого, но для меня ещё большая неожиданность, что они многим так нравятся.
…Среди рукописей Б. Л. Пастернака, оставшихся после его смерти, было найдено начало большой пьесы о крепостной актрисе, которую он писал в свои последние годы, так и не расставшись с мечтой о завоевании театра.
Душа поэта. В воспоминаниях о Юрии Карловиче Олеше драматург А. К. Гладков писал: «В начале мая 1958 года я стоял с Ю. К. у дома в Лаврушинском, где он жил. Он показал на одно дерево, самое нежное из всех, покрытое светло-зелёной, словно пуховой, листвой.
– Сморите! Смотрите на него! Ведь оно больше никогда таким не будет. Оно завтра уже будет другим. Надо на него смотреть. Может, я больше этого не увижу. Могу не дожить до будущей весны».
Долго находиться на одном месте Олеша не любил, и вскоре собеседники оказались довольно далеко от места встречи:
– Мы стояли на Москворецком мосту. Юрий Карлович привёл меня сюда, чтобы показать место, с которого лучше всего смотреть на Кремль.
Полюбовались древней цитаделью власти и двинулись дальше. Обошли Красную площадь. Говорили о литературе.
Олеша в это время работал над книгой «Слова, слова, слова…». Гладкову это название не нравилось, и он решился указать Юрию Карловичу на интонацию скептицизма, звучащую в этой фразе. Олеша энергично запротестовал. Он заявил, что слышит эту фразу иначе, что в ней для него – величайшее уважение к «словам», что для Гамлета, как и для поэта, «слова» – самое дорогое. И что книга его будет как раз о том, как дорого стоят слова.
– Как я постарел! – сетовал писатель. – Как страшно я постарел за эти последние несколько месяцев! Что со мной будет? Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она – только одна, что она короткая, но она родилась не в творческих, а в физических муках.
Целью последней книги Олеша ставил воссоздание своей жизни, но не в её хронологической и событийной последовательности.
– Хочется до безумия восстановить её чувственно, – говорил он. – То есть запечатлеть восприятие жизни не разумом, а чувствами, во всех оттенках и нюансах человеческих эмоций.
Олеша не был уверен, что закончит книгу: мешала работа над сценарием по повести «Три толстяка», принёсшей ему славу. Гладков советовал отказаться от сценария, Юрий Карлович не соглашался:
– Ничего не поделаешь, я уже взял аванс. Нужно писать. Да. Так надо!.. Так надо!.. – и бодрился: – Нет, всё будет хорошо. Правда? Я так думаю… Всё будет хорошо! Да?
…Свою последнюю книгу Олеша закончил. Вышла она под названием «Ни дня без строчки». Её издания Юрий Карлович не дождался. Его собеседнику повезло больше: и читал книгу, и писал о ней. Вот эти вдохновенные строки: «Истинный, а не внешний сюжет книги – это история восстановления разбитого на мелкие осколки того мира художественных впечатлений, наблюдений, образов и красок, который, в сущности, и есть единственное достояние каждого художника. Это книга собирания потерявшей себя души поэта».
Звонок с Лаврушинского. Неутомимый и страстный исследователь творчества М. Ю. Лермонтова И. Л. Андроников готовился к 150-летней годовщине со дня рождения великого поэта. Зная о том, что все мысли Ираклия Луарсабовича на данный момент настроены на юбилейные торжества, великая шутница, детская писательница Агния Барто, решила разыграть его. Позвонив Андроникову на дом, она старушечьим голосом начала свою игру:
– Извините, пожалуйста, за беспокойство… Я… старая пенсионерка… Не можете ли вы помочь мне… улучшить мое жилищное положение. В связи с юбилеем… Михаила Юрьевича Лермонтова… Я его родственница.
– Родственница? – воскликнул Андроников. – По какой линии?
– По линии тёти.
– А какое колено?
– Четвёртое, – говорит Барто наугад.
– Вы не ошибаетесь?
– У меня есть доказательства.
– Скажите, а нет ли у вас писем Лермонтова?
– Письма есть, – медленно тянет слова «родственница» поэта, – маленькая стопочка и стихи там небольшие… В сундуке.
– Разрешите, я сейчас к вам приеду? – взволнованно говорит Андроников.
– Сейчас поздно… десятый час… Мы с сестрой рано ложимся, сестра ещё старше меня.
– Тогда завтра с утра я у вас буду.
– Знаете… нас с сестрой завтра утром повезут в баню. Вы после двух, пожалуйста.
– Спасибо, буду после двух, – нехотя соглашается Андроников. – Только до моего прихода вы никому не звоните.
– Зачем же? – успокаивает его Агния Львовна. – Запишите адрес: Лаврушинский переулок, 17.
В ажитации от небывалой удачи Ираклий Луарсабович не отреагировал на названный ему адрес и спросил, как имя-отчество звонящей. Барто назвала себя. Последовала длительная пауза, а затем:
– Это жестоко!
Но через мгновение уже смех и оценка розыгрыша:
– Как я попался! Нет, это грандиозно!

А. Барто
По мнению Барто, хорошо знавшей Андроникова, он был проницательным и далеко не наивным человеком, но в то же время доверчивым. Агния Львовна не раз вводила его в заблуждение и даже завела «летопись» розыгрышей. Об успехах Барто на этом поприще прослышали даже за рубежом. Как-то в Париже на заседании Международного жюри незнакомый француз сказал ей:
– Мы всё про вас знаем! Вы пишете стихи, ищете по радио детей и родных, разлучённых войной, и разыгрываете Ираклия Андроникова.
Последние встречи. Писательница Н. И. Ильина за одиннадцать лет своего знакомства с A. A. Ахматовой довольно часто встречалась с ней. Однажды Анна Андреевна поведала своей поклоннице о двух встречах с М. И. Цветаевой, которые произошли в июне 1941 года. Инициатива исходила от Марины Ивановны, которая дала свой телефон Б. Л. Пастернаку для передачи Ахматовой. Анна Андреевна рассказывала:
«Звоню. Прошу позвать ее. Слышу „Да“.
– Говорит Ахматова.
– Слушаю.
Я удивилась. Ведь она же хотела меня видеть? Но говорю:
– Как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придёте?
– Лучше я к вам приду.
– Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться.
– А нормальный человек сможет объяснить ненормальному?
Пришла на другой день в двенадцать дня, а ушла в час ночи. Сидели в этой маленькой комнате. Сердобольные Ардовы нам еду какую-то присылали. О чём говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чём люди говорили, не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня:
– Как вы могли написать: „Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар…“? Разве вы не знаете, что в стихах всё сбывается?
– А как вы могли написать поэму „Молодец“? – возразила Анна Андреевна.
– Но ведь это я не о себе!
– А разве вы не знаете, что в стихах – всё о себе?
На другой день в семь утра (Цветаева вставала по парижской привычке рано) позвонила по телефону, что снова хочет меня видеть. В тот вечер я была занята, собиралась к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марьину рощу. Марина сказала:
– Я приеду туда.
Пришла. Подарила „Поэму воздуха“, которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли от Харджиева вместе. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах. Только в трамвае. Или уж пешком.
Я шла в Театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Ольшевская[16]16
Н. Ольшевская – жена писателя В. Е. Ардова.
[Закрыть]. Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина».
К рассказу Ахматовой надо, по-видимому, добавить, что в первый день встречи с Мариной Ивановной они не только разговаривали тринадцать часов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?