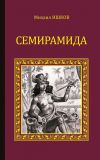Текст книги "Иона. Эдип-цареубийца"

Автор книги: Петер Хакс
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Падение: «Магомет». Драмы эпохи Людовика XV
(1743–1757)
Трагедия «Магомет» вроде бы движется по привычной колее. Мы наблюдаем восстание крупного полководца, который ведет провинцию на столицу, намереваясь устранить королевскую династию и установить диктатуру высшей аристократии. Как обычно, речь идет о войне между королем и фрондой, и, как обычно, речь идет о судьбе дофина. Но дело кончается хуже, чем обычно.
«Магомет» был сыгран один раз для избранной публики в 1741 г. вне Парижа. В 1742 г. должна была состояться премьера, но представление было запрещено. Предлогом для запрета послужило, разумеется, то обстоятельство, что великий полководец, о коем повествует пьеса, является основателем религии. Говорить о «Магомете» – значит говорить о религии, и не в одном аспекте, но минимум в пяти.
Религия, если понять пьесу буквально, это ислам. Негодяй Магомет – враг христианства, и потому, уверяет автор, справедливо называется чудовищем. Но кардинал Флери отнюдь не понял пьесу буквально. Он хоть и лежал тогда уже на смертном одре, но сохранял ясный ум.
В «Магомете» вообще не идет речь ни о пророке, ни об изобретенной им вере. Но если бы и шла, пьесу все равно следовало бы запретить. Основатель религии есть основатель религии, и Откровение есть Откровение. Ворон ворону и кардинал мулле глаз не выклюет. Но «Магомет», разумеется, пьеса о христианстве и, разумеется, пьеса о политике. О продолжении политики христианскими средствами. Для власти нет ничего более предосудительного. Неудивительно, что регент пьесу запрещает. Убеждать, что Магомет – язычник, а город Мекка затерян в песках какой-то далекой пустыни значило бы, в самом деле, недооценивать цензуру.
То, что Вольтер говорит об отклонении от французского государственного католицизма, которое он осуждает в «Магомете», целиком и полностью совпадало с линией правительства. А не совпадало с линией правительства то, что он в принципе затронул вопрос о фрондирующем богословии и богословской фронде. Вероятно, Вольтер не чувствовал за собой никакой вины. Возможно, он твердо рассчитывал на успех у кардинала. Он столь мало принимал всерьез христианство, что отнесся к нему как ко всем прочим политическим лозунгам, и как раз это оттолкнуло кардинала. Совершив эту грубую ошибку, Вольтер грубо вмешался в тонкое дело кардинала. Не в религию, а в политику.
(Недостаток религиозной метафоры в том, что ее можно запретить, не приводя особенных резонов. До сего дня все драмы, где христианство названо по имени, остаются несыгранными. Христианство, чем бы оно ни было, это тема, которую театр обходит стороной).
Поношение религии не является целью «Магомета». Упрек адресуется фанатизму и обману просто как дурному поведению, как уродству в человеческих отношениях. Исследуется не роль безумия в благочестии. Исследуется роль безумия в истории.
Но все же вопрос о религии Вольтер не мог обойти, ибо многовековая борьба сословий против монархии велась, прежде всего, в форме религиозной распри. Шла атака фронды на трон Людовика XV, а выдавалось это за протесты против антиянсенистской буллы “Unigenitus”. Общественные силы находились в состоянии войны, а выглядело это как склоки ультрамонтанов, галликан и янсенистов. Вольтер выполнял просьбу Флери выступить против этих последних; и Флери не пришло в голову, что Вольтеру придет в голову сделать это в театре. Иезуиты вели отчаянную борьбу за суверенную корону, а ее уже больше не существовало. С этой фракцией католицизма Вольтер всегда находился в хороших или, по крайней мере, в терпимых отношениях.
Папа Бенедикт XIV не раз придет на помощь Людовику и Вольтеру. Он подарит Франции Святой год 1751, он смягчит “Unigenitus” компромиссной энцикликой и попытается найти умеренное решение вопроса об иезуитах. Уже в 1746 г. он позволит Вольтеру посвятить «Магомета» своей особе. Этим ручательством он обеспечит Вольтеру прием в Академию, во всем остальном усилия папы потерпят провал. Парламент останется неумолимо янсенистским. Помпадур будет упорствовать в своей антипатии к иезуитам. Людовик проявит прежнюю беспомощность. Церковную битву, как всякую классовую борьбу, не удалось снять с повестки дня.
Даже ручательство папы Бенедикта, что Вольтер – надежный монархист, было сформулировано косвенно: он, де, благочестивый христианин.
Вольтер, не веривший в Бога, был благочестивым христианином в том смысле, в каком понимали благочестие все заинтересованные стороны. Ибо государственная религия ничего не говорит о Боге. Она является знаковой системой, в пределах которой выражают свои взгляды общественные группы, и не содержит никакого символа веры, никакой формулы, к которой можно примыслить содержание. Такое христианство не есть исповедание Бога, это – исповедание короля. Философский атеист Вольтер политически вполне мог быть христианином.
Среди смехотворных ужасов, нагромоздившихся при смерти поэта в Париже, самым смехотворным был спор попов за право обращения поэта. Но сюда же относятся и увертки Вольтера, и его полусогласия на исповедь, которую он все-таки постоянно откладывал. За вопросом, причисляет ли он себя к прихожанам церкви, стоял вопрос, причисляет ли он себя к сторонникам абсолютизма. Он причислял. Для абсолютиста существуют аксиомы: неколебимые постулаты, опоры понимания мира. До тех пор пока Франции суждено было иметь короля, Вселенная должна была иметь Бога. Если мыслить политически, аналогия напрашивалась сама собой. Для Вольтера было точно так же невозможно подвергать сомнению институт католической церкви, как, например, считать, что в общем-то одаренный драматург Шекспир может быть равным Расину. Если бы Вольтер явно признался в неверии, он был бы тут же “вышвырнут на живодерню”, как его приятельница Адриенна Лекуврер. Он не желал этого.
На живодерне человека пожирают собаки, а того, кто после смерти оказался в собачьих желудках, по поверью, ждут крупные неприятности на Страшном суде: откуда прикажете ему восстать, когда вострубят архангельские трубы? Я, однако, полагаю, что не это соображение было главной заботой Вольтера. Он придавал значение тому, чтобы его труп – как при жизни его дух – избежал всякого отщепенства и был предан достойному погребению. И если он вместо этого в 1791 г. оказался в Пантеоне, а затем в 1814 г. все-таки на живодерне, то такова была его судьба, но не его цель. И там, и там он чувствовал себя не на месте.
Я попытаюсь, наконец, рассказывать по порядку. Пока что умирает не Вольтер, а кардинал, проклявший «Магомета»…
Кто правит Францией?
Ах да, король.
У Флери не было преемника. Но была некоторым образом преемница – маркиза де Помпадур, получившая в 1745 г. титул официальной любовницы. Она неплохо обслуживала короля.
О Людовике XV нам известно, что он был человеком полнокровным: так было принято характеризовать мужчин, выделяющих большое количество спермы. Как сосуд для принятия едва удержимого семени Людовика Помпадур совершенно не годилась. Эта любовь, которая не была страстью, зиждилась на родстве душ и совместной работе. Если любовь – это отношения, когда двоим не скучно друг с другом, то их любовь была великой.
Фактически Помпадур трудилась для Людовика на рабочем месте, которое сегодня называлось бы должностью премьер-министра. Сами министры – до чего докатилась Франция! – либо не играли никакой роли, либо просто были врагами монарха. Вся власть принадлежала королю и маркизе, и как было бы прекрасно видеть Вольтера третьим в этом союзе. Тот, кто питал бы такую иллюзию, желал бы Франции блестящего расцвета. Вольтер питал эту иллюзию и желал Франции блестящего расцвета. Можно быть гением и человеком слегка не от мира сего.
В этой ситуации положение Вольтера при дворе должно было определиться так или иначе. Если Вольтер мог стать великим поэтом Франции, значит, он стал бы им теперь. Если Вольтер не становился теперь поэтом Франции, значит, он не был им никогда. Либо он – пророк отечества, либо – враг государства. Либо он – Расин Людовика XV, либо подлежит изгнанию на вечные времена. Вот о чем шла речь с 1743 по 1750 г. Начало было небезнадежным.
Помпадур любила писателей, философов и банкиров, то есть те искусства, в которых есть некое содержание. Людовик предпочитал живописцев, садовников и архитекторов – искусства, в которых нет содержания. Он также не разделял пристрастия Помпадур к театру, да и как может тот, кто за все отвечает, ценить жанр, который ставит все под вопрос? Таким образом, Вольтер пользовался покровительством Помпадур. Существует постоянно наблюдаемое разделение труда между деспотом и его соправительницей: женщина претендует на право исполнять свои женские капризы и, кокетничая с оппозицией, поддерживает с ней контакт. В 1745 г. Помпадур заказала Вольтеру оперу «Храм славы», в которой Людовик был представлен ролью Траяна. Траян, как тогда еще помнили, был величайшим из императоров в лучшем из столетий. Следовательно, Вольтер получил повышение в должность придворного историографа. Еще в 1743 г. он был запрещен, а уже в 1745 г. назначен королевским летописцем. Если вас это удивляет, значит, вы не понимаете, в чем заключается мировая роль придворного поэта. В 1746 г. он добился придворной должности камергера, теперь он стал “дворянином короля”. В том же году он получает кресло в Академии и – более того – комнату в Версале. Не было ничего более дефицитного и желанного, чем комната в Версале. Это означало бесплатное питание и жилье, и в Версале имелась превосходная библиотека. Здесь он мог продержаться, здесь он мог спокойно встретить старость и исписать столько бумаги, сколько его душе было угодно. (Кстати, ему все еше выплачивали ренту, присужденную за «Эдипа», и он получал ее до конца дней). Что же не сработало?
Понятно, что противники Людовика, которые не посмели тронуть самого короля, нанесли удар по фавориту. Противники Людовика – это аристократия, судебное сословие и духовенство, это “ханжеская партия” королевы и буржуа-янсенисты, это глава адмиралтейства и военный министр; несмотря на взаимную ненависть, они были едины в своей ненависти к государству. Курьезным образом среди них замешался Фридрих Великий Прусский, который желал перевербовать Вольтера и потому сеял недовольство им, где только мог.
Но противники короля не имеют власти свергнуть поэта короля. Это сумел сделать только король.
Тем временем произошли две битвы и два поражения. Людовик в последний раз сражается с парламентом за абсолютную власть и проигрывает битву. Вольтер борется за ранг государственного поэта и мыслителя и, как кажется, проигрывает битву. Но оба раза это одно и то же сражение, и его дважды проигрывает Людовик. Поражение Вольтера следует из поражения Людовика. Расставание Вольтера со двором следует из расставания Людовика с абсолютизмом. Только победоносный король имеет силу терпеть рядом с собой приверженца по имени Вольтер.
Вольтер не бросает Людовика XV и не считает его бездарным. В «Эдипе» он показывает причину его невезения. Этой причиной является убийство Лая. Шанс усмирить сословия, как сумел это сделать Людовик XIV, был упущен регентом и больше не представится. Вольтер давно знал, чем это чревато для Франции и для него самого, и сказал об этом. Но как же он был ошарашен, когда потом все так и произошло.
Поворотным в карьере Вольтера был год 1747.
Со стороны это выглядит так. Вольтер отпускает шутки, которых не следовало бы отпускать, и в 1748 г. вынужден отправиться к королю Станиславу, то есть снова в полуизгнание, в далекую провинцию. Его старым пристанищем является Сире в Лотарингии, замок маркизы дю Шатле, точнее, маркиза дю Шатле, но Вольтер берет на себя расходы по содержанию обоих: и супруги маркиза, и его замка. С этого момента его карьера стремительно движется вниз. Поэт отечества становится изгнанником отечества.
Решение Вольтера отправиться в Берлин, в Пруссию (1750), несомненно, было ошибкой. Вольтер не имел в виду окончательного разрыва с Людовиком, но Людовик понял, что окончательно разрывает с Вольтером, и запретил ему въезд в столицу.
До сих пор я не упоминал о прежних ссылках Вольтера; это были вечные отъезды-приезды. На сей раз его выслали окончательно и бесповоротно. Вольтер увидит метрополию еше только один раз, когда вернется в Париж, чтобы там умереть.
Предпоследняя остановка на пути из столицы мира в ничто изгнания: 1755 год, республика Женева. Свободная Швейцария уже тогда весьма неприязненно относилась к иммигрантам-беженцам, но Вольтеру удалось найти под городом поместье на берегу Роны. Он купил его за большую цену и назвал “Les Delices”. (Что можно бы перевести как “Приют блаженства” или “Сад наслаждений”, но название содержит и другие смыслы).
Когда отношения между Вольтером и Людовиком XV стали невыносимыми, Помпадур писала поэту в одном из писем: “Судьба великих людей – клевета при жизни и восхищение после смерти, не так ли? Вспомните, что пришлось претерпеть Расину, Корнелю и прочим. И с Вами дело обстоит ничуть не хуже”. Это “прочим” звучит в высшей степени по-королевски. Но, судя по письму, в 1747 г. всем было ясно, что́ именно было поставлено на карту. На карту было поставлено существование Вольтера в литературе и при дворе (я остерегаюсь разделять эти две сферы). Вероятно, утешение было искренним. Самодержец может позволить себе многое; но он не может рисковать своим небольшим влиянием, продвигая нелюбимого поэта.
Что говорить, бывали изгнанники, которые жили хуже. Вольтер был предпринимателем, ростовщиком и обладателем миллионов в золотых монетах; у него хватило средств приобрести “Les Delices”, приобрести в пожизненное пользование маленькое княжество Ферме – конечную остановку на его пути вниз от национального поэта до эмигранта. И вообще, разве изгнание – это кара? А не подарок судьбы? Материальное благополучие и спокойный труд на лоне природы – многим художникам это кажется благословением. Насколько мучительной, насколько тяжелой была кара изгнания? Для Вольтера она была высшей мерой наказания.
В централизованных государствах художники стремятся в столицу. В деспотических централизованных государствах их тянет ко двору. Двор – это место, где рискуют головой; именно туда они и хотят попасть. Овидий хотел к Августу, Шостакович хотел к Сталину. Это звучит странно, но тому есть причины. Одна причина – это опасность закоснеть вдали от двора. Провинциала раздражает не то, что в своей оторванности от столицы он не получает никаких новостей; его угнетает собственное неумение отличать главное от второстепенного. Человек в столице пренебрегает той пеной, которая вздымается вокруг него. Провинциал боится что-нибудь пропустить. Самая худшая форма провинциальности – страх отстать от жизни, когда человек начинает прислушиваться к сплетням и толкам из города. Только находясь в центре, можно пренебрегать центром. Художник должен целиком и полностью презирать моду. Вот почему он должен обитать рядом с ней.
Другая причина делового порядка. При дворе художник достигает известности, особенно такой, которая ведет к гонорарам. Когда вы создадите себе имя при дворе, оно будет цениться повсюду. В наши дни работа двора по формированию общественного мнения выполняется средствами массовой информации.
Тот, кто принят при дворе или популярен благодаря СМИ, тот преуспевает, даже не прилагая больших усилий. Кто попадает в опалу при дворе, или тот, кого отвергают СМИ, не добьется успеха несмотря ни на какие усилия. Столь разумно объясняется парадокс придворного художника. Тиран может приказать перерезать ему глотку, и все-таки художник подставляет свою глотку, чтобы все увидели его в ложе рядом с королем.
Пять правителей (четыре француза и один немец) в разное время повелевали поэтом Вольтером, и лишь один Людовик XIV не сажал его в тюрьму и не высылал. Вероятно, потому, что в момент смерти Людовика XIV Вольтеру был всего двадцать один год. Похоже, Вольтеру была свойственна некоторая неуживчивость. Следует заметить, что причиной его неприятностей никогда не бывала написанная им трагедия. Обычно он страдал из-за эпиграммы или остроты, которую отпускал вечером и распространял утром. Там, где у него не было врагов, он спешил их нажить. Вольтер был тщеславен. Всем хочется думать, что Вольтер пал жертвой своего тщеславия.
Но тщеславие для француза – добродетель, а не порок. Он без стеснения выставляет напоказ свои достоинства, тем самым признавая за обществом право на злословие. Тот, кто позволяет восхищаться собой, позволяет и осуждать себя. Вольтер принимает правила игры двора. Выходить на первый план – это придворная обязанность. Хвастаться – не значит гордиться. Это не жест превосходства, а почти знак верноподданности. “Больше казаться, чем быть” – девиз эпохи барокко. Простота, прямота, непритязательность – удел буржуа и мелких дворян, то есть оппозиции. Если Вольтер прошляпил благосклонность двора, то виной тому его тщеславие, самое придворное из его качеств. Если тщеславие Вольтера и заслуживает порицания, то потому лишь, что и в этой добродетели он превзошел других придворных.
Тщеславие изгнало Вольтера из Парижа. Тщеславие влекло его в Париж. Для человека с таким характером пребывание в самых превосходных сельских поместьях и княжеских замках почти ничем не отличается от заточения в Бастилии.
Изгнание для Вольтера невыносимо, и вот он, не зная удержу, расписывает его преимущества. Начиная с середины 30-х годов, он бахвалится своим сотрудничеством с Шатле и прямо-таки до небес возносит счастье прозябать в глуши Сире. В «Альзире» Вольтер (под именем Заморе) говорит:
Что дать тебе могу? Лишь сердце. Им владей.
Ты в глушь со мной бежать согласна от людей?
Разумная Эмилия на это отвечает:
Мой дух с тобой общаться может и в глуши.
В «Семирамиде» Эмилия (под именем Альземы) повторяет это предложение Вольтеру (каковой мечется там под именем Ниния):
Пустынная земля – любви взаимной лоно
Заменит царский двор и славу Вавилона.
Видите, насколько сломлен этот поэт? Теперь я рискну предложить окончательный вариант перевода французского “Les Delices”, Мне кажется правильным самое скромное в своей двусмысленности значение: “Les Delices” означает “место, где можно жить”.
Париж, говорю я, это святыня Франции и место поклонения ее пилигримов, это Мекка французов. В «Магомете» так прямо и сказано. Пьеса без обиняков повествует о смертельной вражде между королевской властью и аристократией. Обе стороны, сохраняя честь мундира, демонстрируют крайнюю степень враждебности.
Король, который самодержавно царит в столице песков во имя “добродетели, природы и истины” – более чем монарх. Это шериф сената Мекки. Монархия представляется чем-то вроде народного государства, монарх – чем-то вроде первого консула, двор – чем-то вроде палаты сенаторов. Титул Наполеона “император республики”, оказывается, был отлично знаком французам. Людовик XIV выступает на этот раз не как привидение, но как идея – идея общественного дела.
Напротив, враг короля может отказаться от всех династических ужимок и отвратительных предлогов, какие в свое время стал бы приводить регент. Он наносит удар, ибо таково его желание, он не скрывает своих узурпаторских стремлений и часто гордится низменностью своих целей. Магомет, изгнанный из Мекки заговорщик, становится в провинции главарем банды разбойников и теперь желает захватить трон. Он разжигает “пламя партийного духа”, им движет “жажда почестей”. Он – идея отрицания. Он – фронда во всем ее великолепии и опасности, чудовище, монстр, беспощадный, блистательный, смертоносный.
Так и хочется сказать, что зло идет войной на добро.
Однако как театральные законы Буало, так и законы исторической действительности требуют, чтобы “гражданская война” не могла найти разрешения в открытом бою. Магометова армия кочевников и варваров сидит где-то далеко, в своих владениях, он не имеет ее под рукой. Сначала он ведет атаку дипломатическими средствами: предлагает “перемирие” – как раз такое, какое король и парламент снова и снова заключали в течение всего XVIII века, имея в виду нарушить его при первой возможности. Однако большинство придворной аристократии держит сторону короля против Магомета.
В этом патовом положении вводится новый способ борьбы: заказное убийство. Обе стороны решают устранить предводителя противника и готовят покушение. Гражданская война ведется в форме убийства и контрубийства во время переговоров на высшем уровне.
Как образец придворного натурализма «Магомет» – предостережение и пророчество, картина ужасов, которыми грозит власть победивших янсенистов. Как образец поэтической притчи “Магомет” показывает все ужасы партийных перегибов и морального беспредела. В государстве наблюдается падение нравов, в политической жизни утеряна всякая порядочность. Лесть и ханжество стали обычным стилем общения. Порок воспринимается как норма и правило. Убийство из-за угла, о котором идет речь, когда речь идет о «Магомете», надо понимать в двух смыслах.
Во-первых. Имеется в виду главная сцена пьесы – покушение в четвертом акте. У пророка есть двое молодых приверженцев: Сеид и Пальмира. Они любят друг друга, не зная, что состоят в кровном родстве. Дело в том, что они – брат и сестра, сын и дочь шерифа Мекки, которого им поручено убить. Этот омерзительный Магомет уже перед кровавым злодеянием отравил наемного убийцу Сеида медленно действующим ядом и собирается обесчестить Пальмиру, поклоняющуюся ему как богу. Итак, эти двое – заранее обреченные на смерть орудия преступления – исполнены веры в святое дело Магомета. Они убивают своего отца в великолепной сцене узнавания, где все и открывается: слишком близкое родство убийц между собой и жертвой, а также гнусность подстрекателя. Так “сеидизм” стал именем нарицательным. Оно означает преступление, совершенное фанатиком ложной веры из преклонения перед кумиром.
Во-вторых. Вводя мотив теракта в политический театр, Вольтер еще раз предвосхищает событие, которое произойдет через пятнадцать лет: покушение сумасшедшего Дамьена на Людовика XV. Тайные пружины этого покушения, как тайные пружины всякого покушения, так и остались невыясненными; ясно лишь, что Дамьен был за свободу, то есть за фронду. Вольтер давно понял, что раздор между короной и парламентом носит антагонистический характер и со временем обострится. Вот почему он выбирает тему идеологического террора, “фанатизма”. Контрабсолютизм заявляет о себе как религиозная война, как война кинжалов, как война средств информации и убийц. “Мадам, – сказал жене Людовик, счастливо избежав смертельного удара, – я убит”. Дальнейший ход истории показывает, что так оно и было. Он мог бы вычитать это уже в «Магомете», если бы не запретил пьесу.
(Для тех, кому доставляет удовольствие сопоставление дат и проведение аналогий, заметим, что в том же 1756 г. Людовик XV получил еще один удар в спину. В этом году было два покушения, их совершили Дамьен и Фридрих Великий. Фридрих, которому бросился в голову английский хмель, вдруг предательски разорвал союз и толкнул Францию в пропасть Семилетней войны).
«Магомет» – трагедия французского самодержавия. Вот почему я считаю эту драму ключевой для эпохи Людовика XV. За два года до обнадеживающего начала его правления она рассказывает о его безнадежном финале. Прогноз Вольтера предельно пессимистичен. В трагедии «Семирамида» фронда не уничтожена, она продолжает действовать, но победу – хотя бы на сцене – еще одерживает идея короля. Трагедия «Магомет» уже выводит в качестве заглавного героя злодея, и в ней одерживает победу фронда. Государство и доверие преданы. Заключительные стихи вольтеровских драм всегда важны. «Мир, – гласит заключительная фраза “Магомета”, – принадлежит тиранам».
Трагедия отчаяния – последняя ступень высокой трагедии классицизма. Во всех следующих драмах Вольтер стремится соотнести привычные с юности сюжетные схемы с реалиями деградации общества; эти пьесы обнаружат своеобразный сплав неуверенности и усталости, но перестанут быть классическими трагедиями. Вольтер станет очаровательнее, но не станет лучше. Его шедевры были написаны в то время, когда Людовик XV обладал максимальной полнотой политических возможностей, когда Франция переживала свой звездный час. Две трагедии Вольтера, без которых не может обойтись даже самая убогая театральная культура, – это «Семирамида» и «Магомет». Страна, не имеющая их в репертуаре, не имеет репертуара.