Текст книги "Воспоминания"
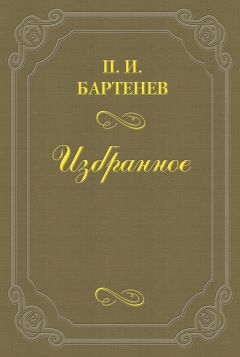
Автор книги: Петр Бартенев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
В старину деньги ценились очень дорого и все норовили не тратить покупного; отвезти меня из Липецка до Рязани и потом из Рязани в Липецк (250 верст) было довольно дешево. В огромную бричку впрягалась тройка крестьянских лошадей, которыми правил их же хозяин, а на козла садился наш буфетчик, старый папенькин Костромич Прокофий; я же благодушествовал в бричке, в которую наложено было много овса. На первой стоянке откладывалось в постоялом дворе точно такое же количество овса, которое употреблено было лошадьми; на 2-й тоже и т. д. до самой Рязани. А на обратном пути Прокофий останавливался на тех же самых станциях, где лежал запасенный овес. Таким образом платить приходилось только за сено, да по 30 коп. за постой с самоваром. Помню, как однажды остановились мы ночевать в поле и на маленьком костре согревали бывшие у нас в изобилии домашние снеди. Еще памятна мне зимняя к Рождеству поездка домой. Поднялась метель, и мы кое-как добрались до Раненбургского сельца Колыбельского. Пристали к курной избе, освещенной лучиною, баба пряла пряжу и распевала духовные песни про Алексея Божьего человека. Мне пришлось лежать на полу в предупреждение от угара на другое утро, когда дымом наполнялась курная изба. Покойный Кокорев[6]6
Кокорев Василий Александрович (1817–1889) – предприниматель, разбогатевший на винных откупах.
[Закрыть] устроил у себя две таких избы, разделенные сенями; когда топилась одна, переходили в другую, и Кокорев уверял, что не бывает в жилых помещениях более здорового воздуха. Я рассказал о том однажды двум врачам в Английском клубе, и они подтвердили мне верность этого заключения. По стенам избы виднелись отблески накопившейся сажи. Я не чувствовал от всего этого ни малейшего стеснения, но уже тогда любил вставать рано, чтобы будить Прокофия к дальнейшему пути. Это, впрочем, происходило не столько от свойственной мне торопливости, как из желания поскорее увидеть своих. В какой восторг приходил я, когда, наконец, показывалась вдалеке крыша нашего прекрасного Липецкого собора.
Из гимназической жизни припоминаю, между прочим, что в один год меня почему-то отпустили домой на ваканцию несколькими днями позже обыкновенного. В это время из Липецка уезжал в Москву наш добрейший и пьянейший доктор Миллер. Маменька попросила его заехать в Рязань ко мне в пансион и проведать обо мне. На ту пору у нас умер один из учеников Матвеев. Миллеру в пансионе сказали про его кончину, а он спьяну разобрал не Матвеев, а Бартеньев и, возвратившись в Липецк, стал осторожно приготовлять наших к известию о моей кончине. «Ну, что его жалеть сестрица, ведь он хроменький». Послали за отцом Матвеем и отслужили панихиду по отроку Петру, а он в тот же день явился домой, и маменька чуть ли не усерднее прежнего вытирала мне лицо творогом с приказанием не стирать его до завтрашнего утра и тем избавиться от загара.
Помню еще в пансионе кончину жены инспектора Шиллинга. Ее хоронил весь пансион и, за неимением пастора, богослужение совершал наш законоучитель Яков Павлович Алешинский и чуть ли не говорил по ней речь, похвал в которой она заслужила, ибо действительно была женщина добрая и кроткая. Другая смерть была нашего учителя географии Янышева, молодого человека, учившего нас всего несколько месяцев; он был друг и товарищ Крастелеву, и они вместе определились к нам из Московского Университета. Тут я в первый раз увидал разлагавшийся человеческий труп, что надолго осталось у меня в памяти. Янышева хоронили также Яков Павлович, наш пансионский и приходский от церкви Николы Дворянского священник, человек с властью над душами и глубоко искренний в благочестии, но вовсе не елейный и подчас тоже выпивший, в каковом виде иногда приходил и на уроки; но никому из нас не приходило в голову над ним посмеяться. Субботния всенощныя были скучноваты, после них обыкновенно производилась экзекуция, т. е. попросту виноватых секли. До 3-го класса я много шалил, но Шиллинг грозно объявил мне, что если я не исправлюсь, то буду высечен. Шутить с Немцем не приходилось, и на следующую пересадку из последних учеников я быстро подвинулся вперед и затем числился все выше и выше. С 4-го класса начал благодетельно действовать на меня незабвенный и дорогой Александр Григорьевич Крастелев, сын священника, Смольянин, по университету приятель известного Павла Ефимовича Басистова. Преподавание Крастелева было просто и, можно сказать, сочно, не было у него никаких хитростей, но он влюбил нас в Русскую словесность, отлично выбирая стихи для заучивания, требуя отчетливо читать их, знакомя с историей языка сравнениями с языком летописным и церковным, не допуская в сочинениях разглагольства и пустословия. Его уроки были всегда занимательны. Он мало говорил, а больше распрашивал учеников и был неустанно внимателен к ответам. Жил он внизу в двух комнатах в пансионе. С каким, бывало, благоговением ходил я в густо накуренный его кабинет за книгою для чтения сверх урока.
Полезен был также мне и учитель Немецкого языка Герман Яковлевич Аппельрот, который в Москве был вхож к известному писателю Вельтману[7]7
Вельтман Александр Фомич (1800–1870) – писатель.
[Закрыть]. Он отлично знал Немецкую словесность и давал мне для перевода какой-то учебник всеобщей истории и затем повести детские, очень занимательные, Нирица. Некоторые из моих переводов он напечатал в Москве, а мне знание Немецкого языка отлично пригодилось впоследствии.
Французскому языку учил некто Барбе, болтун, предмет постоянных наших насмешек и издевательств; я у него почти ничему не выучился, а грамматики вовсе не знал, произносить также. Очень жалею о том, так как впоследствии мне весьма было трудно печатать книги Архива князя Воронцова на французском языке, и первая из них 8-ка преисполнена опечаток, criblê de fautes, как говорят французы, и это тем обиднее, что содержание книг высоко занимательно.
Греческому языку мы почти не учились. Учитель из Москвы не ехал, а приглашали из семинарии какого-то олуха по фамилии Волжинского, который сам едва знал по-гречески. Зато по языку Латинскому мы были счастливцы, – нас обучал Игнатий Михайлович Родзевич, состоявший под покровительством графа Строганова[8]8
Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) – государственный деятель. В 1835–1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1859–1860 гг. – Московский генерал-губернатор.
[Закрыть]; высокий, важный, точный, он довел нас до того, что в 7-м классе мы читали уже Агрикулу, а Тит Ливий читался нами по целым страницам без запинки; так что в университете я только забывал Латинский язык. Его меднокованные звуки и до сих пор мне дороги, и я не мало знал Виргилиевых и Горациевых стихов. Родзевич позднее был вызван в Москву, и граф Строганов, переводивший его в православие из униатства, когда был попечителем Московского университета, сделал его правителем своей канцелярии, когда стал Московским генерал-губернатором. Родзевич женат был на сестре Рязанского аптекаря Зейца Терезе Христиановне, от которой имел много детей и терпел такую нужду, что нанимался дежурить по ночам у нас в пансионе вместо кого-нибудь из надзирателей и получал за это по 1 р. 50 к. Это был достойный всякого уважения человек; не таковы его сынки: один из них выкрал из архива генерал-губернаторской канцелярии несколько подлинных писем Екатерины и пришел ко мне, уже издававшему «Русский Архив», продавать их. Я должен был рассказать его отцу, и письма были положены на место. Мне жаль, что я не знаю, где похоронен Игнатий Михайлович. Он был Белорусс; а математику преподавал нам настоящий поляк, но тоже честный человек, Станислав Никодимович Мациевский. Я всегда был крайне плох в математике и на выпускном экзамене отвечал чепуху, он мне поставил 5, как говорил мне потом Крастелев для того, чтобы провести меня за мои успехи по другим предметам первым учеником.
Об учителе географии Андрее Парфенове смешно вспомнить; до такой степени плохо он читал, так что мои слабые географические сведения приобретены мною лишь привычкою глядеть на карту при чтении исторических книг и врожденную мне любовью ко всему Русскому, так что немного найдется в России городов, про которые я что-либо не знал. История, которой нас учили, даже не до начала Французской революции, была также слаба; ее преподаватель Аполлон Александрович Ральгин, высокий, красивый щеголь, поступивший впоследствии на гражданскую службу и проходивший ее с успехом. Он читал по тому самому краткому немецкому учебнику, который я переводил для Апельрота, и однажды, имея у себя в руках мой перевод, я смутил Ральгина, начав подсказывать то, что он будет говорить дальше. Из надзирателей надо упомянуть Француза Пельта и Немца Крауза. Первый был из Наполеоновских солдат и умел держать нас в порядке, а Краузе был человек добрый и почтенный. Занимались мы так усердно (конечно, не все), что иной раз вставали в 3 часа ночи и садились за дело. Раз инспектор и директор, возвращаясь с бала, увидели огонь в большой нашей комнате и вообразили, что мы также запоздали лечь. «Да мы уже встали», – отвечал я и соревновавший мне Владимир Сопчаков, сын Раненбургского штатного смотрителя, для которого окончание учения первым было бы великим счастьем, и я, можно сказать, жалел даже, что эта честь досталась мне, а не ему. Нам дали по золотой медали, а мое имя помещено на почетной доске в гимназическом зале. На втором курсе в университете, терпя нужду, (это были уже времена Платохинские), я продал свою медаль за 25 рублей. Дома об этом и не узнали.
Гимназическое учение кончено мною в конце июня 1847 года, и тогда же я решил, что поступлю на словесный факультет, куда влекли меня имена Шевырева[9]9
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – критик, историк литературы, поэт. В Московском университете читал курс всеобщей истории и теории поэзии.
[Закрыть], Грановского[10]10
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк, общественный деятель. С 1839 г. – профессор всеобщей истории Московского университета.
[Закрыть], Соловьева[11]11
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – историк, читавший курс русской истории в Московском университете. В 1871–1877 гг. – ректор Московского университета.
[Закрыть]. Надо сказать, что граф Строганов, два раза приезжавший в Рязанский пансион и осматривавший его и учеников без всяких пышностей, уже тогда заметил меня, что впоследствии мне пригодилось.
Забыл про человека, имевшего большое влияние на всех нас. Это Ефим Егоров, учитель математики, уступивший это место Мациевскому, когда он сам сделался инспектором гимназии и поселился внизу нашего пансионского дома, откуда его предшественник Шиллинг перебрался в особый деревянный дом на углу Дворянской улицы и против здания гимназии, где были только старшие классы и куда приходилось мне ковылять из пансиона. Там же была и большая прекрасная библиотека, снабженная попечителем округа графом Строгановым. Впрочем, из нее выдавались книги почти исключительно только учителям. Егоров, когда обучал нас математике до алгебры включительно, приносил в класс переплетенную тетрадь в четверку и в ней делал отметки нашим успехам. Заглянуть в нее было всем соблазнительно. Помню и прокладную бумажку этой тщательно веденной книжки. Егоров был человек мелочной и придиравшийся, его не любили, хотя и уважали. Отец его был чей-то крепостной человек, и он, женившись на дворянке Сазоновой, был крайне оглядлив и самолюбив. Он взял себе в нахлебники для приготовления в гимназию мальчика Головнина, сына одного из помещиков из-под Рязани, толстого и закормленного балбеса. Егоров приказал мне ежедневно около 6 часов вечера сходить вниз и обучать этого Федю и за это платил мне по 6 рублей в месяц: это были первые заработанные мною деньги. Я пользовался также лакомствами и снедями, которые ему присылались из дому.
За время пребывания моего в гимназии в Рязани были происшествия, дошедшие и в наш заколдованный круг. Умер Кожин, губернатор, получивший это место по родству своему с министром Двора князем Волконским; его до такой степени не любили, что могила его покрывалась испражнениями. Другое происшествие было умилительное. В женском монастыре был престольный праздник, служивший обедню архиепископ Гавриил за чаем у игуменьи получил пощечину от какого-то нахала дьячка, и пастырь подставил ему для удара другую свою щеку. Рязанские архиереи живут на великолепной площади с далеким чудным видом на реку Трубеж (которая в половодье разливается как море) в так называемом Олеговом дворце. Это здание сохранилось от 16-го века, и в нем жил последний князь Рязанский Олег Иванович. Рядом два собора; один древний, где служили всего раз в год и где похоронены Стефан Яворский[12]12
Яворский Стефан (1658–1722) – церковный деятель и писатель.
[Закрыть] и тот Мисаил, которого Никон[13]13
Никон (1605–1681) – патриарх; провел церковные реформы, вызвавшие раскол.
[Закрыть] посылал на проповедь в нынешний Шацкий уезд к Мордве, убившей его стрелами. Мантия с запекшеюся кровью, пронзенная стрелами, висит тут же над его могилою. На краю обширной площади стоит церковь Спаса на Яру, как бы готовая обвалиться вниз; этого боялись, но церковь и до сих пор цела. Рязань с ее прекрасными церквами (Бориса и Глеба, Николы и др.) своеобразно прекрасна.
Однажды заехал я в Москве к младшему из моих товарищей, директору Практической Академии Ивану Михайловичу Живаго, его не оказалось в кабинете, и пока его вызывали ко мне, попалась мне под руку Писцовая книга города Рязани 1598 года (год воцарения Годунова[14]14
Годунов Борис (ок. 1552–1605) – русский царь с 1598 г.
[Закрыть]). Можно представить себе мое удивление, когда я увидал описание не только всех церквей, но и подворную опись домов и их владельцев. Тут Сазоновы, Вердеревские, Голощаповы, Белелюбские, Стерлиговы, Цемировы. «Смотрите, Иван Михайлович, ведь мы в нашем пансионе, – это все имена наших товарищей».
В Липецком уезде на чердаке села Борисовки нашел и потом напечатал во временник Общества Истории и Древности[15]15
Опубл.: «Временник Общества истории и древностей Российских», 1852, кн. 15, смесь, с. 29–30.
[Закрыть] подобную же подворную опись города Дмитрова (Московской губернии), но без дальнейших имен.
* * *
Рязанскому пансиону, в особенности Крастелеву, обязан я возбуждением любознательности и привычкой к усидчивому труду.
В середине августа 1847 года тот же Прокофий повез меня в Москву. Каменная дорога начиналась тогда только с Коломны, где мы наняли извощика довезти нас на долгих в нашей бричке до Москвы. Извощик уверил меня, что остановится недалеко от университета, но вместо того пристал где-то в Рогожской, и я на костылях добрался до Моховой, крайне изнеможенный; не помню уже, как мы с Прокофием на другой день нашли себе комнату на 3-м этаже в доме тогда князя Щетинина на Знаменке насупротив самого подъезда к нынешнему Румянцевскому музею, – комнату без всякой мебели, где мы улеглись спать на полу и наелись остатками от дорожных снедей. В запасе у нас еще был целый окорок ветчины. На другой день кто-то из встретившихся Рязанских товарищей указал мне номер на Большой Никитской, где жили студенты, но за шумом и гвалтом я не мог заниматься и по совету Маркова пошел к попечителю и стал просить его, чтобы позволили мне поместиться с казенными студентами на 3-м этаже старого университетского здания и взять с меня то, во что казне обходится содержание казенного студента, но не возлагая на меня обязанностей служить в течении 6 лет там, где прикажет университетское начальство. Граф Сергей Григорьевич Строганов благодетельно согласился на эту просьбу, и таким образом я, как в пансионе, уже не имел никакой заботы ни об столе, ни об освещении. Мы жили человека по четыре в больших комнатах и имели общую большую спальную залу, а столовая помещалась на самом низу. У каждого была своя конторка, на лекции ходить было всего через улицу в новый университетский, купленный у Пашкова, дом. Моя конторка была рядом с конторкою Федора Павловича Еленева[16]16
Еленев Федор Павлович (1827–1902) – публицист.
[Закрыть], и тут мы сдружились, между прочим, над чтением Ундины[17]17
«Ундина» – поэма В. А. Жуковского.
[Закрыть]. Еленев, хоть и математик, любил изящную словесность и всю остальную жизнь сам писал стихи, но почти всегда неудачные, тогда как его учебники математические пользовались хорошим успехом. Это был сын учителя Смоленской гимназии, глубоко и искренне преданный родине. Он впоследствии своими статьями спас от уничтожения древнюю стену Смоленска, выстроенную Годуновым и прозванную им «Ожерельем России».
Выше упомянул я, что нашел Писцовую книгу г. Дмитрова в Борисовке; это деревня Козловского или Лебедянского уезда связана для меня с очень важными обстоятельствами моей жизни: там проживал старый чудак-холостяк Павел Александрович Сальков, не из тех Сальковых, из рода которых моя бабушка Прасковья Тихоновна, а из каких-то других, говорят, происхождения Польского. Он учился в Московском университете еще до 1812 года и был близок с семейством Дельсаль, которые держали в Москве в течение чуть ли не полвека девичий пансион в Посланниковом переулке за Разгуляем и почему-то были близки к дому графа Ростопчина, вернее к графине, обратившейся в католичество. П. А. Сальков от матери своей, дочери землемера Никитина, получил хорошее состояние и жил на старости лет с сестрой своей Елизаветой Александровной и ее тремя дочерьми, Юлией, недолго жившей с мужем своим Губастовым, который поссорился с тещею, тратя полученные в приданное деньги; он происходил от того Губастова, который был слугою у князя Бориса Ивановича Куракина и поминается в его Архиве. Имя его сделал известным единственный его сын Константин Аркадьевич, кончивший службу товарищем министра иностранных дел и унаследовавший от матери любезность и веселонравие. Я всегда был в добрых отношениях с его матерью, говорливою и никогда не скучавшею. Она совсем не походила на младшую сестру свою Александру Андреевну, молчаливую и кроткую, бывшую предметом любви брата моего Михаила Ивановича, но отдавшую предпочтение некоему Василию Николаевичу Осипову. Александра Андреевна подолгу гащивала у сестры своей матери Екатерины Александровны Развадовской, бездетной и добродушной толстухи, проживавшей в Липецке на Дворянской улице неподалеку от нашего дома и, бывало, торжественно катавшейся по нашей прекрасной улице в парной коляске со слугою на запятках.
Средняя сестра Екатерина унаследовала от дяди неудержимую страсть к ругатне и всяческим толкам и разбирательствам чужих недостатков. Бывало, они с дядей и матерью переберут по косточкам всех знакомых и соседей и когда пищи злоречию не хватало, посылали девку на почтовую станцию близ Борисовки узнавать, кто проезжал. Павел Александрович в сущности человек добрый, был настоящий Собакевич, он перечислял мне всех Тамбовских губернаторов со времен Екатерины и о каждом делал резкие и веские замечания. Сестрица его очень любила деньгу и давала ее взаймы; про нее говорили, что она просушивает накопленные ассигнации. Тем не менее у них, когда, бывало, заедешь к ним, на пути из Москвы или в Москву, всегда встречал я полное гостеприимство. Самого Воеводского, Андрея Ивановича, видал я, когда он приезжал к нам в Липецк. Это был высокого роста поляк-католик, служивший некогда городничим в Новгороде. В 1849 году, как я недавно узнал от его внучки (Варвары Михайловны Бартеневой), из Петербурга приказано было произвести расследование о его политической благонадежности. Свояк его, Флориан Францевич Развадовский, служил в Липецке коршнейдером. К нему приезжал гостить его племянник Казимир Развадовский, позднее игравший некую роль в Польском мятеже 1862 года.
Средняя сестра Екатерина, унаследовала от матери крайнюю невзрачность. Крикунья, даже и одевавшаяся как-то нелепо и напоказ. Я, бывало, к ней относил стихи Жуковского:
Я индюшка, хлопотушка,
Пустомеля и болтушка,
У меня махровый нос,
Пощади меня, Минос.
Всего неприятнее была ее стяжательность, но невозможно было отрицать в ней ума и толковитости. Я жил на уроке у Шевичей, когда брат написал мне, что он на ней женился; я сначала этому не поверил и написал ему: «неужели ты захотел жениться на копейке серебром?» (надо сказать, что в то время введен был счет на серебро). Она женила на себе брата, будучи уже под сорок лет, и свадьбой они поспешили, не дождавшись еще шести недель по кончине нашей матери, которая говорила, что жить под одной кровлей с Екатериною Андреевною она не может. Это было перед Рождественскими заговеньями 1852 года. Последовала коренная перемена во всей жизни моей и сестры моей Сарры. Елизавета Александровна, бывало, езжала к нам в деревню на паре белых лошадей, о которых она всегда пеклась. Сама она носила всегда одно и то же платье, ходила без чепчика, в кармане маленькая серебряная с чернью табакерка, но была очень чистоплотна. Гости в деревне не особенно стесняли хозяев: если не доставало места, где положить их, то они спали на полу на перинах, положенных сверх сена. Продовольствие же всегда было в изобилии. Крестьянские дворы, тянувшиеся от дома в два ряда по направлению к мосту через Байгору, поставляли каждый двор по барану в нашу кухню, и я помню, как Виктор прикалывал их, садясь на барана верхом. На бабах была повинность приносить известное количество талек, напряденной ими пряжи, о других повинностях я не знаю. В каждом дворе было не менее одной лошади и коровы. Могу и теперь пересчитать по именам наших мужиков и тех баб, которые бывали у нас и у сестры Полины кормилицами. Моя кормилица, Дарья, по прозвищу Кожуха, обвинялась в том, что держала меня на руках так, что я сделался левшою. Я более, чем ее, любил няню Васильевну и мою милую Маргариту. Жили мы в таком обилии, что маменька посылала в город бедным людям к празднику разной живности. По воскресеньям у нас обедывало иногда до 20 человек, и в гостеприимстве мы соперничали с тетенькою Ольгой Петровной, которая была в Чернигове городничихой, научилась приготовлять разного рода тамошние снеди (помню у нее кровяные колбасы или еще яйца, обсыпанные мелкими крошками, какие подавались у Черниговского архиерея Павла). Муж ее, Николай Иванович, некоторое время служил тоже городничим в Кромах. В Липецке любимым посетителем нашим был исправник (они тогда назначались по выбору) Николай Павлович Сабо, женатый на Варваре Николаевне Черновой, брат которой, Александр Николаевич, говорят, искал руки моей сестры Сарры; но он был совсем карапузик и невзрачный. Сабо помогал маменьке в ее делах, а тетенька Надежда Петровна бывала рада его приезду, потому что после обеда они обыкновенно садились играть вдвоем в карты в так называемую «окаянную» (это вист), всегда безденежно и всегда очень точно и строго. Я, бывало, раскладывал кому-нибудь из них противолежащие карты и приучился с детства к карточной игре, что во мне и наследственно от бабушки Екатерины Дмитриевны, которая целые дни проводила в игре. Так как в университете карты причинили мне беду, о которой расскажу после, то я положил себе зарок играть не иначе, как по умеренной цене, и при моей оглядливости я и до сих пор редко проигрываюсь. В числе наиболее близких липецких знакомых были: отставной моряк Михаил Яковлевич Головнин и его супруга Марья Ильинична с двумя дочерьми и двумя сыновьями. Она была большая капризница и весь дом держала в повиновении, ссылаясь на свою болезненность, но она много читала, особливо книг богословских, и хотя в церковь не ездила (где муж ее бывал ежедневно), но имела большие познания богословские; проповеди Иннокентия Таврического приводили ее в восхищение. От нее занялся я духовным чтением. Был я уже на втором курсе университета, когда Головнины поручили мне отыскать для них гувернантку и прислали 25 рублей сер. на извощиков. Кроме того получил я от них для продажи дорогой перстень. Старший товарищ мой, Бороздин, выпросил у меня этот перстень, чтобы заложить его для карточной игры. В течении многих месяцев он его не выкупал, и мне приходилось прибегать для выкупа к его тетке, прелестной женщине, вдове Казаковой. Долго искал я гувернантку, и наконец, одна показалась мне годною, но когда я привез ей деньги для задатка, она оказалась сумасшедшею. Тогда я обратился в Николаевское Сиротское Училище к директрисе его Лукерье Алексеевне Пеймерн (Томской уроженке, рожд. Сверчковой). Она указала мне на Екатерину Васильевну Ленину, которую я и повез в Липецк и которая оставалась у Головниных до тех пор, как в одну неделю у них умерла вторая дочь Мария и второй сын Миша. Головнины, пораженные горем, не замедлили покинуть свой дом на Дворянской улице и переселились в Рязань, где и оканчивал свое учение в тамошней гимназии сын их Иван. Другим университетским товарищем был Александр Николаевич Кузьмин, сын Пензенского помещика; он вел большую карточную игру и жил роскошно, но, проигравшись, застрелился. Закадычным другом моим в университете и до самой его кончины был милый «Ларич», т. е. Алексей Илларич Казанович. Удивительное дело: на ваканции в Липецке писал я ему раз письмо, подходит маменька и спрашивает: «Кому ты пишешь?» Когда я назвал, она вскрикнула: «Да знаешь ли, что его отец, Илларий Гаврилович, был лучшим другом твоего отца!» (они служили в Арзамасском Конно-Егерском полку и вместе совершали великие походы против Наполеона).
По окончании курса «Ларич» поехал к отцу в Могилевскую губернию в Ставробыховский уезд, несколько лет сряду был судебным следователем, простудился на следствии и умер, не доживши и 30 лет от роду. За год до его смерти ни с того ни с сего присылает он мне хорошую большую чашку и пишет, чтобы я пил чай из нее и его помнил. На моем рабочем столе висел магнит и чашка случайно была поставлена под ним. Вдруг, вследствие какого-то сотрясения или захлопнутой двери, приставленная к магниту железная печать моя оборвалась и попала прямо в чашку, которую и разбила. Позднее оказалось, что в этот самый день и час Казанович скончался. Его очень любил Катков[18]18
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, издатель журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости».
[Закрыть], и, когда я много лет спустя просил его дать прибыльное литературное занятие В. К. Истомину, я его убедил согласиться тем, что сказал: «Это второй Казанович». Таким казался мне тогда, и не одному мне, Владимир Константинович. Катков проложил мне дорогу к благосостоянию, но позднее К. А. Иславин, находившийся при Каткове в одинаковой секретарской должности с Истоминым, мне сказал, что однажды Катков воскликнул об Истомине: «Кто меня от него избавит?» Жена моя метко прозвала его «Блудячим Огоньком».
На первых курсах в университете в занятиях я особенно сошелся с сыном священника Замоскворецкой церкви Петра и Павла Соколова Петром Алексеевичем, носившем по матери фамилию Безсонова (таков был обычай у духовенства; старший брат Михаил звался по отцу Соколовым) и Александром Николаевичем Прейсом, младшим братом известного Петербургского профессора славянских наречий. Прейс, как и Безсонов, жил тоже очень далеко от меня, на Донской улице в доме родителей. Мы сходились в университете, где поочередно клали фуражки наши на первой скамейке от кафедры, чтобы лучше слышать слова профессора и записывать лекции. Но было еще другое место нашего свидания, это на Спиридоновке, в доме позднее князя Волконского; внизу этого дома жил учитель Греческого языка во 2-й гимназии Каэтан Андреевич Коссович. Он был уроженец города Слуцка и до такой степени беден, что нанимал себе помещение на чердаке у еврея; там были развешаны еврейские шубы и теплые платья, и молодой Коссович ими укрывался. В сущности он был белорусе, а не поляк. Николай Павлович, мечтая помирить поляков с русскими, приказал, чтобы польских юношей помещали на казенный счет при наших университетах. В 1829 году, когда последовало воссоединение Униатов, к Коссовичу пришел полицейский чиновник с предложением присоединиться, и тот, конечно, записался в православие, а по окончании курса должен был в течение известного срока прослужить учителем гимназии. Способность к языкам у него была удивительная; кроме отличного знания языков новых и обоих классических, он занялся языками Восточными, читал свободно по-еврейски и арабски, но в особенности полюбил санскрит, этого праотца языков индоевропейских, с его богатою словесностью, с этими поэмами, в несколько сот тысяч стихов, со многими произведениями драматическими. В «Московском Сборнике» 1847 года поместил он «Торжество светлой мысли», а небольшую поэму «Сказание о Дгруве» издал отдельною книжкою и посвятил красавице Елизавете Николаевне Делоне, дочери француза-доктора и некоей Тухачевской, которая была замужем за богатым Петербургским купцом Кусовым, но покинула его (сыном Петербургского головы). Эта Лиза Делоне влюбила в себя многих, в том числе и Михаила Никифоровича Каткова, который думал на ней жениться, вел с нею большую переписку в те годы, когда она с отцом, сделавшимся инспектором врачебной управы, жила в Симбирске; но когда Делоне вернулась в Москву, Катков разглядел, наконец, ее кокетство, сразу прервал с ними всякие сношения и не замедлил жениться на только что прибывшей из Одессы княжне Софии Петровне Шаликовой. Коссович же продолжал быть ее обожателем в течение многих лет, пока она в Петербурге не вышла, наконец, замуж за известного психиатра Болинского, от которого имела много детей и который, говорят, бивал ее.
Мое знакомство с Коссовичем (счастливое событие в моей жизни) началось с моего университетского товарища Степана Никитича Тьер-Мыкыртычьянца (профессор Клин, бывало, затрудняясь произнести его имя, обращаясь к нему, говорил по латыни tu cujus nomen difficile est dictu, т. е. ты, коего имя трудно выговорить). Родители его, богатые Закавказские из Орбубата Армяне, вели торговлю шелком с Москвою и вместе с тюками шелка поручили приказчикам своим отвезти в Москву и мальчика-сына для обучения. По какому-то случаю с этими приказчиками сошелся Француз Реми, у которого было в Москве учебное заведение и, пользуясь Армянским богатством, взял к себе мальчика. Коссович, узнав о том, просто из милосердия выручил мальчика из Французских лап, и прикащики поселили его с собою, для чего нанята была прекрасная квартира рядом с церковью Георгия Победоносца на Нижней Лубянской площади. Кое-как Степан Никитич определился в студенты словесного факультета и даже кончил курс, никогда не зная не только спряжений, но и склонений латинских. Тут выручали мы его, на экзаменах вызывали по азбучному порядку: Бартенев, Безсонов экзаменовались гораздо раньше того, чья фамилия начиналась буквою М. Они обыкновенно брали у профессора билеты не один, а два и, сдавши экзамен, уводили Мыкыртычьянца в нижние сени, где заставляли его наизусть учить, что надо было отвечать по украденному билету. С грехом пополам он что-то бормотал, и ему ставили отметку 3. После каждой такой проделки обязан он был вести нас в Сокольники и угощать чаем а разными снедями у самоварницы.
Под диваном у него в квартире всегда находился мех с прекрасным Кахетинским вином, стоило только нагнуться и нацедить стакан. К этому удовольствию присоединялось курение отличнейшего табаку, столь нежного, что им оправдывалось старинное допетровское выражение пить табак. Степан Никитич а другой Армянин по часу валялся на широком диване и позднее А. Н. Костылев сочинил на них такие стихи:
In Степан Никитич Stube
Steht ein prächtiger Diwan
Drauf halb liegend sitzt der Bude
Neben ihm Миансарьянц.
Und Sie liegen und Sie schwatzen
Teder raucht sein Papirosse
Sieh: Da sind Закревский Rosse
Und sie springen auf wie Katzen
Blickend gar zu diplomatisch
Fährt die alte Fülle dort…
Und aufe nene Asiatisch
Liegen sie urd schwatzen fort[19]19
В комнате Степана НикитичаСтоит великолепный диван,На нем полулежа восседает хозяин,Рядом с ним Миансарьянц.И лежат они болтают,Каждый курит свою папиросу.Глядь: да это кони Закревского.Тут они подпрыгивают как кошки,Принимая весьма дипломатичный вид —Ведь это проплывет перед ними зрелище старого изобилия…И вот они снова лежат на азиатский манерИ болтают как прежде.(нем.)
[Закрыть]
По желанию Армян-прикащиков Коссович продолжал некоторое время опекать Тер-Мыкыртычьянца и у него встретил меня. Он был другом поэта Языкова[20]20
Языков Николай Михайлович (1803–1846/47) – поэт.
[Закрыть] и восторженно читал стихи его. У Языкова оценил и полюбил его А. С. Хомяков[21]21
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – философ, писатель, поэт, публицист.
[Закрыть], женатый на сестре поэта Екатерине Михайловне. Другая сестра, Прасковья Михайловна была за богатым Симбирским помещиком Петром Александровичем Бестужевым-Рюминым. Она просила Хомяковых сыскать студента к ним на лето для приготовления в 3-й класс гимназии среднего сына Мишу. Хомяков обратился к Коссовичу, и тот назвал меня. В мае 1849 года Коссович повез меня на Собачью Площадку в маленький кабинет Алексея Степановича[22]22
В тексте ошибочно: «Алексея Михайловича».
[Закрыть], он только что вышел из спальни в шелковом ватном халате с привешенными на шнурке ключами и с густыми взъерошенными черными, как смоль, волосами. Могу повторить за себя слова одного из поклонников Магомета: он схватил меня за сердце, как за волосы, и не отпускал больше прочь. Любовь и благоговение его памяти и до сей минуты не покидают меня. Переговоры были самые короткие. Старший сын Бестужева, студент Владимир, повез меня в Сызранский уезд в село Репьевку (ныне станция железной дороги), где за 75 руб. платы прожил я до конца августа. То было время Венгерской кампании[23]23
В подавлении венгерской революции 1848–1849 гг. принимали участие русские войска.
[Закрыть]. Я возмущался в церкви, где Святейший синод не потрудился переменить молитву о даровании нам победы, сочиненную еще в 1812 году: выходило, что мы несчастные, и Венгерцы на нас нападают, тогда как мы задавили венгерцев в угоду Австрии. Прасковья Михайловна была очень добрая женщина, и мне у них было хорошо. Репьевка стоит на Волге, и стерляди во всевозможных видах съедались нами чуть ли не ежедневно. Сосед-помещик и родственник, тоже Бестужев, слыл вольнодумцем и подшучивал над Прасковьей Михайловной и ее супругом, оскорбляя их благочестие. Жил у него в гостях какой-то дворянин и ежедневно около 11 часов утра Бестужев говорил ему: monsieur Cavegnac (имя известного тогда французского генерала) ne voulez vous pas de l'ean de vie? И тот отвечал ему: Très volortier, monsieur[24]24
Вы не хотите ли выпить?.. Весьма охотно бы, месье. (фр.)
[Закрыть]. Ученик мой Миша был не из ретивых, однако экзамен свой выдержал, привезенный в Москву отцом. Мы, т. е. он с сыном и я, поместились на углу Собачьей Площадки и Большого Николо-Песковского переулка во флигеле Хомяковского дома над лавкой. Когда Бестужеву надо было возвращаться, он сказал мне: я помещаю Мишу у Хомяковых в большом доме наверху, хотите жить там же? Платы вам не будет никакой, но Вы иной раз не откажетесь помочь Мише в уроках, и Алексей Степанович об предуведомлен. Я тотчас согласился и мне пришлось до весны 1850 года прожить в постоянном общении с Хомяковым. В следующем году открывалась в Лондоне первая Всемирная выставка, чтобы дать Коссовичу возможность познакомиться с прибывшими туда Индейцами, Хомяков поручил ему отвезти на выставку свое изобретение, паровую круговращательную машину, и для этой поездки дал ему 5 тысяч рублей. (Позднее в Петербурге на книгах Коссовича видел я надпись: благодеяние А. С. Хомякова). Каэтан Андреевич передал мне потом, что он в Лондоне сблизился с одним индейским семейством и в нем нашел себе взаимное обучение: молодую Индианку учил он по-гречески, а она его своему языку. Коссович чуть не влюбился в нее, но, бывало, она откроет ладони, и они все желтые, что ему, как Европейцу, внушало чувство отвращения и тотчас охлаждало его влюбчивость. Я забыл сказать, что еще в 1849 году я, Безсонов и Прейс несколько месяцев сряду учились у Коссовича Санскриту и к Рождеству принесли ему в подарок ящик сигар. Он страшно переконфузился и объявил нам, что сам будет нам покупать сигары, лишь бы мы не бросали учиться. Я запасся Санскритским лексиконом Боппа и до того преуспевал, что прочел целых пять небольших Санскритских произведений, а на 2-м курсе подал Шевыреву в виде сочинения статью о разнице подлинной поэмы «Наль и Дамаянти» с переводом, который сделал Жуковский по Немецкому переводу Рюккерта. Эти занятия прекратились с отъездом Коссовича в Петербург на должность редактора ученых работ при Императорской Публичной Библиотеке, созданную для него благодаря графу Блудову[25]25
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) – государственный деятель.
[Закрыть], который его узнал, приезжая в Москву на освящение Кремлевского дворца. Когда Коссович ездил в Лондон, он навестил Жуковского во Франкфурте; тому нужен был учитель для двух детей его, Коссович наговорил обо мне, и Жуковский написал в Москву к Кошелеву[26]26
Кошелев Александр Иванович (1806–1883) – общественный деятель, славянофил.
[Закрыть], чтобы наведаться, что я за человек (письмо это напечатано в приложениях биографии Кошелева). Пока шли переговоры, не удавшиеся потому что Жуковский сам все собирался возвратиться в Россию, тот же Коссович поместил меня учителем к внукам графа Блудова, Ивану и Дмитрию Шевичам, с жалованьем в 3000 рублей ассигнациями. Из квартиры Коссовича в Петербурге, куда он меня вызвал из Москвы, переехал я к Лидии Дмитриевне Шевич[27]27
Л. Д. Шевич – урожденная Блудова, дочь Д. Н. Блудова.
[Закрыть] на Пантелеймоновскую улицу на углу Моховой в дом Плеске.









































