Текст книги "Воспоминания"
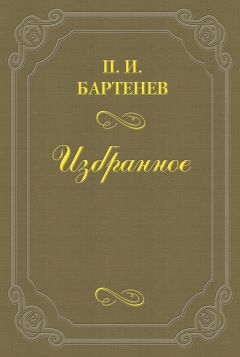
Автор книги: Петр Бартенев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Уже студентом я давал уроки, между прочим, Марии Федоровне Лугининой, ныне вдове Безака. Она жила одна с богачем отцом своим, который разошелся с ее матерью Варварою Петровною (сестрою моего приятеля Михайла Петровича Полуденскаго). При ней жила и не пропускала ни одного моего урока достопочтенная Маргарита Борисовна Дюмушель (вдова музыканта), впоследствии имевшая женский пансион на Вшивой горке, откуда с балкона можно любоваться чудесным видом на целые две трети Москвы. С нею я сошелся у Лугининых и до конца ее жизни пользовался ее дружбою. Она много видела, много испытала. Говорят, что после нее остались записки; где они, я не знаю; переживший ее единственный сын, бывший инспектор классов Екатерининского института и две весны преподававший Французский язык мальчику Великому Князю Сергию, которого усылали из Петербурга в Подмосковное Нескучное, опасаясь за его грудь. Дюмушель отлично знал историю Французского языка, но был туп и бездарен. Не имей он женою Русскую (рожденную Крылову), наделал бы он много глупостей. Она умерла, когда я был за границею; вернувшись в Москву, я поспешил к нему и обнял его с знаками соболезнования, он же огорошил меня словами: «А какой венок прислал Великий князь на ее гроб!»
Потом давал я уроки детям Скуратовым, дочери и сыновьям, жившим на Арбате в собственном доме. Мать их, Фанни Алексеевна, была родом Пушкина. Даровитая дочь вышла за Еремеева и была несчастна в Симбирске, где он был губернатором… Сыновья оба погибли чуть ли не самоубийством, а сам Скуратов до того обеднел, что жил в Петербурге, зарабатывая пропитание газетными фельетонами. Ольга Семеновна Аксакова желала, чтобы я давал уроки Русского языка дочерям богача Ватапи, грека, имевшего свой дом на Большой Кисловке (где впоследствии был большой пансион). Я пошел туда, и мы уговорились по 3 рубля за час, но когда я пришел давать урок, отец барышень сказал мне: «я узнал, что Вы тут живете очень близко и Вам на извощика нечего тратиться, поэтому не угодно ли по 2 р. 50 к.?» Разумеется, я уже больше не ходил к ним. Впрочем, эта цена по тому времени была довольно высокая. Много позднее получал я у Алексеевых по 7 рублей, у Сапожниковых тоже, а Кокорев предложил мне по 10 р. за час.
Жил я перед своим отъездом в Петербург на Моховой в доме университетском, рядом с церковью Георгия на Красной Горке, где верхнее помещение занимал помощник попечителя Павел Васильевич Зиновьев, а нижнее – письмоводитель университетского правления некто Пиуновский. Он был из духовного звания, и отец его, конечно, назывался Певуновским, но он для пущей важности несколько изменил свое фамильное имя; комната у меня была прекрасная, окнами на Моховую, но было неудобство, что вход с заднего двора, застроенного университетскими учреждениями, так что пробраться ко мне надо было из Долгоруковского переулка. Поэтому мои друзья и знакомые предпочитали просто стучаться ко мне в окно и по ночам влезали ко мне в комнату прямо с Моховой к негодованию полиции и Пиуновского. Раз ночью провожал я засидевшегося товарища и перед окном поскользнулся и расшиб себе жестоко ногу. Провожать меня пришла вместе с Безсоновым его старая няня и сказала мне: «будешь во времени, мого милушку помяни», указывая на Безсонова. Провожала меня и кухарка Марфа, которая в разговоре со мной о предстоявшем мне житье, выразилась: «Знаешь, батюшка, ведь Русские цари правят, как медведи в лесу: гнут не парят, переломят, не тужат». Я двинулся в путь 19 ноября 1851 года по открытой с 1-го ноября того же года железной дороге. У многих путешественников было по множеству узлов, подушек и съестных припасов. Со мною ехал наш профессор политической экономии Вернадский, и он сказывал, что он уже едет второй раз и что в первые дни по открытии дороги в залу к едущим подходила какая-то старушка и каждого крестила. Оправдались стихи Шевырева:
…и катится путь железный
От Невы и до Кремля.
В Петербург я приехал прямо к Коссовичу, и он дня через два повел меня на Моховую в дом Плеске, во 2-м этаже которого (жила) вторая дочь графа Блудова Лидия Дмитриевна Шевич с тремя сыновьями, из которых мне надлежало обучать Ваню (ныне разбитого параличем члена Государственного Совета) и покойного Митю (бывшего посланником в Японии, а потом послом в Мадриде). Третий брат, Сережа, был тогда еще лет 7-ми. Главное лицо в этом семействе была гувернантка обеих дочерей графа Блудова, девица Каролина Антоновна Дютур, уроженка Нормандии, с детства долго прожившая в Англии, куда ее родители спасались от Французской революции. Это была женщина тонкого ума, но по-моему начал безнравственных, потому что на первых же порах моего пребывания в этом доме она стала рассказывать, что вдова Лидия Дмитриевна страстно влюблена в некоего генерала Раля и что отец граф Блудов отнюдь не позволяет вступать ей в этот брак. Я тогда еще заметил, что на карточках визитных у Лидии Дмитриевны было: рожденная графиня Блудова, тогда как графство было дано ему, когда она была уже замужем за гусарским полковником Шевичем. Я очутился в золотой клетке и имел право уходить без спросу только вечером в субботу и по воскресеньям. Мне отведено было 2 комнаты, но в 3-м этаже, плохо меблированныя, где я мог только по утрам пить чай, все же остальное время, с 7-ми часов утра, проводить внизу. Раз Митя подбегает ко мне перед обедом: «Петр Иванович, чтобы Вам не ходить к себе наверх, не угодно ли умыться у нас?» Оказалось, что они умывались и переодевались к обеду и в 3-й раз делали то же, ложась спать, а про дедушку их, т. е. графа Блудова, я узнал, что он даже вторично брился по вечерам, что мне напоминало моего товарища и приятеля Новикова Николая Николаевича, который, бывало, по утрам выбрившись и намылив себе потом щеки и бороду, оставался так для мягкости кожи в течении некоторого времени, что мы называли: «в мыле пребыть». Граф Блудов со старшею дочерью девицею Антониною жил особо на Итальянской же в доме Бодиско, почти рядом с пассажем. Шевичи туда ездили редко, да и Блудов приезжал к Лидии Дмитриевне только иногда к обеду, а раз приехал произвести экзамен своим внукам. Этот экзамен прошел блестяще. Как удивился старик, когда один из его внуков прочел ему стихи Огарева: «Ночь тиха, на небе тучи…» Он никак не ожидал, что какой-то неизвестный ему Огарев пишет прекрасные стихи. А сам он был великий охотник до стихов и любил читать из Державина, Жуковского, Батюшкова и очень редко Пушкина, так как Пушкина он недолюбливал, потому что Пушкин звал его «тестом», в противоположность Дашкову, прозванному «бронзою». Беседы с графом Блудовым и мои расспросы у него были для меня тем, что Немцы зовут historische Vorstudien[53]53
Историко-подготовительные занятия (нем.).
[Закрыть]. В то время почти ничего не позволялось печатать об Русской истории XVIII века, вследствие ненависти Николая Павловича к памяти Екатерины Великой, внушенной ему его матерью; Блудов же был необыкновенно словоохотлив, и я внимал ему, напояема. На экзамене моих учеников, на который собрались и все учителя их, отворилась дверь из прихожей, и явившийся гоф-фурьер громко произнес: «Государыня Императрица приглашает ваше сиятельство к сегодняшнему обеденному столу». Старик граф встал и, почтительно наклонив голову, сказал: «доложи Ее Императорскому Величеству, что сегодня буду иметь это счастье». Прошли десятилетия; сидел я поутру у князя Семена Михайловича Воронцова, как явился к нему такой же гоф-фурьер с картою, на которой написаны были имена лиц, приглашаемых Государем к обеду и в их числе князь и княгиня Воронцовы; князь не только не встал, но, бросив карточку в сторону, сказал: «Буду». Вот до какой степени поникло значение Царское. Коссович на первых же порах моей Петербургской жизни повез меня к старику живописцу (писавшему стенные священные картины в Исаакиевском соборе) Николаю Аполлоновичу Майкову. Это была маленькая дружная семья, средоточением которой была мать Москвичка, родом Гусятникова. Мне очень там понравилось, но я не мог часто посещать Майковых за неимением времени. Там я познакомился с Гончаровым, довольно гордо себя державшим. Младший сын Леонид, тогда 15-тилетний мальчик, сделался впоследствии мне другом. Он унаследовал свойства своих родителей и не походил на старшего своего брата Аполлона, который был несносен тем, что черезчур охотно читал стихи свои и негодовал, если слушатель недовольно внимательно внимал ему.
Погодин снабдил меня курьезной записочкой (дорожа бумагою, он имел обыкновение писать на клочках, оторванных от полученных им писем) к Соболевскому. Тот жил на Выборгской стороне за церковью Самсония на устроенной им Мальцовской прядильной фабрике. Это был холостяк, истинный друг книг и всякого просвещения, человек трезвого образа мыслей и по душе несравненно лучше, чем он казался. Подобно многим незаконнорожденным людям, он брал наглостью и всякого рода выходками. Любопытно, что в молодости своей писал он нежные идиллические стихи. В то время, когда я узнал его, он не сообщал мне своих метких эпиграмм; позднее, когда он переселился в Москву, я очень с ним сблизился и много от него наслушался. Думаю, что он любил меня и хотя был скупенек, но мне подарил на память, когда я женился, прекрасный цельного красного дерева круглый поставец. В моей памяти и в моих записях сбереглась большая часть его стихов, этих образцов эпиграмматической поэзии. Он был то же, что Марциал в Римской литературе.
Противоположность ему я встретил в Петре Александровиче Плетневе, тогдашнем ректоре Петербургского университета. Я редко пропускал его Субботы, на которые съезжались к нему любители словесности и тихой беседы. Вторая жена его, Александра Васильевна, рожденная княжна Щетинина, была женщина редких душевных свойств. Она что-то вроде поэзии Тютчева: глубина и своеобразное изящество. У них было два сына, и с ними воспитывался мальчик Лакиер, внук Плетнева от первого его брака, сын Ольги Петровны, скончавшейся чуть ли не в самый год свадьбы своего отца и почти ровесницы Александры Васильевны. С Плетневым до конца его жизни я был в беспрестанной переписке. Мы сходились в общей любви не только к Пушкину, но в особенности к Жуковскому. Он заместил Жуковского в занятиях уроками трех Великих Княжен, дочерей Николая Павловича. Александр Николаевич, по своему воцарении, позволил ему приходить к себе по утрам, но он мало этим пользовался. Не раз говорил он мне, что свезет меня к Императрице-Матери, которую называл милою старушкою, но я был до того застенчив и не нарядлив, что отвергал всякую мысль о том. Когда Плетнев болел в Париже, Великая княгиня Мария Николаевна сердобольно и почтительно навещала его. Я же счастлив тем, что вдова Плетнева почти на смертном своем одре позвала меня к себе в спальню, перекрестила, велела себя перекрестить и поцеловала меня. Как мне было радостно, что старший мой сын Ваня случайно встретился со старшим сыном Плетнева Александром, тотчас дружески сошелся с ним, не зная про мою близость с его родителями. Университетские беспорядки, которые приходилось унимать Плетневу, подействовали на его здоровье, хотя студенты любили его. У него образовалась рана под ложечкою и его послали лечиться в Париж, и там Александра Васильевна высасывала гной из его раны. Там он и умер. Тело его привезено в Александро-Невскую лавру, и Государь был на его похоронах. Кто-то уподоблял его старой, обросшей мохом бутылке драгоценного вина.
Когда меня приглашали к Шевичам, было уговорено, что весною 1852 года я поеду с ними и с их матерью в чужие края. Можно судить, как меня взманило это. Но когда наступила весна, второй сын Митя до того избаловался, что Лилия Дмитриевна объявила, что заграничное лечение не пойдет ей впрок, ежели она возьмет с собою Митю, и потому решено было, что он со мною переедет на летние месяцы к родной тетке своей матери, Марии Андреевне Поликарповой (laplus polie des carpes[54]54
«Самая лоснящаяся из карпов». Игра слов, основанная на фамилии дамы, где «Поликарп», произнесенное по-французски, означает «лоснящийся карп» (фр.).
[Закрыть], острота Васильчикова), в село Понофидино Старицкаго уезда Тверской губернии. Это решение не особенно меня огорчило, так как я, получив в январе первое мое жалованье, съездил на Апраксин двор и накупил себе много книг к изумлению м-ль Детур и домашней Шевичевской прислуги. Тут я и положил основание моей библиотеке. Две графини, Антонина Дмитриева и приятельница ее графиня Аполина Михайловна Веневитинова, рожденная графиня Вьельгорская, выказали свое участие, а когда я уехал в Понофидино, графиня Антонина вступила со мной в переписку, продолжавшуюся в течение многих и многих лет. Сестра ее Шевич была нрава горделивого, вероятно, в свою бабушку по матери княгиню Антонину Станиславовну Щербатову, рожденную Яровскую, считавшую, что ее дочь княжна Анна Андреевна сделала Mesaliance, склоняясь на долголетние ухаживания чиновника иностранной коллегии Блудова, который хотя был старинного, но ничем особенно не отличавшегося рода. Вероятно, тут действовало то, что Блудов по матери своей, рожденной Татевой, был богат. Старшая его дочь, незабвенная для меня и для всех, знавших ее, графиня Антонина Дмитриевна, не походила на сестру свою и на обоих братьев, которые оба держали себя довольно высокомерно. Она была, при самом широком образовании и уме, отменно сердобольна и пламенно любила Россию, история которой была ей хорошо известна, потому что отец ее был близок к Карамзину, которого называл mein Vaterlicher Freund[55]55
Мой друг-отец (нем.).
[Закрыть]. Кроме того, графиня была женщина глубокого непоказного благочестия и сознательно исполняла все обряды и обычаи нашей церкви. У нее часто бывали домашние службы, она ездила в Казанский собор молиться за Государя, когда ему предстояло подписать какое-нибудь важное государственное решение. Помню графиню в ее приезды в Москву (где она останавливалась во дворце, в нынешней квартире Степанова), как она, бывало, на коленях молится у Спаса на Бору, близ мощей Стефана Пермскаго, держась рукою за поставленный впереди ее стул. Много позднее, когда Митя Шевич, уже посланником Японским, поехал со мною осматривать Кремлевский дворец, я сказал сопровождавшему нас камер-лакею, что это племянник графини Блудовой; тот отменно воодушевился и стал распространяться в похвалах ей. Она и отец ее расположились в мою пользу и потому, что знали про мою близость к Хомякову, которого стихи и все направление были им сочувственны. Графиня немедленно сблизила меня со своим питомцем Костичем, молодым даровитым Сербом, жившим у них в доме. Графиня мне рассказывала, что однажды она видела сон, в котором покойная мать ее упрекала ее в том, что она проводит дни без всякой цели в жизни. На утро ей докладывают, что внизу просится к ней войти какой-то молодой человек, который привез ей письмо из Вены от ее брата. Этот брат, граф Андрей Дмитриевич, служивший тогда при Венском посольстве, писал ей о передряге, происшедшей в дипломатическом Венском кружке: молодой Серб, приехавший учиться артиллерии в Венское артиллерийское училище, когда его повели на площадь перед училищем для произнесения присяги, во всеуслышание воскликнул: «как стану я присягать царю Швабу!» Его, разумеется, тотчас уволили, и родители решили послать его для продолжения науки в Петербург. Графиня сочла этот неожиданный приезд Костича материнским для себя заветом. Костич определен в Петербургское Артиллерийское училище, но проводил время у Блудовых, т. е. в самом высшем обществе. В довершение очарования, он писал стихи, хотя по-сербски, но довольно приятные русскому слуху. Некоторая его дикость и полная искренность приманили к нему Петербургское аристократическое общество. Когда наступила война, он отличился под Свеаборгом, но, конечно, в богатой обстановке министерского дома скоро избаловался, и года через два графиня насилу от него избавилась: он поехал весною в Сербию и там сошел с ума.
Сочувствие к Славянам, к их освобождению от Турецкого и Австрийского ига занимало все помыслы графини. Говорили даже, что Сербский владетельный князь Михаил Обренович выражал намерение на ней жениться. Я видел у Блудовых и Черногорского владетельного князя Даниила, в лице которого слепая Русская политика дозволила разлучиться духовному и светскому званию: до того времени, в течение столетия Черногорею правили митрополиты из рода Негошей. Я тоже увлекся Славянскими сочувствиями и перевел историю Сербии Немецкого профессора Ранке[56]56
См.: Ранке Л. История Сербии по сербским источникам. М., 1857.
[Закрыть]. К первому изданию этой книги Мамонов сделал рисунки на обертку. Книжка выдержала два издания. Народные Сербские песни (которыми восхищался и Гете) были также мною изучаемы. Разумеется, в Петербургском обществе многие смеялись над графинею, а Соболевский написал:
Я не причастен секте оной,
И в панславическом жару
Перед Болгарскою Мадоной
Я на колени не паду.
Противны синие чулочки
Хотя б и в пожилых летах,
Хотя б на министерсткой дочке,
На камер-фрейлинских ногах.
Весною 1853 года, когда я уже не был при Шевичах, графиня пригласила меня из Москвы в Петербург погостить у нее на Страстной и Святой неделях. Я прожил у них припеваючи. Тогда я им привез еще неизданную предсмертную поэму Жуковского «Агасфер или Вечный Жид», которую в Москве дала мне списать с подлинника поселившаяся на Полянке в доме Поземщикова Елизавета Алексеевна Жуковская. Это удивительное произведение до смерти, оставалось долго потом неизданным, а издатель или вернее сам граф Блудов, исказили его и только в позднейшем уже издании Ефремов[57]57
Ефремов Петр Александрович (1830–1907) – библиограф, историк литературы.
[Закрыть] восстановил поэму по представленному мною ему моему с подлинника списку.
Вообще граф Блудов одержим был страстью поправлять и вылащивать слог, не только свой, но и чужой. В особом портфеле целый ряд манифестов Императора Николая Павловича, которые поручено было ему составлять. Чиновник его, А. Н. Попов, сказывал мне, что была большая мука с бумагами, которые графу Блудову приходилось подписывать. Он все был недоволен их слогом и по многу раз переправлял, так что от написанного Поповым или Деляновым (будущим Министром Народного просвещения) не оставалось почти ничего. То же самое проделывал он и с 12-м томом Истории Государства Российского, который Карамзин не успел кончить и издание в свет которого взял на себя Блудов (причем помощником ему был Константин Степанович Сербинович, вкравшийся к Карамзину в чтецы, бывший Униат, впоследствии редактор журнала Министерства Народного Просвещения, а потом директор канцелярии обер-прокурора Святейшаго синода, имевший большое значение в синодальных целях). Рукопись 12-го Карамзинского тома, не исправленная Блудовым, должна быть весьма любопытна.
Я прожил у Шевичей всего полтора года, но сохранил наилучшие отношения с моими учениками, с их теткою и дедом; только мать, когда я уже оставил их, изменила холодное со мною обращение, а впоследствии, постигнутая горем, сделалась даже мягка и разговорчива. У нее и у ее отца и сестры царелюбие господствовало; беспрестанно слышались восторженные отзывы о разных великих князьях и великих княгинях. Графиня Антонина составила даже записку – похвальное слово Императору Николаю, и в Петербурге тогда лишь он один господствовал, оправдывая стихи Некрасова:
И только тот один,
Кто всех собой давил,
Свободно и дышал,
И действовал, и жил.
По улицам ежедневно ходили патрули (как и теперь в Берлине), и снаружи была полная тишина. «Все молчит, ибо благоденствует», как писал Шевченко. Однако самого Государя я никогда не видал, так как редко показывался на улице по своей хромоте и застенчивости. Раз приключалась со мною беда: на Невском я зашел в магазин, куда вела небольшая чугунная лестница решетчатая; костыль мой провалился в одну из скважин, и я покатился вниз со своей надломленной клюкой.
Потом приезжал в Петербург Катков и останавливался в крошечной комнате в Пассаже чуть ли не в 4-м этаже. Я приходил проститься с ним и до сих пор не могу забыть его слов наставительно-предупредительных: «Жил я в чужих краях и в Берлине и уверяю Вас, что этот город младенец по нравственности, сравнительно с Петербургом».
Итак, в июне месяце 1852 года отправился я в Понофидино с моим шаловливым учеником, за которым ходить я не брался и которого должен был только учить для поступления в гимназию или в Пажеский корпус. В Понофидине большой каменный двухэтажный дом, стародворянский дом с увесистою, но вовсе не роскошною обстановкою. Там ждал нас сын владелицы Евгений Александрович Поликарпов, добрейший и в то время еще холостяк, хотя уже и в летах. Из двух сестер его одна была замужем за каким-то Поляком на Волыни, а другая, оставшаяся девицею, Антонина Александровна, проводила большую часть года в деревне, как и мать ее, бодрая, крепкая здоровьем и хозяйственная Мария Андреевна, рожденная княжна Щербатова, вдова Александра Поликарпова, который некогда был Тверским губернатором, и когда княгиня Дашкова, сосланная Павлом Петровичем в деревню, проезжала Тверь, он не убоялся оказать почести этой статс-даме, известной в Европейских столицах. В Понофидине жил некто Викентий Будревич, учитель математики в Тверской гимназии и товарищ Мицкевича по Виленскому университету. Польское по бабке происхождение Евгения Александровича, а также уважение к его педагогической деятельности, сближало его с Будревичем. Жизнь в Понофидине, особливо летние месяцы, была однообразна и скучновата. Осенью стали наезжать соседи и в числе их даровитый Алексей Михайлович Унковский. Он с офицерами Драгунского полка (который постоянно стоял в Ржевском уезде) и с неким Андреем Осиповичем Лясотовичем затеял домашний театр. Я уже не помню, какая пьеса разыгрывалась, я в ней играл старика-деда и моя роль была вовсе не сложная. В самый день представления получил я от брата письмо о кончине нашей матери 4-го октября 1852 года, что, конечно, не могло способствовать успеху моей театральной игры. Лидия Дмитриевна с детьми и с м-ль Детур возвратилась в Петербург уже в ноябре месяце (на обратном пути, в Лейпциге, она служила панихиду на могиле деда своих детей, Ивана Егоровича Шевича, храброго Суворовского генерала, убитого в Лейпцигском сражении). Зимнего платья для обратной поездки в Петербург у меня не было, и я купил себе за 13 рублей простой полушубок, отлично гревший. Мы вернулись с опоздавшим поездом, когда уже в комнатах зажжены были огни. По случаю кончины матери я объявил, что оставляю мою должность и поехал к Рождеству в Липецк. Отпевали в нашей соборной церкви Кирилла Степановича Рындина, второго супруга моей двоюродной сестры Анны Васильевны (первый супруг ее был Павел Павлович Шишкин, мой крестный отец). Я плакал по матери, Анна же Васильевна думала, что я плачу по ее мужу, и я конечно не разуверял ее. Эта моя двоюродная сестра была избалована матерью, хотя была очень умна, но в то же время и кокетлива. Очень часто слыхал я, как она хвасталась перед моею матерью, что тот-то и тот-то в нее влюблен. Во второй брак вступила она, думая, что он, как окружной инспектор преобразованном тогда министерстве государственных имуществ и имевший связи в Петербурге, принесет ей и хороший достаток и видное положение в обществе. Но он был простак, любил покушать и поиграть в карты, между тем как она отличалась скупостью до того, что бедный супруг ее иногда приходил покормиться к нам в дом, отличавшийся гостеприимством, или к жившей насупротив нас через улицу другой тетке его жены, добрейшей Ольге Петровне Зейдель. Анна Васильевна крайне скупо кормила свою прислугу и обращалась с нею жестоко. Девки ее ссылались в ее Саратовскую деревню, тогдашнюю глушь Князевку (наследство нашей бабушки, которой мать была родом княжна Звенигородская). Туда она раз поехала и насилу оттуда убралась от возмутившихся против нее ее подданных, для чего должна была бежать в г. Аткарск, в то время более похожий на грязную деревню. В Липецке на нашей же Дворянской улице был у нее хороший дом с чудесным видом на обширную заводь реки Воронежа. Плохо жила она со своим мужем, который почти повредился в уме. А две девки ее однажды ночью набросились на нее и стали душить; лишь гибкими пальцами просунула она свои руки между их руками и своей шеей. Началось следствие; заподозрен был супруг, якобы подучивший девок, но это, конечно, неправда. Во время следствия какой-то чиновник ходил по дворянским домам и спрашивал про образ жизни Анны Васильевны (с нас, как родных, он не брал показания). Никто из дворян не свидетельствовал против нее, один Михаил Яковлевич Головнин высказал правду. Дело это тянулось долго; она ездила в Тамбов, и ей как-то удалось освободиться от наказания. Любопытно, что при таком нраве она держалась крайнего благочестия, и мне жаль, что после нее не сохранилось у ее племянниц чудесной старинной иконы. Дом свой она отдала своей племяннице Анне Федоровне Змиевой, а сама поселилась у нас наверху и там почти не сходила с постели, питаясь Бог знает чем и беспрестанно творя молитву. От нас она переехала в Воронеж и очутилась в руках некоей Аменицкой, у которой и скончалась. Саратовскую деревню, которую она отдавала в льготную аренду своему старшему племяннику Ивану Федоровичу Змиеву, а так как он ничего не платил многие годы, то Ивану Николаевичу Ладыгину, продала она графу Сергею Дмитриевичу Шереметьеву по 50 рублей (их было 100 дес.). Куда девались эти деньги, неизвестно. Змиевым она ничего не дала за их неповиновение. Похоронена она в Воронежском женском монастыре. Однако, я любил с нею беседовать, так как она была очень умна, и суждения ее отличались меткостью; своих же крепостных она иначе не называла, как хамово отродье, и была глубоко убеждена, что сам Бог присудил им быть рабами дворян.
Брат мой Михаил Иванович, кажется, не дождался даже, чтобы прошло шесть недель по кончине нашей матушки и вступил в брак с крикливой и дурно-рожей Екатериной Андреевной Воеводской, в гербу отца которой Латинские слова: Auro aurum addimus, т. е. придаем золото к золоту. Она действительно раз ездила в Лебедянь, распродавала пожитки нашего дома, который при маменьке был богат, как полная чаша. О том, что и я сонаследник супруга, и не заикалась, а когда я раз спросил про Костромское, унаследованное от двоюродного нашего брата Павла Никифоровича Бартенева имение, мне отвечали, что оно уже продано при жизни матери нашей (которая, однако, не могла продавать имение отца нашего, мы же оба были совершеннолетние), и дали только полдюжины денных рубашек. В январе 1853 года я, уезжая от них в Москву, взял с собой укрыть ноги от морозов во время езды старый небольшой ковер; в Москву последовали письма с требованиями возвратить ковер. Мне (было) назначено по 30 рублей в месяц, и эти деньги я получал не иначе, как после нескольких писем с просьбою о присылке их. Сестре нашей Сарре Ивановне (было) назначено по 100 рублей в год, т. е. немного более того, что получал старший конюх. Мы с сестрою мирволили всему этому, любя брата и в том соображении, что он завелся с ею и у него могут быть дети (в августе 1853 года у него, действительно, родилась первая дочь Мария, унаследовавшая жадные качества родителей). В 1854 году, когда брата потребовали в ополчение (от которого он умел откупиться, подарив доктору лошадь за свидетельство у него якобы аневризма), ко мне они пристали, чтобы я дал полную доверенность на имя Екатерины Андреевны на управление моею долею имущества, коего было 800 десятин и 100 душ крестьян. Без ведома братца и сестрицы я в Липецке дал эту доверенность Петру Абакумовичу Трунцевскому, женатому на двоюродной моей сестре Софии Николаевне Зейдель. Тогда начались приставанья, чтобы я продал мою долю, заставили писать о том письма сестру Сарру, а когда узнали, что Дмитрий Дмитриевич Головнин намеревается купить мое наследство, то сестра Сарра написала мне, будто наши крестьяне умоляют меня не продавать их. Все это меня страшно огорчало и надоедало, и летом 1857 года я продал брату мою долю за восемь тысяч полтораста рублей. Тогда я в денежном отношении был уж спокоен, получая по 100 рублей в месяц за мою работу над изданием «Русской Беседы»[58]58
В 1857 г. Бартенев был соредактором журнала «Русская Беседа».
[Закрыть] и, кроме того, имея уроки. Родной мой дом в Королевщине больше не привлекал меня к себе: в спальне у маменьки над ее кроватью висел золотой орел, державший в клюве своем полог; можно судить, каково было мне увидеть этого орла в нужнике, к тому же, хотя я впоследствии был врагом того способа раскрепощения, благодаря которому разорены помещики, развращены бывшие крепостные, но нельзя же забыть, что и у нас на конюшне еще при жизни маменьки однажды секли дочь кучера Парашу, чем-то не угодившую сестре моей Полине, которая, озлобясь на лакея Ивана Горячего, хорошее платье его бросила в отхожую яму нужника. А у зятя моего, Петра Борисовича Бланка, каждый вечер шла игра в карты, между тем как староста и другие крестьяне дожидались, когда к ним выйдет барин и отдаст приказания по хозяйству. Раз при мне сухопарый Петр Борисович костлявыми пальцами избил стоявшего в прихожей крестьянина. Мысль о прекращении крепостного права как-то безсознательно уже господствовала, и мальчиком за обеденным столом я уже подумывал, за что про что мы пресыщаемся, а наши дворовые нам служат. Во время долгих ужинов откладывал я в особую тарелку какого-нибудь кушанья и потом относил его моей милой Маргарите Семеновне, которая укладывала меня спать и научила меня разным пословицам.
В начале 1853 года поселился я в Москве на Малой Лубянке в доме III-й гимназии в меблированных комнатах, которые содержал Француз Haldy, вместе с П. А. Безсоновым. Мы занимали две комнаты с небольшой прихожей; его была дальняя, моя проходная. Несносен он был очень, поздно возвращаясь и тем будя меня. Чай и сахар у нас был общий в шкатулке, от которой ключ был у меня. Однажды я куда-то ушел, а ему захотелось не в урочный час чаю; прихожу: шкатулка сломана и сломана моею же бритвою, которая от того испортилась. Я должен был с ним расстаться и весной нашел себе комнату в игрушечном магазине против манежа в доме тогда Торлецкого, ныне князя Гагарина. Этот магазин держал старик Трухачев с двумя своими дочерьми. Моя комната о 2-х окнах выходила в сторону манежа, но магазин в 9 часов запирался и чтобы не выходить через грязный двор, я вылезал на площадку из окна. Мои посетители этим же путем являлись ко мне, к негодованию Трухачевых и полиции. И еще до отъезда к брату ездил я на Девичье поле к Михаилу Петровичу Погодину, который стал благоволить ко мне с самого времени моего студенчества. Он, узнав от Шевырева про мою работоспособность, однажды навестил меня в рабочей моей келье, просидел довольно долго и вслед за тем прислал ко мне целый воз своего «Москвитянина», который он издавал с 1841 года. В благодарность я составил указатель статей «Москвитянина» по истории Русской, этнографии и по истории Русской словесности. Указатель этот я напечатал во «Временнике»[59]59
Указатель опубликован во «Временнике Общества истории и древностей Российских», 1855, кн. 21.
[Закрыть] общества Истории и Древности, откуда дали мне несколько оттисков, один из коих повез я к Погодину и был встречен бранью и криками: «Как же Вы смели со мною поступить так? Глядите: напечатано „Указатель к Москвитянину“, а не поставлено, кем он издавался?» Я благодушно отнесся к этому крику. Потом было у меня с ним еще столкновение: я поместил в «Москвитянине» какую-то статью мою о Жуковском, и он мне за нее вынес всего 6 рублей. Тогда я положил себе правилом не иметь с ним никаких денежных сношений, и мы до конца дней его (1875 г. декабря 8-го) оставались в наилучшей дружеской связи, простиравшейся и на наше семейство. Я от всей души полюбил его, и он ценил мое трудолюбие и любознательность, называя меня за мои расспросы «дразнилкою». «Когда льют колокол, говорил он, то бросают в растопленную медь кусочки дерева, необходимые для того, чтобы к ним собирался всякий сор и медь становилась чище; эти деревяшки называются дразнилками. Так и к вам прилипает всякая библиографическая мелочь». По возвращении моего от Шевичей Погодин советовал мне заняться биографией Жуковского 12 апреля 1852 года, прибавляя, что это будет угодно Государю. Чтобы собрать сведения о Жуковском, дал он мне кургузую записочку к Авдотье Петровне Елагиной, которая жила тогда близ Арбатской площади на Пречистенском бульваре во 2-м этаже довольно большого дома Шеншиной.









































