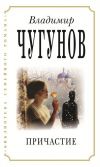Текст книги "Кабала"

Автор книги: Пэтти Дэвис
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
6
Белинда
Одну вещь Белинда хранила в секрете от Сары и, наверное, всегда будет хранить. Так, во всяком случае, сама она думала.
Она сидела на деревянной скамейке парка неподалеку от Беверли Глен и смотрела на детскую площадку с малышами. Те, что были поменьше, раскачивались на качелях, а няньки кричали им что-то по-испански. Вырастут, подумала Белинда, и наверняка будут говорить на обоих языках.
В миле от нее, на улице, уступами поднимавшейся по склону холма, располагался особняк «Плейбой» – туда хорошие девушки отправлялись для того, чтобы превратиться в плохих.
Так отец Белинды назвал ее, когда ей было шестнадцать – дрянная девчонка – хотя на самом деле таковой она не была. Она вовсе не собиралась забеременеть, это получилось как-то само собой из-за беспечности, избытка чувств и полного незнания тех природных циклов, по которым живет ее тело.
Любовью с Николасом она занималась всего трижды, с каждым разом становясь все более страстной. Первые два имели место на заднем сиденье его «мустанга», третий – на кладбище, под полной луной, рядом с могильным камнем, где было высечено: «Здесь лежит Бартон Пайкс, 1917–1928». В эту ли ночь все случилось или раньше, Белинда так и не узнала, но ей казалось, что именно в эту.
Бедненький Бартон – умереть в одиннадцать лет! – наверняка душа его не была готова покинуть этот мир. Белинда представляла себе, как дух его бродит вокруг могилы, она почти ощущала на щеке движение потревоженного воздуха. Душа ребенка, видимо, все еще не могла смириться с безвременной смертью, с вечным мраком, пришедшим тогда, когда маленький человек не успел даже узнать, что такое свет. И вдруг явилось спасение: двое потных подростков, решивших сыграть в русскую рулетку – каждый своим оружием, слишком смущенные для того, чтобы снять с себя одежду, освещенных луной, торопливо стремившихся воспользоваться преимуществами своей невинности. Так Бартон получил возможность совершить обратное путешествие в земную юдоль, по которой тан скучал. Вот как все это представлялось Белинде.
Ей следовало бы сохранить ребенка, назвать его Бартоном, если родится мальчик, хотя имя ей не слишком нравилось.
Через восемнадцать лет, сидя на парковой скамье и глядя на ребят, которые могли быть похожими на ее сына, если бы она когда-нибудь его видела, Белинда вспоминала тот вечер, когда во всем призналась родителям.
Гостиная с истертым зеленым ковром на полу, рисунок из листьев на обоях. Как умирающий лес.
– Папочка, – проговорила она, поскольку всегда предпочитала иметь дело с ним, а не с матерью. Отец в ее глазах был августейшим монархом, она – его принцессой, а дом – замком. – Я знаю, мне только шестнадцать, и я не уверена, что хочу выйти замуж за Николаса, но… я беременна и хочу ребенка. Я знаю, что слишком молода, но я смогу найти себе работу. Я и в самом деле справлюсь, мне только на первых порах может понадобиться какая-нибудь помощь…
Это был поток слов, и страх только прибавлял ему скорости. Она отдавала себе отчет в том, что говорит в присутствии своего повелителя, находясь в его полной власти, и все ее жалкие желания могли показаться ему абсолютно лишенными смысла. Скипетр, который он держал в своей руке, вознесся вдруг над ее головой. Она испытала ощущение приговоренного к казни на гильотине.
– Как ты могла пойти на это? – спросил отец. – Что сделало тебя такой?
– Какой «такой»? – робко подняла она на него взгляд.
– Дрянной девчонкой. – Отец посмотрел на мать, чье выражение лица нисколько не изменилось, может, только печаль мелькнула в глазах. – Ты никогда не станешь матерью-подростком, – продолжил он.
– Но…
– Нет. Ты родишь, хорошо. В моей семье и речи не может идти об абортах. Но мы позаботимся о том, чтобы найти ребенку приемных родителей. Я займусь этим немедленно.
Белинда перевела взгляд на мать, маленькую и тихую, лицо которой, в завитках седеющих волос, за долгие годы научилось ничего не выражать. Когда на нем можно было что-то прочитать, это оказывалось умиротворением или улыбкой – осторожной, неуверенной; в глазах навсегда застыла усталость. Они просто не хотели ничего видеть.
Роды вспоминались Белинде в виде белой лавины крика и боли. Ребенка, который прятался в ее животе, кто-то безжалостно вырывал наружу. Чьи-то спокойные голоса советовали ей тужиться, она отвечала им криками, в которых не узнавала собственного голоса. Ей хотелось удержать ребенка в себе, так как она знала: когда все закончится, то закончится навсегда. Отец не оставил никакой возможности для новых переговоров, ей было отказано даже в праве на слезы и мольбы. Его слово было законом, изменить который не в состоянии будет и целое море слез.
Ребенка у Белинды сразу же забрали, и молоко в ее груди высохло.
Но перед этим, когда груди еще были полны и ей приходилось носить специальный лифчик, для покупки которого потребовалась специальная поездка в «Трифти», она вместе с Николасом отправилась еще раз на кладбище.
Ночь стояла безлунная, со всех сторон их обступала темнота. Белинда знала, что дух Бартона их больше не потревожит – неподвижный воздух над могилой подсказывал ей это.
– Давай сядем на камень, – предложила она Николасу.
Теперь в ней поселилось чувство одиночества – кости лежат в земле, и нет даже ветерка, чтобы сказать им, что они не забыты.
Она оперлась спиной о могильную плиту, Николас уселся на землю лицом к ней. Подавшись вперед, он поцеловал ее, нежно и осторожно, как велело ему чувство, выросшее за то время, что они были вместе.
– Мне очень жаль, Белинда, мне жаль всего.
– Шшш…
Прошли годы, но и сейчас она удивлялась тому, что произошло дальше. Может, причиной тому была боль в груди, мягкая и тревожная, заставившая ее прижать голову Николаса к себе. Сначала ему показалось, будто она хочет, чтобы он поцеловал ее в шею, но, когда он коснулся губами кожи у мочки ее уха, Белинда потянула его ниже, торопливыми пальцами расстегивая блузку. Он расстегнул лифчик, и рот его понял, что было ей нужно. Губы сомкнулись вокруг соска, сжали его, и Белинда почувствовала, как молоко начало выходить из нее. Нервы ее ожили, одолела сонливость, как будто она уплывала в мир мечты. Но она не хотела закрывать глаза. Голова Николаса покоилась на ее груди, а ведь там могла быть головка ее ребенка. Молоко вытекало, белое, как луна, которая этой ночью так и не появилась на небе. Ни один луч света не падал на двух грустных подростков, слишком быстро превратившихся во взрослых, но так и не ставших родителями ребенка, которому они дали жизнь. Которого они никогда не увидят – его унесли прочь и отдали в руки другой женщины, у которой было все: годы, муж, финансовая стабильность – не было только молока в ее груди. Темнота оказалась кстати, даже свет луны показался бы сейчас слишком жестоким.
– Я тоже хочу его попробовать, – прошептала Белинда, просовывая ладонь под щеку Николаса, приподнимая лицо его вверх.
Губы Николаса отпустили сосок и тут же припали к другому. И вновь нервы Белинды дрогнули. Оторвавшись от ее груди, Николас прижал свои губы к ее, наполняя рот Белинды сладкой жидкостью, в которой ничего не было от вкуса молока, каким она его помнила.
Глядя на его лицо, едва освещенное отблеском желтоватого света далеких уличных фонарей, она спрашивала себя, будут ли у их ребенка глаза и губы его отца. Она знала только, что родила мальчика, ей не позволили даже посмотреть на него – взяли и унесли, пока она не успела вытереть безостановочно льющихся слез.
Губы Николаса были еще влажными от ее молока. У Белинды мелькнула мысль, не заняться ли им любовью, сейчас? Но слишком уж болело у нее все внутри.
– Мы должны поклясться, – сказала она. – Молоко, которое мы с тобой пили, это наше причастие, это мы просили прощения за то, что не решились сбежать куда-нибудь вместе с нашим ребенком. И мы никогда его не забудем. Обещай.
– Клянусь, – прошептал Николас, склоняя голову чтобы набрать еще молока и поделиться им с нею.
Белинда осталась верна клятве, хотя уже много лет не видела Николаса и не имела ни малейшего представления, сдержал ли свое обещание он. Она часто гуляла по паркам и смотрела на играющих детей. Сыну ее уже исполнилось восемнадцать, наверное, сейчас он просит у своих приемных родителей машину, наверное, сейчас у него куча проблем, по крайней мере, по чьим-то меркам. И уж сейчас ему явно нечего делать в детском парке. Но для Белинды время остановилось. Для нее сын навсегда остался малышом, больше всего ей хотелось бы посмотреть, на кого он стал похож. Ей не хватало этого все долгие годы. Иногда, глядя на какого-нибудь ребенка, она говорила себе: «Это он. Я вижу сходство, я уверена в этом»
Безусловно, еженедельные ее походы по городским паркам не имели никакого смысла. Но, с другой стороны, фантазии и не обязаны быть глубокомысленными. Хорошо уже то, что они обладают способностью смягчать жестокую реальность.
С реальностью она тоже пыталась совладать, в частности, именно с ее жестокостями. Она ухватилась за последнюю соломинку, которую протягивала ей калифорнийская действительность: группы психологической поддержки. «Какими бы ни были ваши проблемы, что бы вы о них ни думали – запишитесь в наш семинар». Она побывала во многих. У Сары не хватало терпения сопровождать подругу, но ведь фактически она и не знала, что толкало Белинду к этим занятиям. Как не знала о тех часах, что она проводила в парках, любуясь детьми, размышляя о том, как все могло бы быть, если бы ее не лишили ее мальчика.
– Белинда, по-моему, ты превращаешься в неврастеничку, – заметила как-то Сара – полушутя, как поступают люди, когда не хотят проявлять всей глубины своей тревоги или озабоченности. – Я же вижу, ты постоянно что-то ищешь. Это похоже на то, будто ты пытаешься кормить себя внутривенно, только вот никак не можешь попасть иглой в вену. За какой-то месяц ты из группы межличностной зависимости переметнулась в группу медитации, оттуда – в анонимный семинар по алкоголизму – но ведь ты же почти не прикасаешься к спиртному.
Белинда ничего не стала объяснять, только сказала:
– Ну, я хочу попробовать всего понемногу.
Это было то же самое, что ничего.
Потому что то, что она искала, не имело никакого отношения ни к венам, ни к питью. Проблема заключалась в том, что в душе ее зияла огромная дыра и нечем было ее ни наполнить, ни замазать. Дыра была темная и холодная, но Белинда возвращалась к ней в мыслях постоянно. Ее тянули туда воспоминания – туда, к тому пламени, что вспыхнуло в ней, когда она дала жизнь другому существу, к той боли, что она испытывала за малыша, – своего малыша, – ведь если его отнимут у нее, там, в душе ее, что-то умрет. И ребенка отняли, и что-то действительно умерло.
Она искала чуда, как ищут его в линиях ладони, – свершится нечто, и мука уйдет, и та часть ее души вновь возродится к жизни. Ничего этого она не могла рассказать Саре, да и любому человеку – это звучало безумием даже для нее самой.
Она не могла бы рассказать о том, как однажды на борту самолета горький, безостановочный детский плач откуда-то из задних рядов кресел буквально разрывал ей грудь. Слезы ребенка будто вновь наполнили ее молоком. Память неотступно жила в ее теле, в ее плоти, наверное, она уже никогда не уйдет. И протуберанцы ее время от времени прорывались наружу – вызванные плачем малыша или видом детской ручонки, лежащей поверх руки взрослого человека. Как-то раз, идя по шумной улице, она услышала позади себя торопливые шаги ребенка, почти бег. Повернувшись, Белинда раскинула в стороны руки, готовая поймать, ухватить его, и не сразу до нее дошло, что это совершенно незнакомый ей мальчуган, озорно и радостно смеющийся, как всякий убежавший от мамы проказник.
Интересно, думала Белинда, а кто бегал за моим мальчиком, когда он был маленьким? Та женщина, которая называла себя его матерью, смеялась ли она в эти мгновения, сама превращаясь в ребенка, или его игривость вызывала в ней только досаду?
Самую непереносимую боль, как правило, причиняют незначительные мелочи. Они подстерегают на любой улице, в любом кафе любого города. К ним нельзя приготовиться – Белинда уже знала это – и их удары всегда направлены в самое сердце.
Когда-то ей довелось услышать о девушке, покончившей жизнь самоубийством, она ударила себя кухонным ножом в грудь – в сердце – раз, другой, третий. История запомнилась. Белинда потом многократно спрашивала себя: наверное, ее преследовала та же боль – отчаянное стремление давать пищу, поддерживать другую жизнь. Ведь должен же быть рот, губы, тянущиеся к твоей груди. Но вместо них – пустота. Никого. Только темный ночной воздух, тяжелый и ничего не требующий от нее. Лишь холодное стальное лезвие способно принести забвение и покой. Долгие недели проходили для Белинды в размышлениях о той девушке, временами вспоминала она о ней и сейчас. Из всех способов умереть та предпочла разорвать собственное сердце. Она ударяла по нему с такой силой, которую сама в себе не подозревала. Она била в сердце, потому что именно оттуда шла боль.
Солнце уже снижалось, висящий в воздухе смог сделал небо оранжевым. Белинда набросила на плечи свитер и поднялась, чтобы идти, размышляя о том, что земля, скорее всего, конечно задохнется – но до чего же красивыми будут закаты. Еще раз оглянулась она на светловолосого мальчугана лет семи или восьми, карабкавшегося по деревянной лестнице. Она наконец решила для себя, по крайней мере, на сегодняшний день, как выглядел ее сын когда-то – десять лет назад.
Будь у Белинды шкатулка для драгоценностей, в ней лежала бы всего одна вещь – ее тайна, ее сын, где бы он ни был, в кого бы ни превратился. И если эту шкатулку открыть, позволить заглянуть в нее кому-то – даже Саре, – то что-то сломается, в этом она была полностью уверена. Она размокнет или покроется ржавчиной – словом, превратится для нее во что-то иное. Нет, единственную в ее жизни радостную и светлую вещь она таковой и сохранит – во что бы то ни стало.
7
Сара
К берегу шел прилив. Сара чувствовала это, она почти ощущала его вкус, хотя во рту ее еще сохранялся вкус Энтони. Солоноватый – такой же, как и у океана, подумала она.
Они прошли по пляжу, пересекли чье-то частное владение, миновали несколько дорогих особняков и вошли в пещеру, нуда можно было попасть только во время отлива. На стенах тут и там лепились раковины моллюсков, влажный воздух был пропитан запахом моря. Расстелив свои майки на дне пещеры вместо одеял, они стали заниматься любовью, как бы неохотно поначалу – обнаженные, они чувствовали себя не совсем уютно на открытом воздухе, перед безбрежной водной гладью и лентой песка, на которой в любую минуту мог кто-то появиться и увидеть их, увидеть ее ноги, обвивавшие его бедра.
Но неловкость быстро прошла. Когда дыхание их ускорилось, а движения стали безотчетно-отчаянными, мысли о том, что кому-то взбредет в голову идти сюда, оставили их. Сара слышала эхо собственного голоса, отражавшегося от камней, вновь и вновь повторявшего имя Энтони. Ей казалось, что она либо произносит это имя, либо говорит ему «да» – два эти спасательных конца были брошены ей на помощь в бурные воды любви.
Энтони согнул ноги в коленях, уперся ими в песок, осторожно сел на нее верхом. Извергнувшаяся сперма, когда она заполнила ее рот, показалась Саре одной из тех волн, что бились о берег; ритм дыхания моря и ритм движения их тел таинственно совпадали.
Удар волны и вспышка внутри нее, в той части ее сознания, которая еще никогда с такой силой не хотела принять кого-то в себя.
Расслабленно лежа на спине, Сара представляла, как океан, все приближаясь к пещере, загоняет их в ловушку, отрезает пути отступления. Это было вполне реально – она не знала, как долго они лежат здесь. После каждого удара волны водяная завеса становилась все гуще. Может, это не так уж и важно – если океан поглотит ее, ведь какая-то ее часть уже все равно утонула, еще неделю назад. Всякий раз, когда она раскрывала рот, чтобы сказать «да», что-то лишало ее дыхания: морской воздух, порыв ветра, его тело.
– Нам пора идти, – Энтони поднялся, чтобы собрать одежду. – Прилив все выше.
Сара протянула руку и коснулась его плоти, теперь мягкой, успокоенной и податливой. Такой она ее тоже любила. И ей тоже говорила «да» – только по-другому.
Океан подкрадывался дюйм за дюймом, он уже лизал ближайшие камни, готовый забрать ее с собой. Или это были его глаза, его взгляд, который увлекал, лишал желания сопротивляться?
– Пошли, пока волны нас не накрыли, – повторил Энтони.
Он подобрал ее майку, свитер, стряхнул с них песок и принялся натягивать их на Сару, направляя ее руки в рукава. Осторожным движением убрал волосы с ее лица. Может быть, именно в такие моменты, вовсе не опасные, она с наибольшей остротой ощущала себя его пленницей. Моменты, когда он был для нее и заботливым отцом и любовником сразу, а она превращалась в маленькую девочку, которой так нужны его защита и ласка – больше, чем всегда. Когда они уже шли вдоль пляжа, Сара сказала:
– У меня такое ощущение, что ты меня околдовал. Иногда это доставляет изрядные неудобства.
– Ты можешь уйти, – ответил Энтони, глядя мимо нее, на волны. – Если неприятно, зачем же оставаться? Об этом ты себя спрашивала?
– Всего лишь сотню раз в день.
– И?
– Ты как наркотик, хотя я и смогла бы отвыкнуть от тебя. Мне предлагают работу в картине, и я готова согласиться. Съемки будут во Флориде, так что есть реальная возможность оторваться от тебя. Думаю, у меня не будет времени, чтобы думать о тебе, – сам понимаешь, двенадцатичасовой рабочий день, проблемы с гардеробом, с актерами, уже не двенадцать часов, а четырнадцать.
Какое-то время Энтони молчал, взгляд его блуждал по песку.
– Это было бы совсем плохо, – сказал он наконец. – Я хотел попросить, чтобы ты встретила меня в Париже.
– В Париже?
– Это первое место съемок картины, которую я намерен делать. Мы пробудем там по крайней мере пару недель, жить придется в каком-нибудь отеле на Левом берегу.[4]4
Название одного из городских кварталов Парижа, расположенного на левом берегу Сены.
[Закрыть] Я был бы рад оказаться в Париже вместе с тобой, но если ты нашла себе работу…
– Мне нужно подумать, – ответила Сара, уже зная, какое решение примет.
– Думаю, что так я и сделаю, – сообщила она вечером Белинде по телефону. – Может быть, я сошла с ума, отказываясь от этой работы, но Париж…
– Временами нужно уметь быть непрактичной. Часто ли в жизни выпадают такие случаи? Я бы поехала. – Белинда была романтиком.
Женщина-агент Сары проявила нуда меньше энтузиазма.
– Ты отказываешься от предложения участвовать в съемках первой в твоей жизни художественной картины? Да что это, черт побери, с тобою случилось?
Сара наклонила голову подальше от трубки.
– Мириам, терпеть не могу, когда ты так вопишь. К тебе сразу же возвращается твой нью-йоркский акцент, впечатление, будто говоришь с таксистом. Я еду в Париж. Меня пригласили.
– О! Пригласили! Вряд ли это деловая поездка. И кто же он?
– Энтони Коул.
– Прости! В таком случае, почему же не деловая? Он снимает там фильм. Почему бы тебе не заняться там костюмами?
– Да, было бы неплохо, не правда ли?
– Такое случается на каждом шагу. Но позволь сказать тебе вот еще что. Общаясь с ему подобными, тебе имеет смысл забыть об эмоциях. В обществе дам он ведет себя как Генрих VIII со своими женами. Надеюсь, тебе хватит ума.
– Опять твой нью-йоркский цинизм!
– Это не цинизм, – ответила Мириам, – а всего лишь здравый смысл, который ты почему-то обходишь стороной. Мужчины его типа никогда не меняются. Таких, как он, за милю видно. У них у всех на лбу написано: «Опасно для вашего здоровья! Не для приема внутрь!» Так что же тебя так привлекло в его приглашении?
– Мириам… Я как-нибудь справлюсь… думаю.
На том конце линии послышался демонстративный вздох.
– Послушай, я знаю, что я – всего лишь твой агент, но я и в самом деле хочу тебе добра. Мужчины вроде Энтони Коула кормятся как раз теми женщинами, которые считают, что они «как-нибудь справятся». Чтобы доказать тебе это, могу лишь добавить: ты уже не справляешься, ты заваливаешь работу.
– Поговорим, когда я вернусь из Парижа, – сказала Сара.
Она знала, что в мозгу своем уже нарисовала картину их жизни в Париже, и теперь ей хотелось, чтобы действительность оправдала ее ожидания. Подобного полета воображения Сара еще не испытывала. Здесь ведь шла речь не о безликой фигуре из ее сновидений, здесь она имела дело с плотью и кровью такого мужчины, объятия которого оставляли синяки на ее коже.
Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что именно делает ее такой размягченной и податливой. Поездка в Париж – романтическое путешествие с человеком, которого она любит. Только у человека этого ладони были в мозолях от того, что слишком часто ему приходилось защищаться от наседавших на него поклонниц и поклонников. Сейчас он отталкивал от себя ее. Тут была ее твердыня, тут и думать нельзя было ни о какой мягкости.
Когда она пришла к Марку, чтобы попрощаться перед отъездом, тот бросил на сестру озадаченный взгляд.
– Почему мне так хочется спросить, не влюбилась ли ты? Может, потому, что ты отказалась от хорошего предложения, чтобы рвануть в Париж с Энтони? На тебя это не очень-то похоже.
– Иногда мне и самой кажется, что я влюблена, – ответила Сара, – иногда же я думаю, что это всего лишь временное помешательство.
Рассмеявшись, Марк обнял ее.
– Знаешь, я считаю, что любовь только тогда любовь, когда идешь в ней до конца.
– Да, в этом-то и проблема. Вот как я себе это представляю: неважно, насколько близок мне Энтони или насколько наши отношения интимны, – все равно у меня в тумбочке лежит револьвер. Пусть незаряженный, но он у меня есть. Я не могу позволить себе быть абсолютно безоружной. В повседневной жизни.
– Начинаю понимать, зачем тебе так понадобился Париж. Ведь перевозка оружия через границы запрещена, так?
– Наверное, – согласилась Сара. – Как обычно, ты до всего догадался раньше, чем я.
Белинда отвезла Сару в аэропорт и оставалась рядом с нею до объявления о посадке.
– Наслаждайся самым лучшим, самым романтическим временем в своей жизни, – напутствовала она Сару, не обращая внимания на проходящих мимо пассажиров. Затем, отступив на шаг, положила руки на плечи подруги. – Ведь это то, чего ты сама хочешь, не правда ли? Чего это я так смутилась?
– Потому что такое и в самом деле сбивает с толку. Я не в своем уме с того дня, как мы с ним встретились.
«В Париже хочется стать художником, – писала Сара Белинде на второй день после приезда. – Тут все дело в свете. Кто-то мне сказал, что это влажность воздуха или что-то такое в атмосфере, что делает свет в Париже совсем не таким, как в других городах. Теперь я понимаю, почему художников всегда так тянуло в Париж. После обеда по небу каждый день плывут облака, проходит маленький дождик, а после него небо опять меняется».
Об Энтони она ничего не писала.
Энтони и большинство занятых в съемках актеров остановились в «Лютеции», расположенной на Левом берегу. Съемки велись главным образом в заново отреставрированном замке, в тридцати минутах езды от города, так что почти каждый день Энтони покидал гостиницу чуть ли не на рассвете.
Картина представляла собой современный вариант романтической истории любви, по сюжету мало чем отличавшийся от классических романов, разве что за исключением того, что на актерах были джинсы и пиджаки от Армани. Богатый молодой человек влюбляется в бедную девушку, которая и одеться толком не умеет, не знает, какой вилкой что едят и зачем их вообще так много. Отец ее работает в зеленной лавке или нечто в этом роде, а родители молодого человека, жуткие снобы, угрожают выгнать его из семьи, оставить без средств и лишить наследства, если он посмеет остаться с ней. Выживет ли любовь? Но кого это на самом деле волнует? Все это уже столько раз было, что зрителя устроит любая концовка.
Сара, лежа вечером в ванне и читая сценарий, убаюканная теплой водой и банальностью замысла, подумала, что спасти фильм может только неожиданная развязка: к примеру, дочка зеленщика расстреливает из автоматического пистолета всех, кроме отца ее возлюбленного, и пускается со стариком в бега – чтобы жить за его счет жизнью состоятельной дамы, учить испанский для общения с прислугой и читать «Мили пост», где о столовых приборах написано все.
– Ну и как тебе? – спросил ее наутро Энтони, за минуту до того как Сара скрылась в ванной.
– О… это э-э… премиленькая вещица.
Она прекрасно понимала, что большинство занятых в съемках людей согласились на это главным образом потому, что их привлекала возможность вдоволь наиграться с оружием в сельской Франции. Ее саму это абсолютно не интересовало.
Не желая каждый день болтаться на съемочной площадке, она тратила время на прогулки по парижским улицам, вслушиваясь в музыку языка, который едва понимала. Она силилась вспомнить что-нибудь из школьного французского; затерявшись в незнакомом городе, что случалось по меньшей мере раз в день, бесстрашно обращалась к прохожим и вместе с ними смеялась своим ошибкам – их хватало. Она сидела за столиками кафе на тротуарах, делясь хлебными крошками с птицами, а по утрам бегала ради здоровья по Люксембургскому саду, находившемуся неподалеку от их отеля.
Такой образ жизни ее устраивал: днем она была предоставлена самой себе, а ночью к ней приходил Энтони. Однако ночи казались ей странными. Казался странным Энтони. Секс превращался в привычку – почти сознательную. Сара говорила себе: это потому, что он слишком много сил отдает работе. Ей хотелось убедить себя в этом, но уверенность не приходила. И все же их отношения давали ей ощущение стабильности, безопасности. Пока его не было рядом, он не мог в поисках чего-то лучшего бросить ее в неизвестности, он не мог причинить ей никакого урона. Урон существовал лишь в вероятностном измерении.
Был вечер; Сара только что вернулась в свой номер. Она сидела на балконе, сожалея о том, что отправилась сегодня на съемочную площадку. За неделю жизни в Париже она побывала там всего дважды, да и то на короткое время. Но не сегодня. Отправившись туда после обеда, она до вечера смотрела на то, как Энтони командует актерами, ругается со съемочной группой и расхаживает по площадке с видом безраздельного хозяина – от этого зрелища возникала какая-то тяжесть в животе. Чувство, которое трудно выразить словами и от которого невозможно избавиться.
Сумерки сгущались. С балкона Сара могла видеть Эйфелеву башню – стройный, подсвеченный прожекторами силуэт на фоне темного неба. А на противоположной стороне улицы над домами плыла желтая луна, похожая на брошенный в черную воду яркий воздушный шарик. Горевшие в номере свечи напоминали о сценах в фильме, и от этого веяло какой-то глупостью. Может, она и на самом деле дурочка, если сидит здесь нежной парижской ночью, провожая взглядом каждое подъезжавшее ко входу в отель такси, дожидаясь возвращения Энтони.
Перед мысленным ее взором проплывал день: те моменты, когда желудок сворачивался комочком, а кровь в жилах леденела. Те моменты, когда она доказывала себе, что все выдумывает. По правде говоря, нельзя было сказать, что Энтони флиртовал с исполнительницей главной роли прямо на глазах у Сары – нет, он просто объяснял ей, как и что она должна делать, он поддерживал ее и ободрял, как и любой другой режиссер на его месте. Но почему же тогда Саре опять показалось, что она тонет, что ее засасывает пучина? Что вот-вот ей не хватит воздуха?
Актрисе было лет двадцать с небольшим, белокурых волос, прикрывавших скулы, похоже, не касалась рука парикмахера. Во всем поведении девушки читалась спокойная уверенность. С гибкой мальчишеской фигурой, с прической, требовавшей всего лишь взмаха щетки, она обходилась без косметики даже перед камерой. Как будто знала, что красота ее не нуждается ни в каких дополнительных ухищрениях. Сара сразу же почувствовала себя разукрашенной; едва заметные тени грузом давили на веки. Пожевав губами, она слизнула с них помаду, пытаясь успокоить себя, вернуть то ощущение безмятежности, в которой пребывала когда-то – до Энтони. И при этом знала, что погружается все глубже, что воды вот-вот сомкнутся над ее головой.
– Эллисон, – обратился к девушке Энтони после одной из сцен. – Можно тебя на минуту? Хочу сказать пару слов.
Приблизившись, он положил ей руку на плечо и повел в сторону. Что-то в его позе, когда он стоял, обратившись к актрисе лицом, в его манере держать ее за руку, в том, как он склонялся к ее уху… Саре захотелось броситься оттуда со всех ног, но она не могла сдвинуться с места. Не могла отвести от них глаз; было в этом нечто искушающе-запретное, как если бы она подглядывала в окно чужой спальни. Затем руки ее пришли в движение, пальцы сжались, будто это она, а не Энтони касается сейчас той, другой. Она слышала аромат ее духов, кожей ловила ее дыхание. На какое-то мгновение она превратилась в Энтони: чувствовала его чувствами, испытывала его ощущения.
Упершись локтями в балконные перила, Сара то поднимала голову к катящейся по ночному небу луне, то пыталась высмотреть Энтони среди расплачивающихся с таксистами пассажиров. В ней крепло осознание того, что сейчас она поняла нечто очень важное. Я становлюсь им, думала она. Ей вспомнился вчерашний день, воскресенье, когда они сидели в кафе «Флора», в Сен-Жермене: мимо них прошла девушка, и Сара посмотрела на нее так же, как посмотрел бы Энтони. Она окинула взглядом ее бедра, оценила походку, линию губ, все это не своими, а его глазами. Представила себе девушку обнаженной, с раскинутыми в стороны ногами – и опять воображение было не ее, а Энтони. А затем она повернулась к нему, и оказалось, что Энтони следил не за девушкой – он не сводил глаз с нее, Сары. Он понял. Понял, что завоевал, подчинил ее себе, вложил в ее мозг собственные мысли.
Еще до того, как белое такси развернулось у подъезда отеля, она уже знала: это Энтони. Сара перегнулась через перила, чтобы увидеть, как, стоя на бровке тротуара, он помогает выбраться из машины Эллисон. Подобного она не ждала, хотя в том, что она видела, была своя логика – актриса тоже жила в «Лютеции». Часы показывали почти половину десятого. Энтони предупредил Сару, что вместе с Эллисон ему нужно будет отработать некоторые сцены фильма. Он ждал, как она на это будет реагировать. Однако Сара была достаточно опытна, чтобы сдержаться от проявления каких бы то ни было оценок. Прошло уже около двух с половиной часов. Интересно, почувствует ли она от него запах Эллисон? Никаких вопросов, никаких – именно потому, что он их ждет. Такую игру выигрывают по частям, малыми победами. Сейчас требовались только быстрота и ловкость, чтобы в самую критическую минуту отпрыгнуть от края бассейна, кишащего аллигаторами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?