Текст книги "Вслед кувырком"
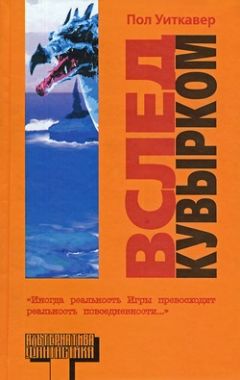
Автор книги: Пол Уиткавер
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Извините!
Совсем уже сгорая от стыда, он наклоняется подобрать монеты.
– Я тебе говорил, – звучит безмятежный голос над его головой. – Мицар не нищий. И ты прав, это позор.
Чеглок поднимается и аккуратно кладет монеты в миску, заставляя себя глядеть на тельпа, а не на нормала.
– Не следует вам так читать мои мысли, – выговаривает он, стараясь придать себе уверенность. – Это противозаконно.
– Как и многое другое, – пищит нормал, и снова безупречные зубы Мицара вспыхивают в уродливом разрезе усмешки, больше похожей на оскал. – Если Коллегия захочет меня наказать, они знают, где найти меня со святым Христофором.
– Святой… это так нормалы зовут своих жрецов?
– Некоторые.
– Странно, что так зовут раба.
– Совсем не странно. Ты не читал Священную Трилогию?
– Мы ее в школе проходили, но на самом деле я ее не читал. – Чеглок не знает никого, кто ее прочел бы. Не то чтобы эти тексты – сакральные тексты религии нормалов, Церкви Троицы – были запрещены. Но в Вафтинге по крайней мере Журавль не поощрял их изучения, и преподаватели Сети, лекторы-тельпы с разных факультетов Коллегии, тоже в этот предмет не углублялись. – А зачем? Это же все суеверия и ложь.
– О враге многое можно узнать, изучая его ложь – особенно ту, что он говорит сам.
– Я знаю про нормалов все, что мне нужно.
– Тогда ты, несомненно, мудрый. Но из страниц этой Трилогии я узнал историю святого Христофора – принца, который носил на плечах младенца, ипостась их трехликого бога. Вот так и мой верный конь когда-то был принцем, сводным братом самого Плюрибуса Унума. Среди нормалов у знати вполне в обычае жертвовать глазом или конечностью, чтобы получить антех-протез. Не знаю, сможешь ли ты поверить, но такое варварское увечье служит у них объектом восхищения и актом благочестивой преданности.
– Они безумны.
– Да, но от этого они не становятся менее опасными. Например, глазной имплантат святого Христофора служит еще и органом доступа в Сеть, и мощным лазером. Несомненно, тебе интересно, как я получил свои раны, но ты эйр и слишком вежлив, чтобы спросить. Я тебе расскажу. Они получены в битве – битве с этим нормалом и его слишком уж буквально испепеляющим взглядом. Я его победил, хотя той ценой, которую ты видишь, и мои войска взяли его в плен. Когда стало ясно, что я от ран не умру, как бы ни были они ужасны, Совет, по обычаю, преподнес мне его в награду за победу, как замену того, что я утратил. И теперь Мицар, как трехликий бог, ездит на плечах принца! Как же мне было назвать его, как не святым Христофором?
Мицар скалится в хриплом смешке, звук которого издает нормал, и Чеглок видит почерневший обрубок плоти, похожий на язык попугая, там, где должен был быть язык тельпа.
– Я теперь его бог. Он Мицара почитает, Мицара страшится. Бог нормалов – это, как ты говоришь, ложь, миф. А Мицар – реален, и гнев его – тоже.
На Чеглока снова накатывает тошнота, его одолевает стыд, хотя теперь по-другому.
– А он… он помнит, кем был?
– Когда Мицар на нем сидит, святой Христофор знает только то, что я разрешаю ему знать, и ощущает лишь то, что я разрешаю ощущать. Но когда Мицар отдыхает, святой Христофор помнит. Я его тогда держу к себе поближе, чтобы слышать его слезы и стоны. Нет для меня музыки слаще.
И тут же святой Христофор начинает плакать. Ни звука не слетает с его губ, не меняется безмятежное выражение лица, но вдруг из глаз начинают литься слезы – и те, что текут из антехового шара, неотличимы от тех, что текут из настоящего. Потом, без предупреждения и тем более без причины, нормал начинает смеяться, и залитое слезами лицо озаряется яркой, безыскусной радостью.
Чеглок отшатывается, будто безумие святого Христофора может перекинуться на него. До него начинает доходить, насколько сильна и непонятна раса тельпов на самом деле. Псионические способности Мицара не просто компенсируют ему отсутствующие конечности и глаза, они это все делают несущественным. Эйр без крыльев – инвалид навеки; например, бедняга Голубь: хоть ветра и погода все еще отвечают на его псионический призыв, изувеченное крыло лишает его радости полета. Даже если он своей силой подымет себя в воздух, никогда он не сможет парить с той грацией, которую давали крылья, этот полет будет всего лишь жалкой пародией. Но тельп может лишиться рук и ног, стать глухим, немым и слепым – и это никак не скажется на его силе. Тельп с целым мозгом – по-прежнему тельп. Чувства и тела нормалов полностью в распоряжении Мицара, и он может использовать их как пожелает, снимая и надевая, словно одежду, и еще он в отличие от Голубя может снова сделать себя целым в Сети, когда только захочет: Чеглок готов спорить, что вирт этого тельпа не отражает его теперешнего физического состояния, но является идеальной версией того, каким он был до своей дорого доставшейся победы над святым Христофором.
– Тебе не нравится твоя пентада, – говорит святой Христофор писклявым голосом. Слезы перестают течь, восторженное выражение сходит с лица, хотя от влаги вид у него оглушенный и расстроенный, как у жертвы несчастного случая в состоянии шока. – Ты не знаешь, можешь ли им доверять. И думаешь, не следует ли тебе отказаться.
Чеглок заставляет себя перевести глаза с раба на хозяина, но он не может решить, что более неприятно: разные глаза первого или черная повязка на глазах второго.
– Вы читаете мои мысли!
– Не надо уметь читать мысли, чтобы понять, что могло привести юного эйра на площадь Паломников, когда назначения давно уже сделаны. Думаешь, ты первый сюда приходишь в сомнениях и дурных предчувствиях?
Чеглок хмурится: это уже слишком личное.
– Послушайте…
– Мицар не забыл, – прерывает его нормал. – Он сейчас предскажет тебе судьбу.
– Не беспокойтесь, – отвечает Чеглок. – Я в эту ерунду не верю.
– Правда? – Святой Христофор еще раз встряхивает миску. – Тогда возьми обратно свои деньги.
– Оставьте себе.
– Мицар не нищий! – запальчиво заявляет нормал. – Он – предприниматель, оказывающий ценные услуги за гонорар. В милостыне он не нуждается и ее не принимает.
Чеглок вздыхает, признавая поражение.
– Ладно, давайте.
– Мне нужна какая-то личная вещь.
– Чего?
– Вещь, принадлежащая тебе, такое, что ты носишь в карманах или в сумке, например. Я тебе ее верну, не беспокойся.
– А вы не будете бросать кости?
– Ну, перестань, – фыркает святой Христофор, будто его обвинили в наглом шарлатанстве, и губы Мицара кривятся в улыбке. – Этим пусть занимаются Святые Метатели. Но если хочешь, мне твои костяные кубики подойдут.
Чеглок не хочет. Он вовсе не собирается вручать драгоценные кости Мицару и его «верному коню». Он шарит по карманам: какая-то мелочь, коробка спичек, что-то скомканное… вытаскивает платок Полярис. Кровь уже засохла пятнами чайного цвета.
– Ага! – восклицает святой Христофор.
– Это всего лишь платок.
У тельпа раздуваются ноздри.
– На нем кровь, – замечает нормал. – Твоя?
Чеглок смотрит на одного, на другого, начиная беспокоиться.
– Да, но…
– Подойдет.
Святой Христофор выхватывает платок, подносит к носу и тщательно втягивает воздух, будто наслаждается ароматом розы. Потом, к удивлению Чеглока, опускает тряпку к губам и трогает пятна кончиком языка, словно ребенок, проверяющий вкус или температуру незнакомой еды. Все это время из глубины глотки Мицара доносится тихое немелодичное гудение, а голова с повязкой на глазах качается взад-вперед под какой-то ритм, слышный только Мицару.
Пользуясь возможностью повнимательнее рассмотреть тельпа, Чеглок поражается, видя точные узоры разрезов под спутанной бородой и боевыми шрамами. Каждая из шестидесяти четырех сутур «Книги Шанса» имеет свой узор разрезов, и эти узоры становятся все более изощренными, включая линии своих предшественников, от простого горизонтального разреза Сутуры Первой, «Горизонт», до сложных арабесок Сутуры Шестьдесят Четвертой, «Столкновение Облачных Залов», в котором содержатся все предыдущие узоры. Каждый вечер в ритуале отдачи крови мьюты старше двенадцати лет мечут кости, определяя, какая сутура составит текст вечерней молитвы и где у себя на теле будут одновременно нанесены соответствующие разрезы листом нож-травы. Раны заживают за ночь, спасибо селкомам, доставшимся в наследство от Вирусных Войн, и наутро остается новый узор шрамов. Когда мьют выполняет ритуал в одиночку, для сложных узоров предписываются упрощенные версии, а недоступные для самого владельца зоны тела исключаются. Таким образом, может быть выполнена даже высшая сутура, если она выпадет. Из этого правила есть только два исключения. Первое – так как любой тельп может быть в любую минуту вызван на Факультет Невидимости и направлен в Империю Истинных Людей как шпион или убийца, у тельпов этих красноречивых шрамов нет (кроме тех случаев, когда тельп надевает пеструю рясу и уходит в Святые Метатели), хотя тельпы знают боль и радостное облегчение отдачи крови, практикуя ритуал в Сети над своими виртуализованными сущностями, а нервы их нетронутых тел из плоти и крови поют напряжением и радостью легкого холодного поцелуя воображаемых листьев нож-травы. И во-вторых, только Святые Метатели наносят разрезы на кожу шеи и головы – обычным мьютам запрещено все, что выше плеч, а Святым Метателям – все, что ниже плеч. Безволосые изрезанные головы старых Святых Метателей больше всего напоминают панцирь насекомого, и потому их называют – правда, за глаза – «жуками».
И выходит, эти шрамы означают, что Мицар был не просто офицером, но жрецом. Святые Метатели служат в вооруженных силах, но они не принимают активного участия в битве и не становятся офицерами – так рассуждает Чеглок, – а значит, Мицар должен был оставить жречество перед тем, как стал офицером. Сделал он это по своей воле, или пеструю рясу с него сорвали за то или иное нарушение, Чеглоку не узнать, а спрашивать он не собирается. Но презрительный отказ тельпа бросить кости для предсказания будущего заставляет думать, что его расставание с жречеством не было мирным. А это наводит на мысль, не приложил ли тут руку Факультет Невидимых. Почти ничего не зная наверняка о Невидимых, легко поверить во что угодно.
Но Чеглока не тянет об этом спрашивать, даже наедине с собственными мыслями… если такое уединение вообще существует: насколько он понимает, Мицар прямо сейчас подслушивает его мысли. Тельп не выказывает большого уважения к закону, а уж тем более – страха, быть может, исходя из теории, что терять ему нечего. Хотя наверняка у него можно забрать святого Христофора.
Тем временем нормал, закончив обнюхивать платок Чеглока, рассматривает его под разными углами, вертя в руке так и этак, как портной оценивает лоскут ткани. Чеглок замечает с тошнотворным ужасом, который всегда испытывает в присутствии антеха, что зрачок ледяного синего глаза быстро расширяется и сужается, потом диафрагма замирает на микросекунду на определенном диаметре, потом на другом, еще на другом, и переходы происходят без какой-либо заметной системы. Мицар продолжает мотать головой в ритме, не имеющем ничего общего с его немелодичным гудением. Чеглок невольно задумывается, не станет ли это очередной злобной шуткой вроде той, что сыграла с ним Полярис; у него такое чувство, будто он стоит голый на посмешище всему городу. Но, хотя некоторые прохожие бросают в его сторону любопытные взгляды, никто не останавливается и не подходит посмотреть поближе и уж тем более никто не смеется и не отпускает замечаний. До него доходит, что даже такое зрелище, которое собрало бы толпу в Вафтинге, для Многогранного Города ничем не примечательно. Вопреки присутствию огромного количества народа, для стольких глаз он здесь почти невидим.
И наконец – как ребенок, которому надоела игрушка, – святой Христофор поднимает глаза от окровавленного платка.
В антеховом глазу нормала не читается первичное узнавание, которым живые существа объявляют друг другу о своем существовании и подтверждают его для себя. Он холоден и мертв, будто цветное стекло. И даже живой глаз похож на матовый желтый шарик. И все же, напоминает себе Чеглок, из этих глаз смотрит на него Мицар, как сквозь ясные хрустальные окна. Вот тебе и невидимость, думает он.
– Кровь была твоя, но платок не твой, – вспыхивают зубы Мицара, когда раздается голос нормала, радостно-хитрый. – Мицара тебе так просто не обдурить!
– Я не пытался обдурить Мицара, – отвечает Чеглок, бессознательно подхватывая привычку тельпа называть его в третьем лице.
– Владелец платка – женщина? Да или нет?
Чеглок кивает:
– Она…
Святой Христофор поднимает руку, все еще держащую платок.
– Мицару ничего говорить не надо, он тебе сам расскажет. Теперь: эта женщина – твоя возлюбленная? Да или нет?
– О Шанс, нет! Она…
– Молчание! Не сейчас, быть может, но в будущем? Ваши судьбы переплетены, кровь связывает тебя с этой женщиной… тельпицей, если я не обманываюсь; членом твоей пентады? Не отвечай!
Чеглок с трудом сдерживает слова. Если Мицар не хочет слышать ответов, не надо, Шанс его подери, задавать столько вопросов!
– Ты не дезертируешь, юный паломник, но ведь ты и так это знаешь? Знаешь. Завтра утром ты выйдешь из этих ворот со своей пентадой и пойдешь с ней к Голодному Городу. Но придут туда не все, кто выйдет. Ты не доверяешь своей пентаде, и здесь интуиция тебя не обманывает. Будет предательство, будет вероломство. Прольются слезы, прольется кровь. Но не отчаивайся, я вижу…
– Стоп, – перебивает Чеглок. – Что значит «предательство»?
– Этого я сказать не могу.
– Не можешь или не хочешь?
Мицар и святой Христофор зловеще улыбаются в унисон, и Чеглок впервые ощущает псионическое прикосновение тельпа, быстрое и мощное, как опытный удар клинка убийцы. Он не успевает и слова сказать, а виртуализация уже завершена. Чеглок крепко зажат в ментальных тисках Мицара, тело его застыло там, где стоит, разум тащат в Сеть, это царство кошмара, созданное нормалами, и переход туда внушает ненависть и страх всем мьютам, кроме тельпов.
* * *
– Джек! Слышь, Джек?
В ухе – шепчущий голос Джилли.
– Чего? – шепчет он, поворачиваясь к ней лицом в полумраке старого гимнастического зала, где они лежат в спальных мешках бок о бок на краю поля из сдвинутых гимнастических матов, занимающих четверть зала. Маты жесткие и твердые, а пахнут так, будто впитали до последней капли весь пот, пролитый поколениями учеников в гимнастике и борьбе. На расстоянии всего в несколько дюймов Джек видит лишь неясные очертания лица Джилли. Ее дыхание пахнет молоком и ванильными вафлями – приятное разнообразие в атмосфере запаха матов и соседей по убежищу, не говоря уже о мерзком тумане табачного дыма, висящего в жарком и влажном воздухе.
– Не могу заснуть.
– Я тоже.
– Жалко, что дома не остались.
– Мне тоже.
– Тут воняет хуже, чем я думала.
– А то!
– Вонища… ой! Прекрати!
– Сама прекрати!
Каскад щипков и тычков затихает – слишком жарко. Вокруг – звуки, издаваемые спящими или теми, кто пытается уснуть. Храп всех тональностей, вздохи, стоны, кашель, чмоканье губами, беспокойное шевеление конечностей, и даже пуки, раздающиеся время от времени, давно уже не так смешны, как были сначала. Кое-где слышно гудение разговоров, тихое бормотание, переползающее с места на место – как жужжание пчел в саду.
Когда они, набившись впятером в «тойоту», приехали к зданию школы, лучшие места уже были заняты. Дорога тянулась часы, дни, века. Билл отвоевывал у ветра и машины каждый дюйм, пальцы его побелели, вцепляясь в руль, окна заливал дождь, не оставляя даже сухой точки. Это было, думал Джек, будто ехать по дну океана. Он бы не удивился, увидев косяк рыб, проплывающих мимо окна, а одинокая машина, попавшаяся навстречу, куда больше походила на субмарину, чем на какой-либо наземный или надводный экипаж, – плыла, словно «Наутилус», в размытом желтом нимбе собственных фар, а вокруг, в непрозрачности воды, извивающиеся руки деревьев вдоль дороги, казалось, целенаправленно двигались подобно шарящим щупальцам гигантского спрута… нет, чего-то еще большего, какой-то твари, выросшей в непостижимом размере ледяного, абсолютного, всесокрушающего мрака морского дна.
Зато когда они ворвались через двойные двери в кондиционированный воздух гимнастического зала, промокшие до костей, несмотря на пончо, после финального раунда эпической борьбы с водоворотом на стоянке, их хотя бы встретило электричество. Ловя ртом воздух, отряхиваясь, они застыли, оглушенные ощущаемым на висцеральном уровне отсутствием урагана, а к ним все поворачивали головы, привлеченные театральным появлением. Прозвучало несколько приветственных возгласов на бормочущем фоне приемников и плееров, приглушенных будто из уважения к великой какофонии Белль. Потом подбежала хлопотливая женщина с сухими полотенцами и одеялами, и снова зазвучали голоса, утешительные своей обыденностью.
Под безрадостным сиянием верхнего света вид серых матов, забросанных полотенцами, одеялами, спальными мешками, игрушками, складными стульями и кулерами, как будто звездолет «Энтерпрайз» втащил внутрь общественный пляж, был не слишком заманчив и гостеприимен, уж точно не для глаз Дунов, презиравших непринужденную близость таких вот больших компаний, привыкших к открытым пространствам Мидлсекс-бич, «только для членов клуба». И даже здесь они разложили бы полотенца как можно дальше от всех других, но им пришлось довольствоваться тем, что осталось, втискивая спальные мешки и все прочее барахло на песчаную полоску серых матов между двумя веселыми семействами, белым и черным, чуть сдвинувшими свои бивуаки, чтобы освободить место опоздавшим.
– Ничто так не способствует расовой гармонии, как небольшое стихийное бедствие, – заметил Билл через минуту в раздевалке для мальчиков.
– Ага, – сказал дядя Джимми, подмигнув Джеку. – Расизму – бой! Сбросим на него бомбу!
Потом, когда все переоделись в сухое, Билл и дядя Джимми пробрались к импровизированному бару, торгующему под управлением местного «Лайонз-клаб», предоставив детей самим себе.
Дальше были часы мучительного веселья, когда самозваные затейники, не теряя времени, затянули Джека и Джилли в бесконечную череду тупых игр – «пойте с нами» и еще какие-то соревнования в искусствах и ремеслах, – продолжавшихся по нарастающей, пока Белль наконец-то не удосужилась вырубить электричество. В школе был свой аварийный генератор, но его использовали по минимуму из-за дефицита топлива, и отдельные лампы в длинных коридорах рассеивали мрак длинными бледными эллипсами, а в зале от них было еще меньше проку – как от далеких звезд под высоким потолком.
Возраст Эллен дал ей ведущую позицию в игровой группе Джека и Джилли, и уж удовольствие, которое она получила, играя старшую, было усилено кучей возможностей для мелкой мести – разбитый палец на ноге не был забыт ни на минуту, как, впрочем, и тысяча других уколов. Все это она постоянно оттачивала на оселке памяти для таких случаев: арсенал ножей без рукояти, ранивших ее саму, когда она за них бралась, – отчего она лишь крепче стискивала свое оружие с ревностностью мученицы, как будто, проливая собственную кровь, зарабатывала моральное право пролить чужую. И неудивительно, что Джек и Джилли тут же послушались, когда Билл велел им идти спать после прошедшего под хриплые голоса ужина, в который каждый внес, что было – ужин в складчину, постапокалиптический День Благодарения с сыром и крекерами, печеньем, чипсами, солеными крендельками, морковными палочками, сливами, персиками и бананами, сочными помидорами, копченым мясом, жареными цыплятами, домашними яблочными пирогами, кексиками и пирожными, и все это предварялось молитвой священника Первой Баптистской Церкви в Бетани – он назвал Белль бичом Божиим, коий Всемогущий ниспослал в наказание грешной пастве своей, уклоняющейся от путей праведных. Дядя Джимми закатывал глаза, слушая, как этот человек наваривает пожертвования на заезжей знаменитости – Белль.
Но это было уже давно. Билл, дядя Джимми и Эллен (эту воображалу на время сочли взрослой – вроде как повышение в звании в боевых условиях) еще не пришли. Они на той стороне зала, где кучкуется человек пятнадцать – ядро вечеринки, вдохновленной Белль, те, кто решил ее пересидеть. Джек слышит возбужденные голоса и взрывы смеха, басовое гудение отцовского голоса, берущего верх, как в передаче «Внутри Пояса», когда он сбрасывает свою летаргическую маску, другие голоса громко – некоторые пьяно – поют под рокот гитары, а музыка струится из магнитофонов самая разная: от госпела и кантри до диско и рок-н-ролла, и разнобой звуков странно сливается и сворачивается в похожем на грот помещении с высоким потолком, превращаясь в какого-то невиданного музыкального мутанта, в музыку, способную переменить мир. И если закрыть глаза и слушать внимательно, отключившись от музыки и голоса Джилли, то можно представить, что слышишь эхо прежних игр в баскетбол и воодушевляющие выкрики болельщиков, звуки, вечными призраками порхающие в зале: резкий скрип кроссовок по сосновым доскам пола, разноголосицу ритмических выкриков, слова, заглушаемые согласным топотом сидящих болельщиков. Он сам будто падает, проваливается в темноту более глубокую и более одинокую, чем сон. Потом его бьет дрожь, глаза резко раскрываются, сердце колотит по ребрам.
– Эй, – шепчет Джилли, и до него доходит, что она давно уже что-то говорит, хотя он ни слова не может вспомнить.
– Боже мой, – выдыхает он на спаде адреналина, еще не до конца вернувшись. Мерцающие и ровные лампы за силуэтом Джилли и над ним где-то в милях от него, как огни города за холмами на той стороне темной широкой реки. Это место ему знакомо, он бывал там раньше, ходил по улицам, заглядывал в дома, говорил с горожанами, и название прямо на языке… и оно лопается, как пузырь, оставляя вкус и знакомый, и таинственный в пространстве его отсутствия. Опечаленный потерей и бесплодным желанием, Джек тщетно пытается удержать неверную память.
– Эй! – Уже резче, с тычком жесткого пальца в левую руку – там, где рана. – Ты слушаешь или нет?
– Ой! Джилли, перестань!
– Ты спишь, когда я с тобой говорю! – Как будто обвинила в глубочайшем предательстве.
– Я не спал.
– Ага, не спал он!
– Ребята, тихо там! – ворчит мужской голос из темноты неподалеку, сопровождаемый хором «тсс!».
– Пошли, – говорит Джилли, не обращая внимания.
– Куда?
Но она уже на ногах, пробирается к краю матов.
– Погоди…
Джек встает и идет за ней, споткнувшись разок, когда задевает босой ногой то ли корешок книги, то ли резиновую подошву перевернутого кроссовка, и догоняет Джилли посреди зала. Здесь тоже темно, так что лица ее не видно, только глаза блестят.
– Папа нас снова спать отправит.
– Для начала пусть поймает. А теперь заткнись, уходим отсюда.
– Эй, а ты про Белль не забыла?
– Не будь дураком. Мы же не наружу, в ураган. Из зала выходим.
Презрение хлещет, словно плетью, и он краснеет. Укол тем болезненнее, что темнота здесь не слишком густая и не может скрыть от Джилли его стыд. Да и нет такой темноты, что могла бы.
– Что с тобой такое, Джилли? Ты меня весь вечер достаешь… – Вдруг до него доходит. – Это же из-за игры в скрэббл! Ты до сих пор на меня дуешься.
– С чего бы это?
– Ты считаешь, что мы из-за меня проиграли.
– Мы не проиграли, просто не закончили игру.
– Потому-то ты и переставила буквы! Будто бы папа не заметил!
– Я ничего не трогала.
– Ладно, Джилли, я сам видел.
– Ты видел, чтобы я переставляла буквы?
– Нет… но когда я подошел зажечь свечу, на доске было другое слово.
– Ну, так это не я. Ты сидел все время рядом со мной, Джек. Ты бы увидел.
Что было бы отличным алиби, даже если бы он ей не верил. Но он знает, что она говорит правду: в отношении Джилли у него есть встроенный детектор лжи.
– Кто тогда? Ведь не Эллен же…
– А почему бы и нет? Вполне шуточка в ее стиле. Даже не чтобы выиграть, просто чтобы на нас свалить, чтобы нас обозвали жуликами.
– Ну да, но ведь я и рядом с ней сидел.
– Тогда дядя Джимми. Или папа. Какая тебе разница?
Разница есть. Он чувствует, что это почему-то важно.
– Но…
– Да плюнь ты на эту глупую игру! Тут есть занятия и получше. Раз уж мы застряли в этой дурацкой школе, давай поразвлечемся. Поразведываем.
Джек соображает, что он был куда более сонный, чем думал сам, раз эта мысль не пришла ему в голову. Но сейчас он уже проснулся окончательно, энергия и возбуждение Джилли передаются ему, текут в него по какому-то там шоссе № 1 его собственных чувств и ощущений, которое ведет к ней, к Джилли.
– Ладно, – говорит он. – Можем поиграть в «Мьютов и нормалов»!
– Ага, как же! – отвечает Джилли. – Только мьютов здесь ни одного нет.
– Тогда будем играть просто в нормалов.
Оба смеются, гармония между ними восстановлена, и они пробираются через зал к дверям, самым далеким от пирующих. Если их остановят, всегда можно будет сказать, что собрались в туалет. Но никто их не окликает, даже когда они открывают дверь с таким скрипом, что невозможно не услышать. Они застывают посреди розоватого отсвета знака «ВЫХОД», будто два беглых преступника в свете фонаря. Потом выходят и тихо закрывают за собой дверь.
Но они еще не в безопасности. В болезненном свете аварийных лампочек на них с разной степенью интереса смотрят другие беженцы: маленькие группки людей, устроившись неровными кругами на полу, пьют и курят под гулкие напевы «Rumours» Флитвуда Мака. Уж точно не в стиле Билла публика, скорее сцена для дяди Джимми. Или, если присмотреться, то для Эл, потому что с виду народ ее возраста. Джек и Джилли напрягаются: трудно сказать, как группа юнцов будет реагировать в такой ситуации – да и в любой ситуации вообще. Решат они, что Джеки Джилли – незваные гости, которых надо проучить, или сопляки еще, которые что есть, что нет? К счастью, на сей раз юнцы выбирают второе и отводят пристальные взгляды.
– Держи, – шепчет Джилли, протягивая ему фонарик. Другой у нее в руке.
Джек знает, что она думает: в игре, которую они затеяли, есть опасности. И последствия не менее реальные оттого, что их не предвидели. Они колеблются, молча решая, пойти налево, направо или прямо по широкому коридору, уставленному вдоль стен шкафчиками. Потом, придя к своему обычному внутреннему соглашению, выбирают длинный коридор прямо перед собой, ступая по следу из хлебных крошек – цепочке аварийных ламп, по пыльным плиткам, гладким и прохладным под босыми ногами. Фонарики они не включают по общему невысказанному решению, не желая беспокоить парочки, прижимающиеся к стенам и шкафчикам в темных промежутках между лампами. Эти парочки покачиваются в дуновении вздохов и стонов, исходящих словно бы не от них, будто Белль прорвалась в школу, расталкивая плечом молекулы, чтобы появиться здесь, измотанная усилием, и ее прикосновение нежно, как ласка. Невозможно разглядеть лица или отдельные тела, парочки прижаты так плотно, что они как концентрация теней, сливающихся в неизвестные пока формы, вплавляющихся друг в друга, в стены, в шкафчики… или, думает Джек, возникающие из них горгульи, выползающие, как бабочки из коконов бетона и стали.
Вскоре они доходят до лестницы наверх. Они шагают через две ступеньки, стремясь оставить позади первый этаж и начать настоящее приключение. Наверху, в слабом свете они останавливаются.
– Ух ты! – выдыхает Джилли. – Ты только послушай!
Шум зала здесь не отвлекает, и напевы Флитвуда Мака стали дальше, так что оставшиеся звуки принадлежат Белль. В них нет ничего мирного, будто дракон пробивается внутрь когтями и вопит от жажды крови, голода и ярости. Чудо, что крышу еще не сорвало и не выбило окна. Но и без того чувствуется, как трясется здание, слышны стонущие протесты балок и стропил, напряженных до предела… больше, чем до предела.
Средняя школа «Лорд Балтимор» была всегда. Она выдержала свою долю штормов за многие годы, и некоторые были куда хуже Белль, если верить старожилам – которым, конечно, можно верить не всегда. Но даже если они говорят правду, это не значит, что школа выдержит и эту бурю. На самом деле, как думает Джек, это делает такой исход менее вероятным. Естественно, каждое буйство стихии ослабляло школу, и теперь она подобна крепости, стены которой, неприступные для каждого отдельного штурма, в конце концов рушатся от накопившегося износа после всех успешных оборон.
Луч фонаря Джилли копьем втыкается в какой-то серый шкафчик, пробегает по ряду аналогичных шкафов и закрытым дверям классов в коридоре, таким же, как внизу – только здесь они одни. Она подходит к ближайшей двери, пробует ручку – заперто.
– Вот собака!
– Смотри, чтоб не цапнула.
Они разделяются: Джек берет на себя правую сторону коридора, Джилли – левую, и проверяют двери по очереди.
Все происходит очень быстро – поворачивается ручка, дверь распахивается внутрь, сердце Джека подскакивает к горлу, и он застывает безмолвно на пороге душной темноты, в которой с одинаковым успехом может быть и гробница мумии, и классная комната. Потом, светя фонариком, но все еще не входя, будто опасаясь проклятия, зовет:
– Джилли! А здесь откры…
– Так чего ты ждешь? Приглашения? – Она проскальзывает мимо него.
Он идет за ней, плотно прикрывая дверь. Ему стыдно за свое колебание, и он злится на ее презрительный выговор, не за факт, а за форму. Это одно из любимых выражений Билла, его фирменное, используемое с равным энтузиазмом и с одинаковым уничтожающим эффектом и дома, и в передаче «Внутри Пояса».
В классе пахнет влажным и пыльным тлением, напоминающим насосную под пляжным домом, где среди всякой прочей дребедени лежат старые номера «Вашингтон пост» и «Вашингтон стар», ожидающие сдачи в утиль, зеленые пластиковые мешки с мусором, разорванные и рассыпающиеся, изобилие ненужных бумаг и вещей, из которых дети выросли, распадающиеся под действием мощной комбинации влаги, соленого воздуха и гнездовых привычек полевых мышей. Там же держит Билл свои журналистские статьи и блокноты в аккуратно надписанных картонных коробках (материалы к роману-бестселлеру, который он когда-нибудь напишет), а среди них распределены неведомо для него запасы сигарет, свистнутых Джеком и Джилли у дяди Джимми, плюс еще пара биковских зажигалок того же происхождения.
– Что, жутковато?
Фонарик Джилли пляшет по рядам пустых парт, белым стенам, украшенным картой мира в проекции Меркатора, периодической системой элементов, овальными портретами президентов от Джорджа Вашингтона до Джимми Картера в порядке следования, вокабулами из словарей, записанными крупными закругленными буквами, вырезанными из цветной бумаги, и прочими до тошноты знакомыми предметами классных комнат, чье существование подрывает дух Джека и Джилли, возвращает к реальности сильнее, чем даже тот грубый факт, что летняя отсрочка заканчивается и уже клацает поршнями следующий школьный год. До момента «Ч» остается месяц, отсчет пошел, время движется неотвратимо, хотя часы на стене остановились на четверти восьмого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































