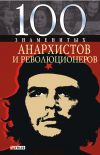Текст книги "Питомник. Книга 1"

Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Триллеры, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Ну да, просто и логично. Именно так рассуждал убийца, убеждая или вынуждая Люсю взять вину на себя.
Экспертная комиссия, возглавляемая Евгенией Михайловной, до сих пор не имела возможности ознакомиться с историей болезни Люси, и ребенок, подозреваемый в зверском убийстве, предстал перед врачами как бы голышом, без сопроводительных документов. Не нашлось пока ни одной бумажки, кроме свидетельства о рождении, и не было ни одного взрослого, который мог бы сообщить о Люсе Коломеец хоть что-то внятное. Опытные подростковые психиатры пребывали в некоторой растерянности. Они не имели анамнеза, то есть не могли опереться на мнение коллег, наблюдавших девочку с рождения, и должны были начинать с нуля.
Перед ними был толстый, испуганный, тихий подросток женского пола в спелых прыщиках. Бросалась в глаза общая нескладность, некрасивость, связанная с переходным возрастом, но никаких явных физических уродств обнаружено не было. Нормальная форма и размер черепа, пропорциональное телосложение, внятная, осмысленная речь. То есть без анамнеза, что называется, на глазок, трудно было с уверенностью утверждать, что девочка страдает врожденным слабоумием. Диагноз «олигофрения в стадии дебильности», возникший сам по себе, брошенный врачом психиатрической «скорой», вдруг стал таять, испаряться, вызывать серьезные сомнения. Нет изначального медицинского приговора, значит, и болезни, возможно, нет. Люсю проверяли по специально разработанной системе тестов, и картина получалась довольно странная. По результатам тестирования выходило, что Люся нормальный ребенок, способный мыслить абстрактно и образно. Для олигофренов это исключено.
Конечно, девочка отставала в развитии. В свои пятнадцать лет она читала медленно, по слогам, как первоклашка, однако это могло быть результатом педагогической запущенности, плохого, недобросовестного обучения. На вопрос, кто учил ее читать, она ответила не задумываясь: «Тетя Лиля».
– Кто еще?
– Теперь никто.
– А раньше?
– Не помню.
– Ну хорошо, а в школе ты учишься?
– Иногда.
– Расскажи, как ты учишься?
– Плохо.
– Почему? Тебе не нравится учиться?
– Я бестолковая. У меня такая болезнь.
– Какая у тебя болезнь?
– Врожденная.
– Откуда ты знаешь, что у тебя врожденная болезнь?
– Ну, потому, что мне уколы делают, и вообще…
– Кто тебе делает уколы?
– Никто. Врачи. Они злые. Им нравится делать больно.
– Где это было? В больнице?
В ответ тишина. Люся быстро моргала, открывала рот, пытаясь сказать что-то, но вместо слов звучало только частое, хриплое дыхание.
– А мама Зоя делает тебе уколы?
Доктор Руденко несколько раз пробовала по просьбе следователя Бородина осторожно повернуть разговор в сторону загадочной «мамы Зои», но эти два слова вызывали у Люси эмоциональный ступор. Она замолкала, принималась что-нибудь нервно теребить в руках, низко опускала голову, избегала взглядов. Разговаривать дальше было бесполезно.
За время, прошедшее после убийства, ничего не прояснилось, наоборот, все запуталось еще больше, и путаница казалась Евгении Михайловне чрезвычайно опасной.
Бородин издалека заметил одинокую фигурку на лавочке и ускорил шаг. Солнце еще не село, но спряталось за высокие дома, и в бархатном закатном свете женский силуэт выглядел загадочно, романтично, замечательно выглядел. Илья Никитич отрепетировал про себя первую фразу, которую скажет, когда подойдет ближе: «Вы замечательно выглядите, Евгения Михайловна», и тут же огорчился, потому что прозвучит это как пошлейший, глупейший, никому не нужный комплимент.
«Я просто поздороваюсь и пожму руку, – сердито сообщил он самому себе. – Добрый вечер, Евгения Михайловна. Извините, я опоздал немного… Нет, ерунда, я совершенно не опоздал. Я вообще никогда не опаздываю. Это она пришла раньше. Интересно, почему? Да потому, старый идиот, что ей идти от своего института до этого сквера десять минут, рабочий день у нее кончился час назад, и вместо того, чтобы оставаться лишние пятьдесят минут в своем печальном заведении, она вышла пораньше, посидеть в сквере, отдохнуть, подышать воздухом. Такой чудесный вечер, ну как же не подышать? А ты что подумал? Она примчалась потому, что ей не терпелось тебя увидеть? Дурак, ну, дурак! Между прочим, ты даже не знаешь, замужем она или нет. Кольца не носит, но это ни о чем не говорит. И вообще, опомнись, посмотри на себя со стороны. Старый, толстый, нелепый, замшелый какой-то. Это просто смешно».
Евгения Михайловна между тем взглянула на часы, достала из сумочки сигареты, закурила. Она еще не видела его, и ему вдруг захотелось остановиться и немного полюбоваться ее плавным профилем, длинной шеей, гладкими светло-русыми волосами, подстриженными не очень коротко, идеально ровно. Передние пряди загибались внутрь, от этого ее лицо было как бы заключено в круглые скобки.
«Слишком строгое лицо, слишком строгая прическа. Остриженные ногти без лака. Она много работает и думает исключительно о работе. Отличный специалист. Говорят, лучший в подростковой психиатрии. Она, разумеется, замужем, – беспощадно сообщил себе Илья Никитич, – одинокие женщины в ее возрасте ведут себя иначе. Взгляд у них либо жадный, либо обиженный, а чаще и то и другое. Они демонстративно ярко красятся, взбивают волосы, как безе, либо вообще не следят за собой, впрочем, тоже демонстративно. Одинокие женщины после сорока предпочитают крайности и теряют чувство гармонии, как и одинокие мужчины, как я, например. А в ней нет никаких крайностей, стало быть, она все-таки замужем. Нет, хватит, это действительно смешно. Я ведь не на свидание пришел, и вообще, она курит, а я не выношу табачного дыма».
Приблизившись, наконец, к Евгении Михайловне, он подумал, что не так уж это и смешно, не такой уж он старый, не такой толстый, а сигареты у нее совсем мягкие, и дым пахнет даже приятно, и вообще, изумительная погода, самое любимое его время дня, сумерки, и самое любимое время года, лето, а доктор Руденко не просто красивая дама, а очень красивая, к тому же умная, и голос у нее глубокий, тихий, и волосы она не красит, и глаза не подводит. Строгое лицо и строгая прическа говорят прежде всего о хорошем вкусе, об уме и здравом смысле, а вовсе не о том, что она замужем. В конце концов, какое это имеет значение? Он ведь разумный человек, трезво оценивает себя и отлично понимает, что красавица никогда не обратит внимание на такое замшелое чудовище, как старший следователь Бородин.
– Добрый вечер, Евгения Михайловна, – он неловко взял ее за руку, за левую, потому, что в правой была сигарета, хотел поцеловать, но не решился, получилось торжественное рукопожатие, и он покраснел, в который раз за сегодняшний вечер назвав себя старым идиотом.
– Добрый вечер, Илья Никитич, – она улыбнулась и чуть подвинулась, приглашая его сесть рядом.
– Простите, что отнимаю у вас время. Вы, вероятно, торопитесь домой, к семье, – произнес он, кашлянув, – а тут я со своей настырностью. Не мог дождаться завтрашнего утра и приехать к вам в институт.
– Ну что вы, Илья Никитич, я никуда не тороплюсь, – она опять улыбнулась и покачала головой, – у сына сессия, он переселился к приятелю, они там занимаются большой компанией, говорят, так получается продуктивней. Я пытаюсь верить. А настырность вашу я отлично понимаю. То, что случилось с Люсей прошлой ночью, косвенно подтверждает, что ею кто-то манипулировал и мы имеем дело с самооговором.
– Да? Почему вы так думаете? – он хотел спросить, сколько лет сыну, где он учится, но не решился.
– Потому, что если Люся была беременна, то, вероятно, тот, кого она назвала «один человек», действительно существует. И Люся влюблена в него.
– Влюблена? – Бородин слегка передернул плечами. – Но Люся Коломеец слабоумная, отстает в развитии, у нее психология пятилетнего ребенка. Ее просто могли изнасиловать, и к убийству это не имеет отношения.
– Илья Никитич, а вы знаете психологию пятилетнего ребенка? – Евгения Михайловна нервно усмехнулась и заговорила быстро, возбужденно: – Слабоумие и детскость – совершенно разные вещи, но дело даже не в этом. Уголовной ответственности она нести не может в любом случае. Важно другое. Подростки такого психического склада, как эта девочка, чрезвычайно внушаемы, привязанность их безгранична, предмет любви становится для них сверхценной идеей, богом, творцом вселенной, которому они поклоняются страстно, слепо. Если у Люси имелся такой божок и если он приказал ей взять на себя зверское убийство, то дело у нас вами обстоит совсем скверно. Приказать такое мог только сам убийца, реальный автор восемнадцати ножевых ранений. – Она хотела сказать что-то еще, но замолчала, несколько секунд сидела неподвижно, потом резко поднялась, взглянула на него сверху вниз, глубоко вздохнула, улыбнулась и произнесла совсем другим голосом, спокойным и мягким: – Илья Никитич, знаете, я очень есть хочу, день был сумасшедший, я даже пообедать не успела. Здесь неплохое кафе, совсем недалеко, в двух кварталах. Давайте я вас приглашу поужинать.
– Нет, это я приглашу вас поужинать, – Илья Никитич решительно поднялся и взял ее под руку.
На Евгении Михайловне был легкий летящий сарафан из яркого шелка. Было приятно взять под руку такую элегантную даму. Илья Никитич с благодарностью отметил про себя, что она надела босоножки на плоской подошве. Он был ниже ее на полголовы, и если бы она встала на каблуки, разница в росте слишком уж бросалась бы в глаза.
– Евгения Михайловна, я так и не понял, изначальный диагноз у нас подтвердился? – спросил Бородин серьезным, деловитым тоном.
– А нет никакого диагноза.
– То есть как – нет? – Бородин остановился посреди дороги, вся деловитость и серьезность слетела, как тополиный пух от порыва ветра, он растерянно хлопнул глазами и произнес довольно громко: – Вы считаете, девочка психически здорова?
– Понимаете, Илья Никитич, – доктор Руденко тоже остановилась и широко, ясно улыбнулась, – добросовестный врач вряд ли возьмется провести четкую границу между здоровой глупостью, грубой педагогической запущенностью и патологической умственной отсталостью. Дебильность отчасти и есть эта граница, а вернее, черная яма, куда можно с чистой совестью скидывать любые неясные формы врожденных интеллектуальных, эмоциональных и нравственных уродств.
– Нет, я понимаю, я сам читал об этом, но все-таки Люся Коломеец совершенно ненормальная.
– А кто нормальный? – Евгения Михайловна пожала плечами. – Мы с вами? Представьте себе жизнь детдомовского ребенка и сравните ее с собственным детством. Просто на секунду выведите за скобки все хорошее, что было у вас, маленького, слабенького, трехлетнего, семилетнего, и оставьте только самое плохое. А потом возведите в квадрат.
Илья Никитич добросовестно попытался это сделать, но не смог. Очень уж не хотелось. Он опять взял Евгению Михайловну под руку, они пошли дальше, молча перешли улицу, наконец Бородин произнес, уже вполне спокойно и рассудительно:
– То есть вы не исключаете, что странное поведение девочки всего лишь результат шока? Или вообще симуляция? Или все вместе?
– Зачем ей симулировать, если она призналась в убийстве? – усмехнулась Евгения Михайловна. – А что касается шока, то его довольно скоро придется пережить нам с вами, и не только нам. И вы, Илья Никитич, это чувствуете, так же, как я. Вы нервничаете из-за этого убийства, из-за того, что нет пока никакой определенной информации, а есть четкое и мерзкое ощущение опасности. Я тоже нервничаю, нам обоим надо немного успокоиться и подумать. Больна Люся с рождения или нет, не важно. Она не убивала, вот в чем дело. Все, мы уже пришли. Хотите войти внутрь или останемся на улице?
Кафе оказалось действительно уютным и недорогим. На улице, под тополями, за невысокой оградой стояло два столика, и оба были свободны. Евгения Михайловна заказала себе свиную отбивную с жареной картошкой, чем немало удивила Бородина, ему казалось, что такая фигура бывает только при строжайшей диете. Сам он ограничился овощным салатом и окрошкой, причем попросил не класть сметаны.
Когда отошел официант, повисло неловкое молчание. Бородин обнаружил, что смотрит на Евгению Михайловну в упор, бесцеремонно разглядывает ее лицо и не может наглядеться. На миг он представил себе эту женщину у себя дома, утром, за завтраком, а рядом свою маму, и такая ясная, такая радостная картинка встала у него перед глазами, что он даже покраснел. Ему показалось, Евгения Михайловна хмурится, как будто она могла по его лицу прочитать, что он там себе навоображал. Ему вдруг совершенно расхотелось обсуждать с ней Люсю Коломеец и все, что связано с убийством. Он устал разгадывать логику хитрого ублюдка. Такое с ним было впервые за многие годы. Обычно, если выпадало запутанное дело, он мог думать и говорить только о нем. А сейчас на кончике языка крутился совершенно неуместный вопрос: «Евгения Михайловна, вы замужем?»
Она между тем никак не реагировала на его упорный взгляд. Она курила, расслабленно откинувшись на спинку пластмассового неудобного стула, смотрела сквозь Бородина, и он понял, что доктор Руденко просто отдыхает.
– Очень устаете на работе? – спросил он, чтобы прервать молчание.
– По-разному. Иногда бывают совершенно пустые, легкие дни, иногда изматываюсь так, что еле доползаю до дома.
– Вы живете вдвоем с сыном?
Она молча кивнула.
– Ваш сын хочет стать психиатром?
– Нет. Стоматологом. Самая денежная из медицинских специальностей. В общем, он прав. Я думаю, из него получится неплохой стоматолог. Правда, конкуренция огромная, но его это только подстегивает.
– Сколько ему?
– Двадцать. Сейчас закончил третий курс, поступил сразу после десятого класса.
– Двадцать лет для меня совершенно загадочный возраст, – улыбнулся Бородин, – себя я отлично помню двадцатилетним, и мне кажется, между моим поколением и нынешним такая бездна, словно не тридцать лет прошло, а три тысячи.
– Да нет, в общем, они такие же, просто у них больше соблазнов и меньше иллюзий. А так – все то же. Илья Никитич, неужели вам пятьдесят?
– Вы думали, больше?
– Честно говоря, да. Не обижайтесь. Просто мне сорок пять, а вы, оказывается, не намного старше.
Принесли еду, и некоторое время они молча ели. Бородин все-таки обиделся. Но тут же подумал, что если бы она из вежливости сказала, что он выглядит моложе пятидесяти, было бы еще обидней.
Окрошка оказалась неплохой, с маминой, конечно, не сравнить, но есть можно, особенно после жаркого дня. Евгения Михайловна довольно быстро справилась с огромной поджаристой отбивной, но картошку уже не осилила. Лицо ее порозовело, глаза заблестели, она закурила и весело произнесла:
– Ну вот, совсем другое дело. Знаете, когда я голодная, нервничаю, злюсь, голова плохо работает. Теперь я сыта и могу спокойно, четко, без лишних эмоций ответить на все ваши вопросы.
– Замечательно, – кивнул Бородин, – в таком случае, вопрос первый. Как вам кажется, Люся может владеть приемами каратэ?
– Да, конечно, а также дзюдо и джиу-джицу, – тихо, серьезно ответила Евгения Михайловна, – Люся Коломеец вообще законсперированный агент ЦРУ.
– Нет, я понимаю, вопрос идиотский. Но на шее убитой обнаружен след удара тупым предметом. Удар этот мог быть смертельным и нанесен скорее всего человеком, владеющим каратэ.
– То есть он сначала оглушил или убил Лилию Коломеец профессиональным ударом, но не был удовлетворен и восемнадцать раз пырнул тело? – медленно, еле слышно произнесла Евгения Михайловна после долгой паузы.
– Именно так. Причем использовал для этого какой-то особенный нож, с узким ромбовидным лезвием. Орудие убийства пока не обнаружено.
Принесли кофе. Опять повисло молчание. Евгения Михайловна долго, бесшумно размешивала сахар в чашечке.
– Илья Никитич, вам не кажется, что в этом убийстве есть нечто ритуальное?
– Да, я тоже об этом думал. Такое количество ударов мог нанести сумасшедший маньяк либо представитель какой-нибудь секты, что в общем одно и то же. Но сумасшедший вряд ли сумел бы так успешно убедить Люсю взять вину на себя. А если это был ритуал, то при чем здесь ограбление? Он аккуратно обчистил квартиру, мы не нашли ни копейки денег, никаких украшений. Но самое интересное, что он взял сундук с рукоделием и рылся в клубках, сидя на лавочке во дворе, неподалеку от дома. На него наткнулась бомжиха, перепугалась до смерти. На нем была маска черта.
– Простите, что? – переспросила Евгения Михайловна, нервно усмехнувшись.
– Ну, знаете, есть такие маски-страшилки. Вампиры, мертвецы, ведьмы, черти. Я не поленился, специально нашел магазин, называется «Хеллоуин», и даже купил… – Илья Никитич открыл свой здоровенный старомодный портфель, порылся в нем, извлек нечто черно-красное в прозрачном мешочке, развернул, повертел в руках и вдруг быстро натянул себе на голову.
Евгения Михайловна охнула и всплеснула руками. Вместо милого, уютного, бело-розового Бородина перед ней сидело черное чудище с красными рожками. Официант, который как раз принес счет, хрипло закашлялся, затоптался у стола, наконец, прочистив горло, громко произнес:
– Ничего себе, предупреждать надо, вроде бы нормальные люди, а туда же!
– Куда – туда же? – живо спросил Бородин. – Вы что, видели нечто подобное? – Когда он говорил, огненный ободок маски двигался вместе с его губами, зрелище получалось еще более жуткое.
– Нет, подобного не видел. Молодое хулиганье развлекается, нацепляет на себя всякое железо, черепа, но чтобы приличные взрослые люди… Извините.
– Это вы нас извините. – Евгения Михайловна засмеялась, но как-то слишком нервно.
– Да ладно, – официант махнул рукой, – может, еще кофе?
– Спасибо, не надо, – сказал Бородин. Кровавый рот маски растянулся в вежливой улыбке.
– Илья Никитич, снимите, пожалуйста! – простонала Евгения Михайловна. – Ужас какой!
Бородин принялся торопливо стягивать маску за рога, это оказалось сложней, чем надевать. Плотный эластик как будто приклеился к коже. Горловина обтягивала шею, как широкая удавка, Илья Никитич долго, мучительно возился, тяжело сопел, но продолжал размышлять вслух. Сквозь черную ткань голос его звучал глухо и сдавленно:
– Не понимаю, как можно добровольно напялить на себя такое, да еще летом, в жару. Пусть ночь, но все равно ведь душно. Черт, никак не слезает… Возможно, он сделал это просто для маскировки. В пустом ночном дворе, при ярком свете, лунном и фонарном, ворошил клубки и, чтобы не убегать сразу, если кто-то появится, напялил эту дрянь. Нет, он совершенно больной. Интересно, он искал какую-то конкретную вещь? И откуда он знал, что искать надо именно в клубках? Нашел или нет?
– Илья Никитич, вам помочь? – забеспокоилась Руденко, – может, там есть застежка сзади, на затылке?
– Нет, ну я же как-то умудрился натянуть эту дрянь! Уф… Все. Как хорошо жить на свете! – Бородин наконец справился, и перед Евгенией Михайловной предстала его раскрасневшаяся круглая физиономия с лохматыми седыми бачками и сверкающими, смущенными голубыми глазами. – Простите, это было глупо. Сам не знаю, зачем я это сделал. Как будто побывал в шкуре сумасшедшего ублюдка, и самое обидное, что все равно ничего про него не понял.
– Зато сейчас так приятно смотреть на ваше лицо. – Евгения Михайловна взяла маску в руки, несколько секунд молча ее разглядывала. – А знаете, он обожает боевики и ужастики. Там очень часто убийцы действуют в масках. Впрочем, это нам ничего не дает. Если только... – она опять закурила, – мне кажется, стоит показать маску Люсе и проследить за ее реакцией.
– Да, конечно, – Илья Никитич быстрым жестом пригладил свои встрепанные бачки, – можно попробовать. Но что нам с вами даст эта ее реакция? Допустим, она закричит, заплачет, у нее случится очередной психический шок, и что? Она ведь все равно не скажет ничего вразумительного.
– Раньше вы были оптимистичней, – заметила Руденко, – у меня такое чувство, что вы поставили крест на этом деле.
– Нет, – Бородин вытащил бумажник, отсчитал семьсот рублей, подумал, добавил на чай еще две десятки, – просто слишком много тупиков. По мнению моего начальства, это дело вообще не имеет судебной перспективы. Оперативники успели устать от специнтернатов и вспомогательных школ. Понимаете, ничего нет, вообще ничего, будто эта Люся с неба свалилась.
– Но ведь она прописана у тети. Может, она и жила там всю жизнь?
– Нет-нет-нет, – Бородин помотал головой, – Лилия Коломеец много времени проводила на работе, а такой ребенок требует присмотра и ухода, да и соседи свидетельствуют, что девочка появилась в доме совсем недавно. И вообще, вы ведь сами что-то говорили о педагогической запущенности.
– Ну, это тоже понятие относительное. С Люсей действительно все очень странно. Понимаете, в ней есть то, что заставляет меня сомневаться насчет ее сиротства и детдомовского детства.
Илья Никитич открыл было рот, чтобы спросить, не слишком ли много сомнений, но глубоко вздохнул и промолчал. Они встали, направились к метро, Евгения Михайловна продолжала говорить:
– С этой девочкой все не так. В ней нет ни капли агрессии. Она всех любит, всем сопереживает, и это не игра. Она, что называется, не от мира сего, безответная жертва, и я не понимаю, как такое существо могло вырасти, выжить в жутких условиях казенного детского учреждения. Я бы даже сказала, она очень домашняя девочка, доверчивая, открытая, ласковая.
– Но сироты тоже бывают такими, – неуверенно заметил Илья Никитич.
– Редко. А уж сироты с умственной отсталостью – почти никогда. Больной разум корыстен, грубо корыстен. Ему трудно справиться с жизнью, он зациклен на самом себе, на собственном «я», напрочь лишен сопереживания. Другие люди интересуют его лишь постольку, поскольку могут быть для него вредны или полезны. А Люся остро чувствует малейшие оттенки настроения окружающих, и это отражается у нее на лице. Она глубоко сопереживает всем, кто находится рядом, независимо от того, как этот человек к ней относится. У нее все добрые, хорошие, ей всех жалко. Эй, господин следователь, – Евгения Михайловна резко остановилась и взглянула Бородину в глаза, – вы не знаете, зачем я вам это рассказываю?
– То есть? – удивленно заморгал Илья Никитич.
– Ну, вам разве интересно выслушивать подробности о психическом складе Люси Коломеец?
– Погодите, Евгения Михайловна, я все-таки не понял вопроса. Почему вы вдруг стали сомневаться, интересно ли мне? – В голосе его ясно прозвучала обида, доктор Руденко мигом почувствовала это, взяла его под руку, улыбнулась и тихо произнесла:
– Извините. Я, вероятно, просто отвыкла общаться с людьми, которые умеют слушать. Ну ладно. В таком случае, я продолжу. Поскольку Люся как бы вся на ладошке, ее эмоции обнажены, я уже во время первой нашей беседы стала различать, когда она говорит правду, а когда лжет. Лгать Люся не умеет, она честно, добросовестно повторяет то, что ей внушили, и, вероятно, молчит о том, о чем ей было велено молчать. Но самое интересное, что она повторяет не только чужие слова, но и интонации. Например, когда она говорит: я убила тетю Лилю, у нее меняется голос и выражение лица. И когда замолкает, перестает отвечать на вопросы, становится как бы другим человеком, мысленно перевоплощается в того, кто ей велел молчать, причем для нее это мучительно. Я понимаю, что это нам с вами ничего не дает. По Люсиному выражению лица невозможно составить словесный портрет убийцы.
Они уже вошли в метро. На эскалаторе Бородин стоял ступенькой ниже, глядел на Евгению Михайловну снизу вверх и вдруг выпалил:
– Могу я пригласить вас гости? Она быстро взглянула на часы, пробормотала:
– Ну вот, кажется, остановились. Батарейка села. Который час?
– Половина одиннадцатого, – кашлянув, ответил Бородин и почувствовал, как краснеет, – да, я понимаю, поздно, вам завтра на работу, и мне тоже.
– Конечно, завтра вставать очень рано. Спокойной ночи, Илья Никитич, звоните, если будут вопросы. Мой поезд.
Она вбежала в закрывающиеся двери, поезд уехал, Бородин стоял и смотрел, как исчезают белые огни в черном туннеле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.