Читать книгу "Шарлатан"
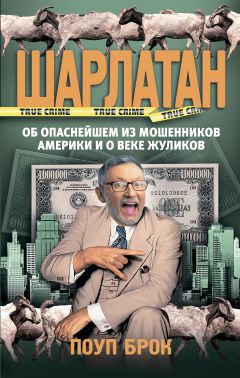
Автор книги: Поуп Брок
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 11
В августе 1922 года, пока Бринкли ожидал подтверждения Калифорнийским медицинским советом своего права на медицинскую практику в штате Калифорния, Синклер Льюис сидел за письменным столом в номере чикагского отеля «Моррисон». Все еще паря на крыльях славы, завоеванной им после выхода его едко-сатирического романа «Главная улица», в котором он изобразил жизнь американского провинциального городка, Льюис писал письмо своей жене Грейс, делясь с ней впечатлениями о знакомстве с необыкновенным человеком: «Фишбейн – это чудо! Погруженность в науку, логика, недюжинная эрудиция отнюдь не только в том, что касается медицины… но и в вопросах истории, литературы, в сотне других областей, юмор, активная живая заинтересованность. [Он] открывает новые миры и одним ударом повергает в прах все старое и отжившее, и все это со знанием дела и неизменным здравомыслием».
Вот какое впечатление производил он на людей. Энергичный, бесконечно любознательный Фишбейн временами мог казаться современным мистером Пиквиком, но искушенным в медицине и неплохо проспиртованным в кабаках. Однако кипучая энергия Фишбейна делала его больше похожим на самого Диккенса. Эдакий гольфист, принимающий на грудь между ударами. Процесс Леопольда и Леба так увлек его, что он помогал обеим сторонам – как обвинению, так и защите. Были люди, которые при первом знакомстве с ним ощущали неодолимую потребность, пятясь, покинуть помещение, но большинству казалась привлекательной эта незаурядная личность, которая, к добру или к злу (последнее с наступлением поры, когда достоинства его стали ослабевать, затмеваясь недостатками), жила исключительно настоящим.
Льюису, как это явствовало из письма, нравилось в Фишбейне и еще кое-что. Накануне в дверь к нему неожиданно постучали и «вошли доктор Моррис Фишбейн, поэт Карл Сэндберг, а также Гарри Хансен и Кейт Крестон, литературные редакторы «Чикаго дейли ньюс», и у Морриса было нечто [добытое у бутлегеров виски] в строгого вида медицинском чемоданчике. Я позвонил в «доставку в номера» и заказал колотого льда и пять стаканов… Славно поужинав, мы отправились к Фишбейну, где засиделись допоздна за хорошей беседой, и я провел там ночь, и вот сейчас вернулся к себе».
Их дружба завязалась после напечатанного «Чикаго дейли ньюс» доброжелательного отклика Фишбейна на выход романа Льюиса («Читателю-медику, несомненно, понравится тот кусок «Главной улицы», где описана ампутация…»). Медицина им была не чужда. Тощий рыжеволосый Льюис, чей возраст тогда приближался к сорока, происходил из семьи, где медиками являлись и дед, и отец, и дядя, и был вовлечен в медицину по необходимости. Он, как и Фишбейн, любил пропустить стаканчик, но в отличие от последнего далеко не всегда умел удержать стакан в руке. Так или иначе, но одновременно с убийственными разоблачениями Джона Бринкли, направляемыми калифорнийскому медицинскому сообществу, Фишбейн успевал показывать новому приятелю город.
В двадцатые годы не только Париж был охвачен лихорадкой преобразований, менявших лицо города. Чикаго также безудержно и спешно стремился украсить себя чертами ар-деко. Унылые и старомодные заведения тщились выдать себя за романтические ночные клубы. Что же касается подлинных изменений стиля, то, попав в места, подобные «Трианону», разрекламированному как «роскошнейший дансинг Америки, где каждый, даже забывший сунуть себе в карман фляжку, все равно пьянел от увиденного». Фишбейн был большим любителем театра, которым увлекся еще в те времена, когда студентом подрабатывал, транспортируя на сцену и со сцены Сару Бернар. Гостей он всегда приглашал в фешенебельные театры и кинотеатры, где половину благоприятного впечатления создавала пышность окружающей обстановки. Любил он и карты, в том числе и партии в покер, которые разыгрывались на квартире сценариста Бена Хекта в Норт-Сайде при участии Сэндберга и литератора Кларенса Дарроу.
Благодаря Фишбейну Льюис[16]16
Синклер Льюис был одним из множества гостей, которых привлек к себе этот своеобразный круглый стол за годы своего существования. Среди гостей были кинорежиссер Д. У. Гриффит, актер Эд Винн, писатель Форд Мэдокс Форд и комедийные артисты братья Маркс. – Примеч. авт.
[Закрыть] пристрастился к этим развлечениям. Кроме того, Фишбейн ввел его в круг, собиравшийся у Шлогля в ресторане в стиле немецкой пивной с завитками темного дерева, позолотой, мутными зеркалами и клубами сигарного дыма. На столах стояли щедрые бруски масла и корзинки со свежим ржаным хлебом, из ожидаемого: венские шницеля, блинчики с яблоками на тарелках, из неожиданного: маринованный угорь, жаркое из оленины; предлагалось и «ночное такси на заказ». Больший интерес представляла тут не кухня – самое интересное происходило в глубине зала, в правом его углу, куда регулярно стекалось широкоплечее и шумное воинство, напоминая рыцарей Круглого стола.
В те дни Чикаго мог претендовать на звание американского переднего края литературных сражений, где бились, как писал журналист Г. Л. Менкен, «оглашая воздух оглушительными криками, саркастическими возгласами, отзвуками ударов и падений, где критики дразнили других и не было недостатка в готовых броситься в атаку добровольцах, где в ход шло любое оружие, – годилось и напечатанное, и написанное от руки, и устное слово, и цитата из антологии греческой поэзии». Эти рукопашные бои у Шлогля велись еще с 1916 года, и среди завсегдатаев были и Хект, и Сэндберг, и новеллист Шервуд Андерсон (славившийся мягкостью речей и безобразной броскостью носков), и поэт Эдгар Ли Мастерс, и целая свора кипучих ничтожеств, ныне совершенно забытых, журналистов местных изданий, обладателей быстрого ума и острых локтей. Собери их всех разом, и репутация многих, лопавшихся от тщеславия, оказалась бы дутой, но разговоры там всегда велись оживленные и занимательные, потому что эти мужчины (бывали там исключительно мужчины), поставившие себе за правило не опускаться до сплетен, обсуждали самые возвышенные и разнообразные темы: от поэзии метафизиков до фольклора индейцев чиппева, причем невежды и пьяные оказывались самыми заядлыми спорщиками и нередко одерживали верх в дискуссиях. Среди этого гвалта люди ухитрялись писать статьи. Кто-нибудь мог внезапно ударить по струнам гавайской гитары. Что касается самого Фишбейна, то Бену Хекту он запомнился как первый из первых ораторов: «Ученый-медик, он был страстным оратором. Его бледный лоб, как маяк, освещал наш путь к знаниями. Он обладал многими привлекательными свойствами, среди которых была и его полнейшая неспособность выиграть в карты».
Льюиса радушно встречали как у Шлогля, так и на частных вечеринках членов кружка. Напившись, он развлекал всех чудесными историями о своих прошлых пьяных эскападах. Он импровизировал, разыгрывая скетчи, в которых все роли исполнял сам, и пугал дам попытками выпрыгнуть с высокого этажа и пройтись по карнизу.
Узнав друг друга ближе, Льюис и Фишбейн обнаружили, что не всегда сходятся во взглядах. Так романист сказал однажды доктору, что если тот хочет продвинуться по карьерной лестнице, то ему стоит сменить фамилию; «Фишбейн» звучит слишком уж по-еврейски. На это Фишбейн возразил, что это ему, Льюису, стоит искоренить в себе антисемитизм как предрассудок и изменить в этом отношении свои взгляды. Как-то раз за обедом он поведал Льюису о пухлых пачках компрометирующих материалов, собранных АМА на шарлатанов, и настойчиво посоветовал писателю ознакомиться с этим пачками и сделать медицину темой очередного романа. Писатель отклонил это предложение. Его голова в то время была занята другим замыслом, ради которого он и приехал в Чикаго. Льюис собирался навестить знаменитость – выдающегося деятеля рабочего движения Юджина В. Дебса, потому что хотел писать с него характер героя в своем романе. Дерзкий провокатор, человек большого мужества, Дебс пять раз становился кандидатом в президенты от социалистической партии, в последний раз это было в 1920 году, когда он находился в тюрьме в Атланте, арестованный за антивоенную агитацию.
Эта уникальная президентская кампания «Заключенного № 9653 – в президенты» принесла ему почти миллион голосов. Но длительная, на протяжении многих лет, политическая борьба и двухлетнее заключение подорвали физические и нравственные силы Дебса. Теперь он восстанавливался или же пытался это сделать в санатории Линдлара, в пригороде Чикаго. Это место ему порекомендовал доктор Альберт Абрамс, известный изобретатель шарлатанского лечения с помощью реостатического активатора.
Фишбейн считал Абрамса «вторым после Бринкли величайшим шарлатаном». Генри Линдлара же, директора санатория, в котором поправлял здоровье Дебс, он презирал почти так же глубоко частично за то, что в программе лечения в его санатории участвовал и абрамсовский осциллоколебатель. Но особую славу этот санаторий приобрел применением методов натуропатии – системы, вызывавшей у Фишбейна не менее сильное отторжение. Некогда довольно популярная натуропатия в начале двадцатых годов кое-как держалась на плаву с помощью дюжины школ, раскиданных по всей Америке. Соответствующий курс включал в себя такие дисциплины, как (Фишбейну доставляло большое удовольствие само их перечисление): сейсмотерапия, физикультопатия, астрологическая диагностика, практическая сфинктерология, френологическая физиология, спектрохромная терапия, иридодиагностика, терапия напряжения и напрапатия. Короче, натуропатия являлась не чем иным, как гигантской свалкой или же распродажей шарлатанского хлама, то есть, как выразился журналист, «всех форм лечения, таящих в себе возможность наживы».
Что же касается самого доктора Линдлара, натуропата и хиропрактика, то он был выходцем из Национального медицинского университета Чикаго, охарактеризованного Фишбейном как «низкопробное заведение, настоящая фабрика по изготовлению дипломов» и названного местным главой ведомства здравоохранения «худшим местом во всем городе».
Как же мог человек таких достоинств, как Дебс, позволить втянуть себя в это болото? Доктор Фишбейн считал, что подобные Дебсу диссиденты-первопроходцы и независимые мыслители часто оказываются жертвами шарлатанов из-за склонности распространять свободомыслие за пределы своей компетентности («Политический вольнодумец склонен соблазняться и вольнодумством в науке, готовым предложить, как и он в политике, некие панацеи»). Фишбейн поделился этими соображениями с Льюисом и в самых убедительных выражениях посоветовал, каковы бы ни были его планы насчет романа, убедить Дебса поскорее покинуть санаторий.
Но непоколебимый Льюис решил отправиться в санаторий сам, чтобы разобраться на месте.
В один из будничных дней в ресторан Шлогля вошел Карл Сэндберг и, заказав сэндвич из черного хлеба с ветчиной, подсел к большому столу, где расположилась небольшая компания скучавших завсегдатаев. Служивший репортером в «Дейли ньюс», Сэндберг сильно выделялся в шлоглевской компании, за что и был уважаем, так как не принадлежал к новомодному джазовому типу. Обстоятельный, степенный, неторопливый, он больше смахивал на крестьянина с дипломом доктора наук. Откусив несколько раз от своего сэндвича, Сэндберг вытащил из кармана какие-то листки.
– Я тут рассказы писал для моих ребятишек, – произнес он, – читал им по вечерам, и вот что у меня набралось. Прочту теперь вам.
И он прочел рассказ о малыше, жившем в деревне Печенка-с-Луком.
Далее последовали другие рассказы – «Трое ребят, горшочки с патокой и тайные желания» и «Что сказать кукурузным феям, если встретишь их».
– Вы хотите это напечатать? – осведомился кто-то.
– Не думал об этом. Просто для детей писал.
Но это было неправдой. Сэндберг лелеял старые мечты. Вернувшись в домашний кабинет, он написал своему издателю Альфреду Аркуру. В письме он рассуждал о витринной выставке и о том, как лучше распространить его новый сборник. «Рассказы Рутабаги».
«Может быть, подсказать кому-нибудь из рецензентов фразу вроде «Эта книга принесет больше пользы, чем пересадка желез»?».
Глава 12
Подобно бесхарактерной любовнице, Милфорд принял изменника обратно.
Осенью 1922 года Бринкли вернулся на свои прежние боевые рубежи, освещаемый зарницами второго скандала. Разбирая его квалификационные документы, Медицинский совет штата Калифорния обнаружил в них многочисленные несоответствия и ложные утверждения. Он не являлся выпускником Беннетовского медицинского колледжа, как значилось в документе. Подтверждений, что он посещал занятия в Милтонской академии в Балтиморе, тоже не было. Возможно, полагаясь на дружбу с всесильным Гарри Чандлером или же учитывая опыт тысяч других шарлатанов, процветавших и никем не тревожимых, Бринкли имел все основания считать, что Медицинский совет и в его случае проявит ту же снисходительность и леность и не пожелает копаться в деталях. Вместо этого его кандидатуру исследовали как под микроскопом, дотошно и тщательно. Того, что все это происходит с подачи Морриса Фишбейна, представившего в совет свои находки, он тогда еще не знал. Однако он знал или чувствовал, что к этому делу, так или иначе, оказалась причастной АМА, и с тех пор он воспылал ненавистью к этой организации – ненавистью глубокой и неизменной.
Уехав из Калифорнии, он не был там забыт. Доктор Лео Стенли из Сан-Квентина стал проводить собственные опыты по пересадке козлиных желез. Об этих опытах пронюхала «Лос-Анджелес таймс», расхвалив и разрекламировав его: «Преступные наклонности можно искоренить!»
Бринкли ничего не имел против таких попыток. Что выводило его из себя, так это мелкие клиники, выросшие быстро, как грибы после дождя, и расползшиеся по всему Лос-Анджелесу, едва стоило ему покинуть город. Владельцы этих клиник уверяли, что технику операций они переняли у самого мастера. Бринкли пришлось опубликовать возмущенные опровержения, в которых он заклеймил самозванцев.
Но что толку лить слезы над пролитым молоком? «Чем сильнее меня ударить, тем выше я подпрыгну». Если впереди маячат деньги, то к чему надолго погружаться в скорбь. А возможностей заработать было предостаточно.
Енотовый мех как последний писк моды, эмансипированные дамы и дерзкий жаргон повседневной речи («Не твое собачье дело») – и при этом Америка не забыла о том, что некогда сделало ее великой. Когда Эвон Форман, парень из Балтимора, поставил рекорд сидения на флагштоке, мэр города превознес его как истинного хранителя традиционных духовных ценностей американского народа: «Мужество и упорство, продемонстрированные в вашем сидении с двадцатого по тридцатое июля в течение десяти дней, десяти часов, десяти минут и десяти секунд на флагштоке, воздвигнутом позади вашего дома, доказывают, что дух исторической Америки, дух первооткрывателей и пионеров жив и по сей день и сохраняется американской молодежью». Более того, яростная погоня за деньгами – возможно, самая традиционная из наших ценностей – достигла в то время ранее невиданного уровня. «Материализм стал культом наподобие евангелического», как заметил один историк, и не только среди денежных тузов; между 1915 и 1925 годами оплата труда среднего американца выросла на целых тридцать процентов, что открывало новые и широчайшие возможности для того, чтобы тратить, приобретать, а заодно и изобретать способы отъема денег. Бринкли был не просто сыном своего времени, его хищничество тоже было явлением типичным. Выделяли Бринкли лишь блеск и жизнеспособность.
Как будто и не было никогда никакой Калифорнии. Той осенью он тысячами рассылал по почте листки, рекламировавшие Милфорд как идеальное место для его работы, «сочетающее новейшие удобства и условия пребывания с деревенской мирной простотой». В беседах с журналистами Минни делала особый акцент на то, что самые модные оздоровительные учреждения Англии всегда располагаются в загородных усадьбах, к чему в качестве очередного аргумента Бринкли изобразил герб на почтовой бумаге – с рыцарем, щитом, цветами и виноградными лозами цвета баклажана с золотым. На напечатанном в газете снимке Бринкли представал играющим со своим английским спаниелем.
Клинику он расширил. В новом холле расставил стулья и диваны, расстелил узорчатый ковер, развесил люстры, шторы на широких окнах были раздвинуты, чтобы впустить побольше солнца. Новая реклама обещала щедрость, изобилие, роскошь: «Здесь все современно – и отдельные палаты с ванной, и оборудование по последнему слову техники, и телефон в каждой палате, библиотека, холлы, просторные вестибюль и столовая, современное кафе и парикмахерская».
По сравнению с этим потоком любая реклама Западного побережья меркла и казалась ничтожной. Она не просто на все лады расхваливала клинику, она внедрялась, вгрызалась в сознание читателя. Вот стандартное письмо от 25 октября 1922 года, где Бринкли просит получателя выслать ему десять центов как плату за экземпляр журнала «Омоложение»:
Дорогой друг!
Если ты согласен, что все мы созданы Всевышним и брошены в этот (sic!) мир с некой целью, что наше пребывание здесь не есть случайность, значит, долг каждого и всех нас совокупно оставить этот мир в состоянии несколько лучшем, чем то, в каком он пребывал к моменту нашего рождения… Я верю, что моя работа по излечению безумия и старческих недугов лет на пятьдесят опередила время, помогая здравомыслящим и ценным для общества мужчинам и женщинам сохранить себя и продолжать свою деятельность на благо грядущих поколений.
Я выбрал тебя себе в помощь. Я выбрал тебя, одного из многих созданий Божьих, чтобы и ты мог внести свой скромный вклад, распространив это послание, несущее надежду страждущим. Для тебя это шанс принести маленькую пользу.
Прочтя этот журнал, любезно передай его другим, чтобы и они могли ознакомиться с его содержанием, исполненным Правды и Надежды.
Сделай это, прошу тебя, пока не забыл, пока слова эти еще не улетучились из твоей памяти.
И это всего лишь одно письмо из целой серии подобных, что и говорить: работали с размахом!
А между тем его сотрудники собирали и опубликовывали отзывы пациентов. В этой стратегии не было ничего нового: отзывы всегда оставались альфой и омегой нетрадиционной медицины, что очень раздражало ее противников. Артур Крамп создал плакат: «Не верь отзывам» – и распространил его по стране. Фишбейн вел в своей газете необъятный раздел: на развороте с одной стороны печатался отзыв с фотографией излечившегося, приславшего его, с другой стороны – свидетельство о смерти данного лица с указанием причины смерти – от той же заявленной болезни. Однако ничто не помогало – убедить публику было крайне трудно.
«К покупке лошади или коробки конфет средний американец подходит, проявляя большую осторожность, – писал Самюэль Гопкинс Адамс. – Но в заботе о самом дорогом, что у него есть, – здоровье, он будто теряет голову… Адмирал, которого мальчишеское тщеславие толкает на отправку свидетельства, любезный без стыда и совести сенатор, благородный идиот из глубинки, изменник-доктор или глупая женщина, купившаяся на обещание дюжины бесплатных фотографий в обмен на ее письмо, – этого оказывается достаточно, чтобы соблазнить доверчивого на покупку. Покупая подержанный велосипед, он не сочтет возможным довериться такому свидетельству, но рискнет деньгами за шанс быть отравленным, наткнувшись на сообщение в газете, даже не дав себе труда немного подумать или навести справки».
Учитывая тот факт, что восемьдесят процентов всех физических недугов, если не начинать активно вмешиваться в процесс, проходят сами собой, а также приняв во внимание действие плацебо, поневоле признаешь, что любому мало-мальски ловкому шарлатану можно долгие годы жить безбедно, ни о чем не беспокоясь.
Самое красноречивое из всех отзывов, полученных Бринкли осенью 1922 года, поступило от сенатора Уэсли Стейли из Колорадо. Он бурно аплодировал доктору и миссис Бринкли, «этим двум чудесным людям, величайшим благодетелям человечества… В моем организме железы козла, и я горжусь этим».
Постепенно у доктора набралось множество таких писем, и более сотни из них он поместил в книгу, названную «Солнце и тени». Там были письма до операции и после нее – с выражениями признательности доктору от его благодарных пациентов – мужчин и женщин.
Но остановиться он не мог. Его теснили конкуренты. «В последние два года, – отмечала «Нью-Йорк таймс», – читатели успели привыкнуть к истерическим проявлениям озабоченности деятельностью своих половых желез. Если раньше всех волновала тема войны, то теперь на передний план выступила тема половых желез». Стоило лишь поднять тему, как выяснялось, что вот этот побывал у Штейнаха, а вон тот – у Вороноффа, и только и разговоров было, чей метод эффективнее.
Тем летом, когда Бринкли находился в Калифорнии, заголовки всех чикагских газет пестрели новой фамилией – еще один доктор занялся омоложением, чем крайне раздосадовал милфордского мессию.
Почему вновь возникло Чикаго? По двум причинам: во-первых, доктор являлся любимым учеником доктора Фрэнка Лидстона, работавшего в Чикаго, а во-вторых, Чикаго был родным городом Гарольда Ф. Маккормика, мультимиллионера, унаследовавшего богатство «Интернэшнл Харвестер» и женатого на Эдит Рокфеллер, дочери Джона Ди.
Впутавшись в греховную историю, которую позднее Орсон Уэллс позаимствовал для своей картины «Гражданин Кейн», пятидесятиоднолетний Маккормик влюбился в «безголосую примадонну», польку Ганну Вальска. Вальска отнюдь не являлась невинной девой – она семь раз побывала замужем и очень этим гордилась. (Согласно ходившей тогда сплетне, Вальска, похваставшись однажды, что «всякий мужчина, увидев меня, в ту же секунду делает мне предложение», немедленно услышала в ответ от одной из собеседниц: «Да, но что именно он предлагает?») Так или иначе, но Маккормик был без ума от нее и в 1920 году использовал свое влияние, чтобы заставить руководство чикагской оперы дать Вальска петь главную партию в «Заза». В помощь возлюбленной он нанял знаменитого вокального педагога. Но Вальска провалилась. Премьера оперы была названа газетчиками «величайшей катастрофой двадцатого года», и Вальска вынуждена была бежать обратно в Европу, куда устремился за ней и Маккормик. Два года спустя он все еще был ее верным рыцарем. Идею подвергнуться трансплантации, по-видимому, предложила она, хотя одна газета утверждала, что роль тут сыграло знакомство Маккормика с одним европейским специалистом.
Маккормик рассказал ученому, что пытается сохранить молодость с помощью строжайшей диеты и физических упражнений. Физические упражнения включали в себя занятия на свежем воздухе, а также гимнастику, в которой Маккормик так преуспел, что может прокрутить подряд пятнадцать сальто. Ученый остерег его против такой усиленной нагрузки, пояснив, что после сорока это небезопасно, и посоветовал ему поинтересоваться темой трансплантации желез.
Операцию магнат решил сделать у доктора Виктора Леспинасса, чикагского уролога, соученика Лидстона. Маккормик хотел сохранить операцию в тайне – не вышло.
Тайная операция Г. Ф. Маккормика!
Семья отказывается сообщить цель его пребывания в клинике и имеет ли он намерение подвергнуться трансплантации.
Сохранять молодость – хобби Маккормика.
«Нью-Йорк таймс», 18 июня 1922 года, на первой странице
«Чикаго геральд экзэминер» тоже взяла след и направила по нему свору репортеров. Не их ли город послужил отправной точкой и стимулом к созданию двумя журналистами, Беном Хектом и Чарлзом Макартуром, «Первой полосы», произведения, четыре года спустя взорвавшего Бродвей? Так почему бы не попытаться прославиться и другим журналистам – их коллегам?
И вот уже толпятся возле справочного бюро больницы «Уэсли-мемориал», где один из них, представившись офицером сыскной службы Томасом А. Малленом, требует показать ему книгу регистрации. Полученные сведения приводят журналистов уже за полночь к дому доктора Леспинасса, где они принимаются трезвонить и швырять камни в окно, чтобы разбудить доктора. Когда наконец, приподняв оконную раму, доктор понял, кто заявился к нему, он тут же с грохотом опустил раму и бросился звонить пациенту, предупреждая его. Но сотрудник «Экзэминера» успел подключиться к его телефону.
Детали тем не менее оставались, к общему негодованию, так и невыясненными, Маккормик был спрятан в особом больничном крыле. Поползли слухи. По одной из версий, пациенту должны были пересадить новые яйца от кузнеца из Иллинойса, что породило шутливую песенку:
Под деревом зеленым
Печалится кузнец.
Безжалостный Маккормик
Отхватил ему конец.
Между тем в «Нью-Йорк таймс», по-видимому, более осведомленной, появилось следующее сообщение:
…Точно установлено, что в той же клинике, что и мистер Маккормик, содержится неизвестный юноша атлетического сложения, отобранный благодаря своим физическим параметрам. В клинике намекают на то, что неизвестный получил от мистера Маккормика огромные деньги в обмен на некую жертву, которую он принесет на алтарь здоровья мистера Маккормика.
Через два дня Леспинасс выступил перед прессой. Он опроверг информацию о том, что пересадил Маккормику человеческую железу. Ему не поверили. За что иное, кроме как за это темное дело, доктор мог получить целых пятьдесят тысяч долларов от своего пациента? Каковы бы ни были мотивы доктора, заставившие его опровергнуть слух, сделал он это из осторожности, хитрости или в припадке раздражения, но его слов оказалось достаточно для возникновения новой волны домыслов. («Не явилось ли это трансплантацией железы от животного – козла либо обезьяны, а может быть (sic!), тут было применено некое чудодейственное вещество, еще неизвестное медицинскому сообществу, но открытое доктором Леспинассом?»)
Самому же Маккормику удалось ускользнуть, так и не раскрыв своего секрета.
Однако теория существования «чудодейственного вещества» стала широко обсуждаться, дав дополнительный толчок производству нехирургических гормональных средств, к 1922 году получившему широкий размах. По существу, это явилось возрождением идеи Броуна – Секара, высказанной лет на тридцать ранее, – так сказать, старым вином, перелитым в новую бутылку. Этот подход был с радостью воспринят публикой, недостаточно обеспеченной либо слишком осторожной для того, чтобы делать операцию на железах. Бринкли тоже использовал эту идею, изобретя «специальную гормональную эмульсию», которую он посылал по почте по цене в сто долларов с приложением шприца для ректального введения эмульсии. Но и на этом поле его теснили соперники.
Сначала в Сан-Франциско появились вариации на тему его собственного изобретения, такие как гормональные с железами козла и свечи для женщин, а затем Лаборатория молодости желез в Иллинойсе («Введение естественного гормонального субстрата непосредственно в железу»), компания «Новая жизнь гормонов» в Денвере, гландин, гландекс, гландтон, гландол.
Приходили сообщения из Франции о новых кардинальных успехах на этом фронте, которые, если верить прессе, могли полностью исключить потребность в трансплантациях желез. Доктор Крюше из Бордо утверждал возможность омоложения путем переливания пациентам крови животных. В Париже доктор Яворски предложил альтернативную методику подобной процедуры, введение малого количества крови молодого человека в кровоток пожилого. Знаменитым пациентом Яворски был восьмидесятилетний Арман Гийомен – один из последних оставшихся в живых художников-импрессионистов. Прославившийся, как и Ван Гог, экстравагантностью колористических решений, Гийомен к тому времени считался мэтром французского изобразительного искусства. Когда этому старцу ввели в организм кровь молодой девушки, глаза всей науки обратились к процедуре, названной журналистами революционным кровным бракосочетанием. Некоторые задавались вопросом, так ли уж ново подобное лечение – ведь еще папа Иннокентий VII в пятнадцатом веке, пытаясь вернуть себе молодость, пил кровь мальчиков, – но друзья Гийомена и его родные уверяли, что произведенная процедура имела чудодейственный результат.
Как же подняться Бринкли, как возвыситься ему над этой шумихой, которую во многом породил он сам? По выражению автора статьи в «Кольерс», Бринкли «судорожно работал мозгами, и винтики в его голове крутились, подобно лопастям вентилятора».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































