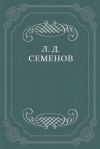Текст книги "Сказ о змеином сердце, или Второе слово о Якубе Шеле"

Автор книги: Радек Рак
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
XXI. О пробуждении жизни
Сказывают, что с тем колядованием вышло не совсем так, как только что было рассказано, что все это придумала Мацейка вместе с остальными Любашами. Потому что, когда в церковном саду созрели черешни, Мацейка уже ходила с внушительным животом. Известно, что позору будет меньше, если девку на соломе обрюхатил героический разбойник, а не какой-нибудь паренек из соседнего села.
Так что было все не так, как утверждает Мацейка. Так не было и быть не могло, ибо говорят, что Якуб Шеля в юности не уходил ни в какие разбойники.
В тот день, уже не зимой, но еще не весной, Слава вышла будить мир. Снег залегал вокруг грязными лохмотьями, земля спала промерзшая до костей, но утренний ветер впервые в этом году принес теплый аромат новой жизни. И Слава знала, что старое ушло, ушло и не вернется.
Она вышла из хаты. Маленькие уродливые мары с разбитыми головами и несуразно маленькими ножками толкались под самым порогом. Они хныкали и пищали, как котята. Слава раздраженно потрясла висевшей над дверью колотушкой из дерева, лент и мышиных черепов.
– Идите прочь, вам здесь нечего делать. Здесь нет места для вас. А ну, кыш, черти.
Мары визжали и фыркали в зарослях прошлогодней пижмы. Слава знала, что они вернутся, но у нее не было времени забивать себе этим голову. Не сегодня, в первый день нового года.
Она двинулась к реке, к ивам. Зеленый дятел с любопытством обстукивал кору изогнутых деревьев. Он сорвался, испугавшись звука человеческих шагов, но когда увидел, что это всего лишь Слава, снова присел на ближайший ствол, крутя головой то вправо, то влево. Женщина трогала руками ивовые стволы. Она шептала прямо в кору слова, которые на языке людей ничего не значат, а на языке деревьев – значат очень многое. Ивы просыпались рано, и Слава знала, что их живые соки уже начали свое движение, и совсем немного дней осталось до появления первых почек.
Ей хотелось побыть там еще какое-то время, послушать воду, которая никогда не засыпала, даже в самую глубокую зиму, но на другом берегу она заметила Плохого Человека. Он сидел в камышах и крутил в пальцах папиросу. Плохой Человек тоже ее заметил – он скривил красную рожу в ехидной улыбке, высморкался из одной ноздри и помахал Славе. Она фыркнула и двинулась обратно к дому. Однако пошла она окольным путем, чтобы отогнать от себя образ Плохого Человека.
Возвращаясь, она еще заглянула в заросли лещины в заброшенной деревне, потому что орешник просыпается рано. Мало кто помнил о его существовании, но Слава знала вещи и дела, о которых мало кто догадывается.
Старый, раскидистый орешник с крепкими, толстыми ветвями больше напоминал деревья, чем кустарник. Слава вошла в чащу и забралась на косую ветку, словно она вновь стала озорной девчонкой, которая никого не слушает, кроме себя. Кому-то другому, возможно, сделать это было бы трудно – ветки росли густо, а юбка стесняла движения. Орешник – не лучшее дерево для лазания, но те, что росли в старой деревне, приветствовали Славу, как старую подругу.
Солнце, еще несколько часов назад робкое и бледное, теперь грело с юношеской пылкостью. Слава обхватила колени, вытерла со лба густой холодный пот и стала играть с цветами орешника. Продолговатые сережки сыпали желтой пыльцой, от которой свербило в носу, и это было очень приятно.
В этом тепле, под солнцем, что-то шевельнулось у корней деревьев. Женщина почувствовала это сразу. Сначала она подумала, что это погрузившийся в зимний сон барсук, а может, даже молодой медведь, потому что и медведи в последнее время заходят сюда с гор. Но это было не животное, ибо кровь его пульсировала горем и гневом, такими густыми и черными, какие и не встретишь у животных, разве что у цепных псов. Поэтому Слава подумала, что это может быть кто-то, умерший внезапной смертью, или кто-то, похороненный заживо, или, возможно, призрак – если это так, то скоро здесь появится Плохой Человек. Плохой Человек ловил блуждающие по земле души и помогал им уходить в места, о которых Славе было известно лишь то, что порой они бывали местами хорошими, но чаще всего – бездной отчаяния. А она лучше других понимала, что иногда лучше ничего не делать, чем помогать.
Душа лежала неглубоко под землей, почти на виду. Чудо, что она пережила морозы. Славе в первый момент показалось, что она не жива, что уже находится на стороне смерти, потому что не могла услышать ее сердца; но нет, душа все же жила и извивалась, как гусеница, завернутая в лист. Душа казалась небольшой, и Славе стало ее жаль. Женщина кинула взгляд на восток, затем взглянула на запад. Она посмотрела на север и на юг. Плохого Человека не было видно.
– Иди ко мне, душа. Я заберу тебя домой и откормлю.
Душа весила не много, но и не мало, но Слава умела обращаться с душами, даже если они были вдвое тяжелее, даже если принадлежали лютому разбойнику или матери, утопившей в навозе нежеланного ребенка. А ведь это был не разбойник и не детоубийца, а юноша на пороге мужественности.
Такая мужественность, солнечная и полная жизни, ей очень нравилась. Она завернула душу в снятый с плеч шерстяной плащ и понесла в дом. Слава уложила юношу в свою постель и обеспокоилась тем, что она, возможно, не слишком свежа после зимы. Она аккуратно закрыла дверь на засов и захлопнула ставни.
– Что ты сделал со своим сердцем? – спросила она, но больше себя, чем душу, потому что юноша все еще спал.
Он что-то там бормотал, как будто на мгновение открывал глаза, но смотрел безучастно и тут же возвращался в омут зимних снов. Слава раздела его и умыла; от него приятно пахло землей и юношеским потом, так что ей даже стало жалко его мыть. Но так надо, потому что ничто не пробуждает от оцепенения лучше, чем прохладная вода. Потом она укутала его по самые уши теплым одеялом и прошептала ему на ухо:
– Сейчас я тебя накормлю, мой милый.
Слава расстегнула рубашку и вытащила набухшую от молока грудь. Юноша нежно обхватил губами розовый сосок и пил, и пил, и пил. А когда ему надоело, он просто снова уснул – но это был уже не зимний сон, а сон сытого ребенка.
– Ты ничего не оставишь для нас, хссс?
Слава медленно обернулась.
– У меня есть и вторая грудь, – ответила она и сняла рубашку.
Зашуршало, зашелестело. Отовсюду выползали змеи. Темные головы, изучающие мир раздвоенными языками, высовывались из-под кровати, из запечья, из-под всевозможной утвари, из-за картинок на стене. Гады выползали из горшков и котелков, из старого забытого сапога. Они выбирались из сеней, из дымохода и из печной заслонки, из всех щелей, о существовании которых Слава даже не подозревала.
Змеи облепили ее всю. Они заползали в волосы и под юбки. Они переползали друг через друга, чтобы поскорее добраться до грудного молока.
Славе нравились эти ласки. Змеи нежно кусали ее, их мелкие зубчики и проворные языки больше щекотали, чем причиняли боль. Потому что змеи, несмотря на голод и нетерпение, очень старались, чтобы Слава не обиделась. Все это длилось долго, потому что змей было немало. Когда последняя сытая рептилия отвалилась от ее груди, как пиявка, у женщины закружилась голова. Она опустилась на кровать.
– Только никому не говорите, – напомнила она змеям, медленно уползающим в только им ведомые закутки. – Чтобы только мары не узнали, а то и они придут и тоже захотят.
Она свернулась калачиком рядом со спящим юношей и тоже уснула.
XXII. О сборе причитающегося
Сказывают, что Слава выкормила Якуба своим молоком, что, конечно, не может быть правдой. В тот год весна наступила холодная и бледная, а вместе с ней пришел голод. Он заглядывал во все дома и скрежетал редкими зубами, и не было никакого способа избавиться от него – его выгоняли за дверь, он возвращался через окно или дымоход. Не было хаты, в которую он бы не заглянул. От голода высохли груди кормящих баб, а коровы давали молоко странное, красноватое и ржавое на вкус.
У Славы же не было голода, и Якуб быстро приходил в себя. Он спал, ел, иногда мылся – отшельница очень настаивала на мытье, и вновь ложился спать, хотя солнце стояло еще высоко в небе. Он чувствовал себя так, словно снова оказался в материнской утробе, и ему было хорошо. Иногда он прикасался к своей груди, как касаются языком ноющего зуба, и пытался почувствовать биение сердца; но грудь по-прежнему оставалась тихой и пустой, и это пробуждало в нем память о том, что он хотел забыть. Он забывался и проваливался в темный, теплый сон.
Хуже всего было с речью – за зиму он будто забыл слова. Якуб не сильно страдал из-за своей немоты, ведь животные не разговаривают, а живут; он же, без сердца, был никем. Однако Слава выводила его на улицу в теплые дни и говорила:
– Это солнце.
Или:
– Это дом.
Или:
– Это кошка. А это ворона.
Так и шло. Забор. Яблоня. Курица. День. Ночь. Луна. Трава. Вода. Все, из чего сделан мир. Якуб повторял слова за отшельницей, как ребенок, но они казались ему лишь пустыми звуками. Как будто это была не человеческая речь, а шелест листьев на ветру или треск ломающихся веток в лесу.
Якуб сам не очень хорошо помнил, как оказался у Славы. Не то чтобы у него была полная пустота в голове, но воспоминания и образы путались у него, как во сне. Последнее, в чем он был уверен, это ноябрьский поход в лес. А потом все смешивалось: змеи, зима, мороз, пробирающий до мозга костей, а потом тепло, пахнущая травами хата Славы, где он чувствовал себя в безопасности и был сыт, будто снова оказался в утробе матери.
Придя в себя, он спросил:
– Откуда я здесь взялся?
Женщина смерила его пристальным взглядом и сказала:
– Сегодня мы пойдем к людям.
Якуб не очень хотел идти. Он не торопился оказаться среди незнакомцев. Он отвык от общества и только при Славе чувствовал себя свободнее. Но он пошел, потому что она пошла.
Слава жила не очень далеко от крайних халуп. Впрочем, здесь, в Бескидах, деревни не похожи на те, что встречаются в других местах. В долинах дома ставят обычно вдоль дорог. Люди здесь живут кучей, заглядывая друг другу в окна. На взгорьях же постройки одной деревни могут быть отделены друг от друга порой пятью сотнями шагов. Границы же и названия поселений волнуют только панов, которым необходимо знать, какой хам кому принадлежит. Слава жила так далеко на отшибе, что крестьяне стали называть ее отшельницей, но в то же время достаточно близко к другим домам, чтобы не быть предоставленной самой себе.
День выдался солнечным, и хорошо было идти по заросшему золотой мать-и-мачехой лугу. Юное солнце дышало в затылок, и жужжали первые мухи. Якуб шел вслед за Славой, а в животе ощущалась приятная тяжесть завтрака, состоявшего из сыра, рыхлого хлеба из семян пастушьей сумки и кофе из цикория на молоке, ведь такой кофе лучше всего укрепляет.
Все утро они ходили от дома к дому, но их встречали сдержанно, хотя и без враждебности. На приветствие:
– Слава Иисусу Христу!
Слава вместо «во веки веков» отвечала:
– Я пришла за тем, что мне причитается.
И крестьяне отдавали, что имели. Те, что побогаче, – немного муки, меда или глиняный горшок с колбасой в сале; те, что победнее, – яйцо или два. Когда Слава и Якуб входили в хаты, им не нужно было говорить слова приветствия, потому что домашние приветствовали их первыми, – так же, как приветствуют кого-то важного, ясновельможного пана или священника. В одних хатах они задерживались ненадолго, по времени – на одну или две молитвы; в других женщина заводила беседу, в основном с бабами, но иногда и с очень старыми или очень молодыми мужиками.
Узелок, полный всевозможного добра, уже начинал тяготить спину Якуба. Пот уже стекал по лбу, когда они надолго остановились у одной беззубой бабульки, живущей в одиночестве в разваливающейся халупе. Бабушка их ничем не угостила, хотя была очень рада Славе. Все сели под терновником, таким же горбатым и гнущимся к земле, как и хозяйка. Куст уже покрылся цветами, их сладкий аромат кружил голову, а воздух кишел черными осами с продолговатыми тельцами и тонкими, как нитка, талиями.
Якуб вытянулся в тени зелени и не прислушивался к разговору женщин. Потому что это была такая обычная бабская болтовня.
– Как ваши ноги, Агата? Пухнут по-прежнему, как я вижу.
Бабка со стоном зашамкала.
– Нет, Агата, не поможет оборачивание в кошачью шкуру. У вас больное сердце, вот вода в ногах и собирается.
Бабка зашамкала.
– Если очень нужно, я спущу вам эту воду. Но погодите. Если я сейчас спущу, то еще больше соберется. Я принесла вам мазь от опухания. Хвощ тоже пейте, будете хорошо писать. Вы будете много мочиться, и эта плохая вода наконец-то сойдет.
Бабка зашамкала.
– Нет, не любовник. Помощник.
Бабка зашамкала, захихикала.
– У вас одно в голове, Агата.
Бабка зашамкала.
– Нет, Агата, не поможет оборачивание в кошачью шкуру. У вас больное сердце, вот вода в ногах и собирается.
Бабка зашамкала.
– Хорошо, я выгоню из вашего тела лихо. Только для этого нужно сначала сплести венок из мать-и-мачехи и одуванчика.
Бабка зашамкала и бодро кинулась собирать желтые цветы, которые вокруг ее халупы было в избытке, и ее нисколько не беспокоили ни больное сердце, ни опухшие ноги. Слава сорвала в тенистом ущелье пучок незабудок и ловко сплела из всех цветов венок. Якуб смотрел на нее и ничего не делал, потому что мужикам не разрешалось рвать цветы: во-первых, потому что не подобает, а во-вторых, потому что они могут потерять свою силу.
Слава усадила старуху обратно под терн, надела ей венок на седовласую голову и стала обходить ее по кругу, противосолонь, бормоча себе под нос:
Ох, болихо-лихонько,
Что сидишь ты тихонько?
Вот невестушка-старушка.
Кости стары, прах и стружка.
В жены девку не бери,
Выходи же изнутри.
Ох, болихо-лихонько,
Что сидишь ты тихонько?
Есть невестушка другая,
Свежая и молодая,
Губки алы, грудь бела,
Я венок тебе сплела.
Поскорей в венок войди,
Выходи же, выходи.
Так она бормотала трижды и в последний раз сорвала с бабкиной головы венок. Она достала из-за пазухи толстое стекло и приказала Якубу разжечь с его помощью огонь, ибо это должен был быть огонь, зажженный не человеческой рукой. Только быстро, потому что лихо в тот момент как раз сидело в венке и ждало обещанную молодую девушку, чтобы перебраться в нее вместе с болью из тела старой Агаты, а если бы оно поняло, что его обманули, оно умчалось бы дальше в мир вредить людям. Якуб набрал сухих веток и соломы и сделал, как ему было велено. Слава пропела что-то и прошептала, а затем швырнула венок в пламя. Он скрючился, почернел, затянулся белым едким дымом. До конца не сгорел, потому что травы были свежие, но женщина сказала, что этого достаточно.
– Готово, Агата. Лихо сожжено. На некоторое время вам поможет.
Бабка зашамкала.
– Вернется, вернется. Ясно, что вернется. Оно всегда возвращается.
Они посидели еще немного, потому что день был приятный, и никуда не спешили. Бабка шамкала, а Слава терпеливо объясняла. Нет, он помощник, а не любовник. Нет, кошачья шкура не поможет. Я же только что изгнала из вас лихо, Агата. День, два, и вы почувствуете облегчение.
Под конец старуха заплатила Славе сливовой косточкой. Отшельница поклонилась в знак благодарности.
Солнце заметно склонилось к закату, когда Слава и Якуб добрались до последнего дома. Хата как хата, не зажиточная и не бедная, стояла в тени могучего ореха и радовала глаз голубизной стен. Рядом небольшой коровник, курятник и амбар. По двору черный петух гонял стайку кур. Никаких странностей мира. Слава, однако, приближалась ко двору, почти крадучись. Как будто там жили не люди, а львы или волки. Прямо у плетеной изгороди она сделала какой-то странный жест, чтобы отогнать вражьи силы, и быстро перекрестилась левой рукой, словно отгоняя мух.
Хозяин, молодой и с широкими усами, как раз рубил дрова. Увидев Славу и Якуба, он смерил их неприязненным взглядом. Они стояли так некоторое время, глядя друг на друга, как коты, пока мужчина не сказал:
– Садитесь. Чего вы стоите?
Они уселись на однобокой скамейке во дворе, где молодой лук стрелял вверх побегами. Хозяин присел на пороге.
– Анна? Пива подай, гости пришли.
Из мрака сеней вынырнула женщина, молодая, красивая, из-под платка выбивались ржавые пряди. Она несла две оловянные кружки со стекающей пеной. Разноцветный кушак опоясывал ее вздувшийся живот.
– Кто?.. – начала она, но осеклась, увидев Славу. Не говоря ни слова, она протянула кружки отшельнице и ее помощнику.
Якуб поблагодарил, Слава – нет. Пиво имело хлебный вкус и почти не горчило, видать, хмеля использовалось мало или он выветрился; однако после целого дня ходьбы Якубу на вкус оно казалось самым изысканным нектаром.
– Я пришла за тем, что мне причитается, – сказала Слава, когда Анна снова захлопотала в хате и вернулась с еще двумя кружками, для мужа и для себя. – А ты, солнышко, спиртного не пей, ведь ты с ребенком. Ты же не хочешь, чтобы он появился на свет с хвостом?
– Держись подальше от моего хвоста! – рявкнула Анна и покраснела, как плод боярышника.
– Тише, баба. – Хозяин похлопал жену по колену. – Этого никто не знает. Только мы и… – он красноречиво посмотрел на Славу. Отшельница пожала плечами.
– Я никому не скажу. А с этим пивом я тебе плохого не посоветую, девочка. Тебе лучше чай с ромашкой и укропом или кофе с цикорием. Или молоко. – Она некрасиво улыбнулась.
– Ты же знаешь, что молока в деревне нет, – ответил мужик. – Ни у нас, ни по соседству, ни даже в Фолуше. Высохло у коров вымя, высохли бабские сиськи. Должно быть, Божье наказание или проклятие…
– Коли вас Бог наказывает, Йояким, то, видать, вы заслужили это, или вас за что-то не любит, а вы слишком слабы, чтобы противостоять ему. А ходят слухи, что Плохой Человек держит во дворе козу, вымя которой полно молока, никому не говорит и ни с кем делиться не хочет… Ни с кем или почти ни с кем.
– Не богохульствуй. – У Йоякима дрогнуло веко. Слегка. Едва заметно. Он полез в тайник под порогом и извлек из него мешочек, звенящий металлом. Не очень большой, но и не маленький.
– Вот что у нас есть, – сказал он и протянул деньги Славе. – Все, что у нас есть. Пересчитай.
– Ты, Йояким, совсем сдурел. Ты думаешь, что я священник, а этот вот, – она указала на Якуба, – может, церковный служка? Что мне с этим делать? Обжарить в яйце и съесть? Нет, дорогой. Дай мне петуха.
– Петуха? – удивился хозяин. – Этого черныша?
– Что, оглох, Йояким?
– Возьмите кур, пани Слава, – вмешалась Анна. – Даже всех. Это не простой петух.
– А я это знаю. Иначе бы не требовала.
Черный петух, который до сих пор гордо расхаживал по двору, теперь прятался за дровницей и поглядывал на людей то левым, то правым глазом, словно знал, что о нем идет речь. Хозяин взглянул на петуха, на живот жены, снова на петуха и, наконец, на Славу.
– Но ведь должен быть сын, отшельница. И без хвоста.
Он схватил за шею испуганного петуха, а тот начал неистово кудахтать и перебирать ногами. Знахарка провела ладонью перед его глазами, и птица успокоилась, замерла, будто сдохла. Но сердце все еще колотилось в петушиной груди, будто готовое вот-вот прорвать пернатое тело и вырваться наружу.
На обратном пути, увидев отшельницу в хорошем настроении, Якуб снова спросил:
– Слава, откуда я здесь взялся?
А она ответила:
– Я нашла тебя спящим под корнями орешника. Ты был холодным, как котенок без мамки. Поэтому я принесла тебя сюда и кормила собственной грудью.
– Слава, я спрашиваю правду.
– А я тебе правду отвечаю, мой милый.
И больше они об этом не говорили.
Петух пришел в себя, только когда Слава и Якуб вернулись в хату отшельницы. Юноша подсунул ему воды в длинной узкой поилке, из которой пили куры. Петух вздрогнул, раскрыл клюв, вывалил острый язычок и закудахтал:
– Сам свою воду пей. Водки бы дал, как человеку, придурок. Чтоб у тебя зад паршой оброс.
XXIII. О лесе по-другому
Сказывают, что Якуб у отшельницы научился принимать разные обличья.
Дни текут спокойно, и уже зацветает апрель. Якуб же трудится не покладая рук, надо залатать стреху до наступления весенних ветров и ливней. Пока тепло и ясно. Якуб работает без рубашки, и солнце золотит его тело. Слава не мешает ему, ей нравится наблюдать за его движениями. Порой, украдкой подкармливая змей, она воображает, будто это Якуб прижимается к ее груди. И тогда змеи злятся, змеи многое знают, но Славу это не волнует, потому что Якуб в эти минуты становится важнее змей. И ее даже не беспокоит, что бессердечный юноша не настоящий человек. У пугала тоже есть голова и две руки, но ведь пугало не человек.
Слава догадывается, почему у Якуба нет сердца. Некоторые просто рождаются без сердца, и тут ничего не поделаешь, но юноша не похож на такого. Чаще бывает, что люди отдают кому-то свое сердце. Так обычно поступают либо очень юные, либо те, кому старость уже скалит в лицо свои зубы. Если получивший сердце в дар заботится о нем хорошо, оно приносит плоды – в тридцатикратном, в шестидесятикратном и даже в стократном размере. Но если таким сердцем пренебречь, дать тлену коснуться его, дарователь усохнет, увянет, и вскоре человека не станет.
Однажды Слава решается спросить у Якуба, почему у него нет сердца. Даже мудрые отшельники не лишены любопытства, а может, именно мудрость искушает их познавать все больше и больше.
Юноша только ежится и говорит:
– Я не понимаю, о чем ты говоришь. Таким я и родился.
И Слава уже знает, что Якуб отдал кому-то свое сердце. Однако он так прекрасен в своей юности, что было бы жаль его так просто отпустить.
Незаметно проходит Пасха. Якубу немного печально оттого, что он позволил Пасхе утечь между пальцами. Праздник – это ведь праздник. Но отшельница не гоняла его в церковь, как это делал Старый Мышка. Печально, печально, но лишь немного.
– Ничего, – машет рукой Слава. – Будут и другие праздники.
Однажды утром отшельница будит Якуба перед рассветом. Шеля спит сейчас на чердаке над сараем, чтобы люди в деревне не болтали, хотя понятно, что болтать будут и так. За зиму, видно, что-то такое случилось с Якубом, так что теперь он уже не мальчишка, не сопляк, у которого молоко на губах не обсохло, а юноша, каких мало.
Роса сверкает жемчугом на молодом клевере и паутине. Слава ведет заспанного Якуба в лес. Юноша удивляется, но ни о чем не спрашивает. Он привык, что если у нее есть охота, то она рассказывает ему обо всем сама, а если нет, то все равно не скажет. Ибо отшельница обладает силой, а со всеми силами в мире так обстоят дела.
Они идут и идут, а вокруг только голые деревья и ветреницы, море бели и зелени, сладко пахнущее, дурманящее, аж голова кружится. И когда они входят в самое сердце леса и в самое сердце весны, Слава кладет руки на грудь Якуба и говорит:
– Сегодня я научу тебя быть не тем, кто ты есть.
Шеля хочет ответить, что ведь каждый – только тот, кто он есть, и как бы он ни старался и как сильно ни обманывал, никем, кроме себя, быть не может. Об этом ведь говорят все сказки и предания, которые он слышал от Старого Мышки и собственной матери – давным-давно, когда все было свежим и безгрешным.
Так он хочет ответить, но не отвечает. Во-первых, потому, что он уже молодой мужчина, а молодые мужчины не верят, что жизнь – это сказка, а во-вторых, потому, что Слава не любит, когда с ней кто-то не соглашается. Поэтому он спрашивает только:
– Кем я должен стать?
– Оглянись вокруг. Что ты видишь?
– Лес. Лес и лес.
– Тогда ты станешь лесом.
Сказав это, Слава целует Якуба в губы. Она целует его спокойно, но настойчиво, словно хочет его проглотить. Якуб тонет в этом поцелуе и начинает постепенно уменьшаться. С каждым мгновеньем его все меньше и меньше, почти совсем нет.
И когда он становится маленьким, совсем крохотным, как буковый орешек, он перестает быть Якубом. Он погружается в сон, в безопасную тьму земного чрева. Дни и ночи пролетают над ним, и он, ни о чем не подозревая, погружается сам в себя – спит. И все же, пусть крохотный и неподвижный, он чувствует дремлющую в нем силу и тайну жизни. И когда весеннее солнце согревает землю, эта скрытая сила в нем приходит в движенье, стремясь покинуть пределы твердой скорлупы. Она крутится, ерзает в нетерпении, наконец она уже не может уместиться в Якубе и начинает прокладывать себе путь, повинуясь зову солнца. Ибо жизнь – это стремление к солнцу. Якуб раскалывается на две половины, приподнимаясь на молодом стебле над безопасной землей. Испуг длится, однако, недолго, ибо он осознает, что уже перестал быть пустой, трухлявой скорлупой, что он превратился в яркий, сияющий зеленью побег, что он выпустил уже два липких листочка, а следующие уже ждут внутри и через некоторое время также пробьются на свет. Якуб скидывает пустую скорлупу, которая больше не является им, ибо следует без сожаления отказываться от прежней жизни и прежнего себя, ведь невозможно вечно жить в скорлупе. Остаться в скорлупе – означает сгнить и стать пищей для червей. Поэтому он торопливо выпускает лист за листом и поднимается вверх. Ночи по-прежнему прохладны, но его согревает тепло, исходящее от ближайшего дерева, бука-отца или бука-матери. Он не замерзнет.
Наконец наступает время созревания весны, когда родительский бук также выпускает листья. Дни в лесной чаще становятся тенистыми и знойными, старые деревья забирают свет для себя. Якуб задыхается возле бука-отца, хочет вырваться из заботливых ветвей бука-матери, которая поит его водой, что сама собрала, и защищает от ветра, града и заморозков, которые неизбежно наступят в мае. В то же время она не позволяет Якубу расти и становиться взрослым деревом.
Сменяются времена года, но Якуб так и не поднялся выше лесной подстилки. Весна за весной, осень за осенью, год за годом. Якуб, не выше цветка ветреницы, обрастает толстой крепкой корой и отважно держит десяток бледных листочков. Он питается призрачным светом, просачивающимся сквозь кроны старых деревьев, водой, сочащейся из душистой лесной земли, и темной неприязнью к своему родителю.
Так проходит сорок и более лет. Якуб узнает, что такое холодная зима. Такая зима наверняка сковала бы соки в его теле, если бы его кора уже не огрубела, не стала бы твердой корой зрелого дерева. Мягкий покров снежного пуха не позволяет ему расколоться пополам от мороза, что часто случается с не в меру разросшимися деревьями. Он также знает, что такое страх быть съеденным оленями и сернами, и вечно голодными зайцами. К счастью, он надежно укутан снегом и слишком мал, чтобы животные обратили на него внимание.
Но однажды наступает освобождение. Оно приходит вместе с молодой весенней грозой на Зеленые святки, когда дни уже очень длинны. Вдруг раздается шум, как от резкого порыва ветра, наполняя весь лес, в котором растет Якуб. И будто вспыхивают языки пламени, разбегаясь потом по всем деревьям. Стихия грохочет и бьет молниями, гнев небес катится по миру. Все великие просторы леса падают на колени и падают жертвами ненасытным богам дождя и грома. Буки, и дубы, и лиственницы, и прочие деревья, растущие в тенистых ущельях, оврагах и балках, в молодняках и камышовых зарослях, над ручьями и прудами, в густых дебрях и перелесках, прилегающих к человеческому жилью, и занесенные сюда ветром черемухи, терн и березы, сосны и ольхи, – все, что только растет в лесу, несет на языках огня великое дело разрушения.
Все это длится недолго, а для деревьев еще короче. И когда после огня приходит шелест легкого ветерка, а с этим шелестом – солнце, столько солнца, сколько еще никогда не было, Якуб уже все знает. Бук-отец лежит рядом, разбитый молнией, и он мертв, хотя все еще зелен, так как деревья не умирают быстро и легко. Но это не имеет значения. Имеет значение только свет, который после падения большого дерева льется с неба животворным потоком.
Якуб устремляется вверх, пускает ветку за веткой. Быстрее, быстрее, потому что не он один давно ждал смерти родителя. Те из его братьев, которых буря слишком рано лишила власти и заботы отца-матери, растут быстрее, но и легче становятся жертвами плесени, насекомых, диких животных и засухи. Но немолодой уже Якуб хорошо укоренился и умеет распоряжаться водой. Поэтому молодые умирают, а он, крепко вросший в землю и покрытый толстым панцирем коры, живет и растет. Дальше вверх и дальше вглубь. Да.
До того, как он вырастет до размеров своего родителя и даст плоды, пройдет еще полвека. Лиственницы и сосны перегонят его быстро, очень быстро, но Якуб насмотрелся уже на мир и знает, что предназначение этих деревьев – безумно жить, внезапно умереть и превратиться в труху, из которой черпать силы будет он сам, бук, господин карпатского леса. В это время в его тени подрастают первые буковые саженцы, его рассада.
Ему и прежде доводилось приносить плоды, но это были скорее пустые скорлупы или не до конца сформировавшиеся орешки, и их судьба была судьбой первого снега: они должны были погибнуть и исчезнуть, стать частью земли. В лесу даже опадышам отведено свое место.
Однако младшие из детей Якуба уже хорошо растут, и он хочет, чтобы они жили хорошо и долго, в здравии и силе. Поэтому он дает им свое тепло и запасенную у корней воду, но в то же время держит их в полумраке, чтобы они не разрослись слишком быстро, мягкие и лишенные скелета, как сорняки, которые сегодня есть, а завтра их нет. И видит Якуб, что это хорошо.
Пусть растут меж кустов подлеска, пусть их кора становится твердой, а лыко толстым. Пусть они ненавидят его, пусть желают ему смерти, пусть его забота будет им оковами, которые душат и обременяют, коль скоро это необходимо, – потому что это тоже хорошо. Ибо таков лесной закон, и Якуб стар, и он ощущает этот закон в себе – чувствует его в корнях и чувствует его в ветвях. Ибо он знает, что он не только часть леса, но и весь лес. И только молодым, быстро растущим деревьям может показаться, что все обстоит по-другому, что они – нечто совершенно от леса отдельное. Так кажется им и сорнякам подлеска, живущим слишком недолго, чтобы узреть закономерности, частью которых они являются.
Якуб знает, что когда он умрет, он не умрет по-настоящему. Так и будет продолжаться, пока живет лес. И даже когда Слава будит его, и на Якубе уже нет ни листьев, ни корней, ни лыка, а есть только плоть и кровь, – даже тогда, возвращаясь в хату, Якуб несет в себе лес.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?