Текст книги "Спартак"
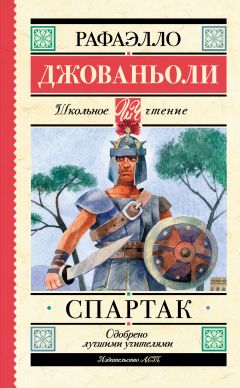
Автор книги: Рафаэло Джованьоли
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Законы?.. Кто это говорил о законах?.. Разве мы не знаем, что такое закон?.. Паутина! В ней запутывается мошка, но оса разорвет ее.
Непрерывные насмешки и злые остроты сыпались против олигархов.
Спартак, прокладывая себе путь локтями, одним из первых достиг городской стены. Когда он прошел в город, ему показалось, что он попал в страну мертвых, настолько обычно многолюдные улицы Рима были безмолвны и пустынны в этот час.
Поэтому Спартак успел быстро дойти до гладиаторской школы Юлия Рабеция – там у него было назначено свидание с Криксом.
Беседа между двумя рудиариями была дружеской, длительной и оживленной. Крикс, как и Спартак, был возмущен избиением гладиаторов у костра Суллы. Спартак, присутствующий при этом против своей воли, все еще не мог прийти в себя от гнева и волнения. Крикс уговаривал его не откладывать больше выполнения их планов и принять немедленно предложение Лентула Батиата, чтобы привлечь в его школе как можно больше приверженцев их делу.
– Теперь успех нашего предприятия, – сказал в заключение своей грубой, но горячей речи галл, – находится в твоих руках, Спартак, и если в тебе живет другое чувство, более сильное, чем благородная мысль об освобождении рабов, то всякая надежда увидеть торжество нашего великого предприятия исчезнет для нас навсегда.
– Какое бы чувство, – сказал с глубоким вздохом Спартак, – ни волновало мою душу, ничто, Крикс, ничто – слышишь ли! – ничто в мире не сможет отвлечь меня от служения нашему святому делу, ничто не может заставить меня свернуть хотя бы на минуту с пути, который я себе начертал, ничто и никто не отклонит меня от моих намерений!
Долго еще продолжалась беседа. Договорившись с Криксом обо всем, Спартак вышел из школы Юлия Рабеция и быстро пошел к дому наследников Суллы.
Едва он ступил на порог дома, как был предупрежден привратником, что Мирца ожидает его в комнате перед приемной госпожи.
Спартак с трепетом в сердце и словно предчувствуя какое-то несчастье побежал в комнаты Валерии. Мирца, увидя его, воскликнула:
– Наконец!.. Уже целый час ожидает тебя госпожа!
Она сейчас же пошла доложить Валерии о его приходе и минуту спустя ввела его в приемную.
Валерия, невыразимо бледная, закутанная в темную тогу и серую кисею, казалась более красивой и изящной, чем всегда.
Томность была ей очень к лицу.
– Спартак!.. Мой Спартак!.. – проговорила она, поднимаясь с ложа и сделав в тревоге несколько шагов к нему. – Будешь ли ты любить меня всегда?.. Любишь ли ты еще меня больше всего на свете?
Спартак, смущенный этим неожиданным вопросом, после короткой паузы ответил:
– Почему, моя Валерия, ты задаешь мне этот вопрос? Может быть, я чем-нибудь тебя обидел?.. Дал тебе повод сомневаться в моей нежности, в моей преданности, в моем поклонении тебе? Ты для меня все, все на свете… В тебе все мои привязанности, тебе посвящены все чувства моего сердца…
– Ах! – радостно прервала его Валерия, глаза которой заблистали ярким светом. – Именно так я хотела быть любимой. Ведь так ты будешь любить меня всегда, Спартак, не правда ли?
– Да!.. О да!.. Всегда так!.. – сказал дрожащим от волнения голосом рудиарий, преклонив колени перед матроной, схватив ее руки и покрывая их страстными поцелуями. – Всегда я буду чтить тебя, Валерия, как богиню, или даже… когда даже… – Он не мог продолжать дальше и разразился горячими слезами.
– Что с тобой?.. Почему ты плачешь?.. Что случилось? Спартак… скажи… что с тобой? – задыхаясь, повторяла Валерия, лаская рудиария, целуя его в лоб и прижимая к своей груди.
В этот момент раздался легкий стук в дверь.
– Встань! – быстро сказала вполголоса Валерия и затем, по мере сил стараясь придать своему голосу обычный тон, спросила: – Что ты, Мирца?
– Приехал брат твой Гортензий и спрашивает тебя, – раздался голос рабыни по ту сторону двери.
– Уже?! – сказала Валерия. И тут же добавила: – Пусть он подождет немного…
– Хорошо.
Валерия прислушалась. Когда смолкли шаги Мирцы, она заговорила торопливо:
– Вот… Он уже пришел… Именно поэтому я тебя с таким нетерпением и ждала… И потому-то я спрашивала тебя, готов ли ты пожертвовать всем для меня… Знай, что… Гортензий… знает все… что я люблю тебя, что ты любишь меня…
– Что ты говоришь?.. Каким образом?.. – воскликнул Спартак, охваченный сильнейшим волнением.
– Молчи!.. Я сама не знаю… Он мне об этом коротко говорил… и сказал, что придет сегодня вечером… Теперь ты спрячься… сюда… в эту комнатку, – сказала Валерия, поднимая портьеру на одной из дверей. – Невидимый, ты услышишь все… и узнаешь, как может любить Валерия.
Втолкнув рудиария в смежную комнату, она прибавила вполголоса:
– Что бы здесь ни произошло, ни одного слова, ни одного движения, пока я тебя не позову.
И она опустила портьеру; потом, прижимая к груди руки, чтобы сдержать биение сердца, Валерия села на ложе. Вскоре ей удалось взять себя в руки и принять непринужденный вид. Тогда она позвала обычным своим голосом:
– Мирца!
Девушка появилась в дверях.
– Ты сказала Гортензию, что я одна в своей приемной?
– Я выполнила твое приказание.
– Хорошо, теперь приведи его.
Спустя минуту знаменитый оратор, с бородой, не бритой уже пятнадцать дней, в темной тунике, в тоге из темной шерсти, серьезный и нахмуренный, вошел в приемную сестры.
– Здравствуй, милый Гортензий! – сказала Валерия.
– Здравствуй, сестра, – хмуро ответил тот.
– Садись и не сердись на меня, брат мой, а говори прямо и откровенно.
– Не одно только несчастье должно было свалиться на меня со смертью нашего возлюбленного Суллы, но и другое, неожиданное, незаслуженное. Я должен был узнать, что дочь моей матери, забыв об уважении к себе самой, ко мне, к крови Мессалы, к брачному ложу Суллы, покрыла себя позором, вступив в бесстыдную связь с презренным гладиатором. О Валерия, Валерия!.. Что ты сделала?
Облокотившись на спинку своего стула и приложив руку ко лбу, он замолчал, печальный и задумчивый.
– Слушай, Гортензий, ты обвиняешь меня в очень тяжелом проступке; прежде чем защищаться, я спрашиваю тебя, откуда исходит это обвинение?
Гортензий поднял голову и, проведя рукой по лбу, ответил отрывисто:
– Из многих мест… Шесть или семь дней спустя после смерти Суллы Хризогон передал мне это письмо.
С этими словами Гортензий подал Валерии измятый папирус. Она его развернула и прочла:
ЛУЦИЮ КОРНЕЛИЮ СУЛЛЕ, ИМПЕРАТОРУ, ДИКТАТОРУ, СЧАСТЛИВОМУ, ЭПАФРОДИТУ, ДРУЖЕСКИЙ ПРИВЕТ.
Отныне вместо слов: «Берегись собаки!» ты бы мог написать на наружной стене твоего дома: «Берегись змеи!», вернее змей, так как не одна, а две змеи свили себе гнездо под твоей крышей: Валерия и Спартак.
Не дай себе увлечься внезапным гневом: подстереги их в час первого крика петухов, и ты увидишь, какое издевательство совершается над именем, над брачным ложем самого страшного и могущественного человека в мире.
Пусть боги избавят тебя впредь от подобных несчастий.
Лицо Валерии покрылось пламенем при первых же словах этого письма, а когда она кончила читать, стало мертвенно-бледным.
– Откуда Хризогон получил это письмо? – спросила она глухо, сквозь зубы.
– К сожалению, как он ни старался, никак не мог вспомнить, от кого оно было. Он помнит только, что раб, доставивший это письмо, прибыл в Кумы через несколько минут после смерти Суллы.
– Не стану же я убеждать тебя, – после минуты молчания спокойным голосом сказала Валерия, – что анонимный донос не такое доказательство, на основании которого ты, Гортензий, брат мой, можешь обвинять меня, Валерию Мессалу, вдову Суллы…
– Но дело в том, что Метробий в безутешном горе по поводу смерти своего друга, считая своим священным долгом отомстить за поруганную честь его, пришел ко мне спустя десять или двенадцать дней после смерти Луция и рассказал о твоей связи со Спартаком. Он привел ко мне рабыню, которая проводила Метробия в комнату, смежную с твоей приемной, и он видел Спартака, входившего к тебе ночью.
– Довольно, довольно! – закричала Валерия, меняясь в лице от мысли, что ее поцелуи, ее слова, тайны ее любви стали известны рабыне и такому презренному существу, как Метробий. – Довольно, Гортензий. И так как ты предъявил мне обвинение, то теперь буду говорить я.
Она встала, подняла гневное лицо к брату, скрестила руки на груди и, гордо сверкая глазами, сказала:
– Да, я люблю Спартака. Люблю его со всем пылом моего сердца! Ну и что же?
– О великие боги, великие боги! – воскликнул, вставая, совсем растерянный Гортензий и закрыл в отчаянии лицо руками.
– Оставь в покое богов! Они тебя не услышат. Слушай лучше меня, когда я тебе говорю.
– Говори…
– Да, я люблю и буду любить…
– Валерия! – прервал Гортензий, глядя на нее с негодованием. – Ты меня пугаешь… Ты совсем сумасшедшая женщина…
– Нет, я только женщина, и я решила нарушить ваши деспотические законы, ваши глупые предрассудки, освободиться от цепей, которыми вы, победители мира, связываете ваших женщин по рукам и ногам! Вот чего я хочу, и я уверяю тебя, брат, что это вовсе не свидетельствует о сумасшествии, а, наоборот, может быть доказательством возвращения разума. Меня обвиняет Метробий, этот гнусный паяц, настолько порочный, что возбуждает ревность у всех жен, мужья которых с ним водятся. Мне странно, почему ты, Гортензий, придавая столько веса его обвинениям, не предложишь Сенату выбрать его цензором… Он был бы цензором, достойным римских нравов!.. Метробий, охраняющий целомудренных весталок!.. Волк, ведущий ягнят на пастбище!.. Это именно то, чего еще недостает этому омерзительному Риму, где Сулле, наполнившему город убийствами, воздвигаются статуи и храмы и где под сенью двенадцати таблиц ему было дозволено проводить на моих глазах все ночи в грязных оргиях. О, законы отечества, как вы справедливы!.. Они мне тоже разрешали кое-что: право оставаться спокойной свидетельницей всего этого и даже право проливать слезы, но тайно, на подушки вдовьего ложа, и, наконец, право увидеть себя отвергнутой в любой день по единственной причине, что я не дала наследника своему господину и хозяину!
Лицо Валерии разгорелось от возбуждения. Она замолчала ненадолго, затем повернулась к Гортензию, изумленно смотревшему на нее неподвижными расширенными глазами, и продолжала:
– Конечно, я перед лицом этих законов нарушила свой долг… я знаю… я признаю это… но я не намерена ни защищаться, ни оправдываться: я нарушила долг тем, что не имела мужества уйти со Спартаком из дома Суллы. Но за то, что я полюбила этого человека, я не считаю себя преступной, я горжусь этой любовью. У него благородное и великодушное сердце, ум, достойный великих дел. Если бы он одержал победу во Фракии над римскими легионами, он вызывал бы больше восхищения, чем Сулла и Марий, и его боялись бы больше, чем Ганнибала и Митридата!.. Но он был побежден, и вы обратили его в гладиатора. И потому, что вы делаете из него гладиатора, потому, что даете ему это название, вы верите, что изменили его душу. Вы думаете, что достаточно вашего декрета, чтобы сделать из человека с великой душой и сильным умом безмозглого барана?
– Значит, ты восстаешь против законов нашего отечества, против наших обычаев, против всякого чувства приличия?.. – спросил с изумлением и печально великий оратор.
– Да, да, да!.. Я восстаю… я отказываюсь от римского гражданства, от своего имени, от своего рода… я уйду жить в какую-нибудь уединенную виллу, я удалюсь в какую-нибудь отдаленную провинцию или во Фракию, к Родопским горам вместе со Спартаком, и вы, все мои родные, не услышите больше обо мне!
И Валерия, изнемогая от волнения, упала на ложе.
Быть может, Валерия и не была в такой мере права, как ей казалось. Прошлая жизнь ее не была вполне безупречна, и даже в любви к Спартаку – единственной настоящей любви, заставлявшей действительно трепетать ее сердце, – она вела себя слишком легкомысленно. Однако в этих сильных и несколько бессвязных словах она нарисовала верную картину страдания, угнетения и унижения, на которые обрекали женщину римские законы.
Именно в этом плачевном положении женщины, еще худшем, чем положение сыновей, находившихся в неограниченной власти отцов, в язве все растущего безбрачия и распада семьи, в распространении рабства, которое влекло за собой праздность граждан, – во всех этих обстоятельствах следует искать истинную причину падения Рима.
Гортензий, поглядев на сестру с состраданием, сказал ей ласково, мягким голосом:
– Я вижу, милая Валерия, что ты чувствуешь себя сейчас нехорошо…
– Я? – воскликнула матрона, быстро вставая. – Я чувствую себя великолепно, я…
– Нет-нет, Валерия, поверь мне, тебе нехорошо… ты взволнована… ты во власти чрезмерного возбуждения, оно отнимает у тебя спокойствие и ясность ума, необходимые для беседы на такую серьезную тему…
– Но я…
– Отложим до более подходящего времени обсуждение этого вопроса.
– Предупреждаю тебя: я непреклонна…
– Хорошо… хорошо… мы поговорим об этом… мы увидимся… А пока я прошу, чтобы боги хранили тебя всегда. Я ухожу. Прощай, Валерия, прощай.
– Прощай, Гортензий!..
И оратор вышел из приемной сестры. Через несколько мгновений в комнату вошел Спартак. Он бросился к ногам Валерии и, целуя ее, бессвязными словами благодарил за речи, полные любви, за ее глубокое чувство.
– Да, я хочу жить всегда с тобой, всегда с тобой, благороднейший Спартак, я буду твоей женой, и горы твоей гостеприимной Фракии будут приютом нашей любви, – говорила Валерия, прижимая Спартака к сердцу.
И опьяненный этими поцелуями рудиарий, забывая себя и весь мир, прошептал слабым голосом:
– Да… твой… твой… навеки… твой раб… твой слуга… твой…
Вдруг Спартак обернулся, побледнев, вырвался из объятий Валерии и напряг слух, как бы желая сосредоточить в нем все чувства своей души.
– Что с тобой? – спросила в волнении Валерия.
– Молчи!.. – прошептал едва слышно рудиарий.
И в глубокой тишине оба услышали хор молодых голосов, звонких и сильных, исполнявших на полуварварском языке – смесь греческого с фракийским – следующую песню:
Свобода! Свобода! Богиня богинь!
К великому подвигу сердце зажги,
Слабейших из смертных в бою не покинь!
Свобода! Свобода! Богиня богинь!
Над нами раскинь ты крылья свои
В тот час, когда грозные грянут бои,
Когда нападут легионы врагов, —
В мечи превратишь ты оковы рабов!
И в странах позора, где царствует гнет,
Пусть самый ленивый оружье берет,
Пусть самый трусливый выходит вперед!
Свобода! Свобода! Богиня богинь!
На землю божественным пламенем хлынь.
Пусть искра огня твоего упадет
Туда, где насилье, где слезы и пот.
Где неге тиран предается всегда,
Где льются и кровь и вино, как вода,
Где братоубийца ликует, – туда,
Богиня богинь, поведи нас на бой!
Ведь каждое сердце пылает тобой!
Свобода, свобода! Пусть груб наш напев,
Удвой наше мужество, силу и гнев!
Дай твердость свою истомленным плечам, —
Тебя призывая, мы рвемся к мечам!
К оружью, товарищи, смерть палачам!
Спартак весь превратился в слух, как будто его жизнь зависела от этой песни, из которой Валерия уловила всего лишь несколько греческих слов.
Она молчала, и на ее белом, как алебастр, лице отражалась та же тревога, которая была написана на лице рудиария, хотя она не понимала ее причины.
Они молчали, пока не стихло вдали пение гладиаторов. Затем Спартак, целуя руки Валерии, произнес прерывающимся от слез голосом:
– Я не могу… я не могу… моя… Валерия… прости меня… я не могу быть всецело твоим… так как я больше не принадлежу себе…
– Спартак!.. Что ты говоришь?.. Что ты сказал? Какая женщина может оспаривать у меня власть над твоим сердцем?
– Это не женщина, нет, – возразил, печально качая головой, гладиатор, – не женщина запрещает мне быть счастливым. Нет! Но я… не могу сказать, что… Не могу говорить… Я связан священной и нерушимой клятвой. Я больше не принадлежу себе. И, – прибавил он в заключение дрожащим голосом, – тебе достаточно знать, что вдали от тебя, лишенный твоих божественных поцелуев, я буду очень несчастным… самым несчастным человеком!..
– Что ты говоришь? – сказала испуганно Валерия, охватив маленькими руками голову Спартака и заставляя его смотреть ей в лицо. – Ты с ума сошел?.. Что ты сказал?.. Ты бредишь?.. Кто же тебе запрещает быть моим?.. Говори же! Избавь меня от мук, скажи мне, кто?
– Выслушай меня, выслушай, любимая, обожаемая Валерия, – сказал прерывающимся голосом Спартак, на искаженном лице которого можно было прочесть всю борьбу противоречивых страстей, бушевавших в его груди, – выслушай меня… Я не могу говорить… Не в моей власти сказать тебе, какая причина отдаляет меня oт тебя… тебе достаточно знать, что это не другая женщина… и ты должна понять… Разве могла бы какая-то женщина оторвать меня от твоих чар? Я чистосердечно и честно клянусь твоей жизнью, твоим добрым именем, моим именем, моей жизнью, что вблизи или вдали я твой и буду всегда твоим, только твоим, и что твой образ и память о тебе всегда будут единственным предметом моего поклонения, моего обожания…
– Но что же с тобой? – спрашивала, едва сдерживая рыдания, бедная женщина. – Почему ты не откроешь мне свою тайну! Ужели ты сомневаешься в моей любви, в моей безусловной преданности? Ужели я тебе не дала достаточно доказательств этого?.. Ты хочешь еще других?.. Говори… приказывай… Чего ты хочешь от меня?..
– Я не могу, я не могу! – закричал несчастный Спартак вне себя. – Я не имею права говорить!
Валерия, плача, его обнимала. Спартак продолжал:
– Но я вернусь, вернусь после того, как получу разрешение нарушить для тебя мою клятву, я вернусь завтра, послезавтра, как только смогу. И ты меня простишь тогда и будешь любить еще больше… если между нами может существовать любовь более сильная, чем та, что связывает нас сейчас… Прощай… Прощай… моя обожаемая Валерия!
Сделав над собой сверхчеловеческое усилие, несчастный Спартак вырвался из рук любимой женщины и выбежал из приемной. Валерия, подавленная волнениями и горем, упала без чувств.
Глава IX
Как один пьяница вообразил себя спасителем республики
За пятнадцать дней до мартовских календ (15 февраля) 680 года от основания Рима, почти через четыре года после смерти Луция Корнелия Суллы, римляне справляли праздник – луперкалий, установленный Ромулом и Ремом в честь их кормилицы Луперки, оплодотворителя полей бога Пана и в память чудесного детства обоих братьев.
Луперкалием звалась пещера, находившаяся на склоне Палатинского холма, в лесу, посвященном богу Лану. В этом месте, по преданию, волчица кормила своим молоком Ромула и Рема.
С самого раннего утра в луперкальский грот собрались луперки – жрецы, выбранные среди наиболее знаменитых юношей из сословия патрициев. Они были в греческом одеянии. Вскоре к ним присоединилась толпа других благородных юношей. Двое из них были одеты в белые тоги и венки из плюща, так как им предстояло играть важную роль при жертвоприношении.
Как только эта группа пришла, виктимарии вооружились ножами и зарезали двадцать козлов и столько же щенят. После жертвоприношения один из луперков взял меч, обмакнул его в кровь жертв и коснулся им лба двух молодых патрициев. Тотчас же другие луперки стали вытирать пятна крови шерстью, смоченной молоком. Когда следы крови на их лбах были уничтожены, юноши разразились, как это было предписано, звонким хохотом.
По-видимому, в этой церемонии предание символизировало обряд очищения пастухов.
После этого было совершено установленное обычаем омовение, а потом в особом месте пещеры луперки с очищенными юношами и их друзьями устроили роскошный пир.
Пока луперки сидели за столом, пещера стала наполняться народом. В лесу и на всех прилегающих дорогах толпилось множество людей. Среди них было очень много женщин.
Чего ожидала толпа? Это стало ясно, когда луперки, едва только встав из-за стола, веселые и возбужденные, надели на туники в виде поясов широкие полосы из шкур убитых животных, взяли в руки кнуты, сделанные из этих же шкур, гурьбой выбежали из пещеры и начали носиться по улицам, рассыпая удары плетей всем попадающимся им навстречу.
И так как девушки верили, что удары этих жертвенных плетей облегчают вступление в брак, а замужние – что удары плетей имеют оплодотворяющую силу, то на всех улицах можно было видеть матрон и девиц, бегущих навстречу луперкам и радостно протягивающих руки для того, чтобы получить удар.
Таким образом, в религии древних, как и в современной, все обряды были предлогом для веселых сборищ, более или менее непристойных, более или менее таинственных, устраиваемых большей частью плутами за счет легковерия простаков. В данном случае луперки сами несли расходы по празднеству, которое давало удовлетворение их тщеславию, ибо немалой честью считалось звание жреца и немалым удовольствием была возможность ласково хлестать плетью красивых девушек и соблазнительных матрон и получать от них в награду нежные слова и милые улыбки.
Часть луперков в сопровождении толпы побежала к острову на Тибре. На этом острове, тогда еще малонаселенном, находились три храма: храм Эскулапа, храм Юпитера и храм Фавна.
Опершись на одну из колонн портика храма Фавна и равнодушно наблюдая за беготней луперков, стоял молодой человек высокого роста, полный сил и идеально сложенный. Над шеей, напоминавшей греческие изваяния, гордо поднималась благородная голова; его черные волосы, блестящие, как черное дерево, оттеняли высокий лоб и глаза очень красивого разреза, выразительные, проницательные и властные. Нос молодого человека был прям, резко и великолепно очерчен; небольшой рот с несколько толстыми и немного выдающимися вперед губами запечатлевал две страсти: властность и чувственность. Белизна кожи делала еще более прекрасным и привлекательным лицо этого необычайно изящного человека.
Это был Гай Юлий Цезарь.
Он был одет с чисто греческим изяществом. Поверх туники из тонкой белоснежной льняной материи, отороченной пурпуром и стянутой на талии шнурком из пурпурной шерсти, Цезарь надел тогу белого сукна с широкой синей полосой по краям.
Юлию Цезарю исполнилось в это время двадцать шесть лет. В Риме он уже пользовался безграничной популярностью благодаря своему таланту, образованию, красноречию, привлекательности, храбрости, силе духа и непревзойденному изяществу.
В восемнадцать лет Гай Юлий Цезарь, приходившийся со стороны своей тетки Юлии племянником Гаю Марию и по своим связям и по личным симпатиям принадлежавший к марианцам, женился на Корнелии. Ее отец, Луций Корнелий Цинна, был четыре раза консулом и считался ярым сторонником победителя тевтонов и кимвров. Как только Сулла, уничтожив своих врагов, сделался диктатором, он приказал убить двух членов семейства Юлиев, расположенных к Марию, а от молодого Гая Юлия Цезаря потребовал, чтобы он разошелся со своей женой Корнелией; Цезарь, обнаруживший уже тогда железную волю и непреклонную твердость, не захотел этому подчиниться, за что был присужден Суллой к казни. Только вмешательство влиятельных сторонников Суллы и коллегии весталок спасло ему жизнь.
Цезарь не чувствовал себя в безопасности в Риме, пока там властвовал Сулла. Недаром в ответ на просьбы многих о даровании жизни Цезарю диктатор сказал: «В этом юном Юлии кроется много Мариев».
Цезарь удалился в Сабину, где скрывался, блуждая по горам Лациума и Тибертина до тех пор, пока Сулла не умер.
Вернувшись в Рим, он немедленно отправился воевать и отличился своей храбростью.
По окончании военных походов Цезарь направился в Грецию, где предполагал слушать наиболее известных философов и посещать школы знаменитейших ораторов. Но возле Формакузы корабль, на котором плыл Цезарь, был захвачен пиратами, и он со своими слугами попал в плен. Тут Цезарь доказал не только необыкновенное мужество, но и врожденную способность повелевать, что впоследствии дало ему власть над всем миром. Когда он спросил пиратов, сколько они хотят выкупа за него, они потребовали двадцать талантов; юноша высокомерно возразил, что стоит пятидесяти и что эта сумма им будет выплачена, а когда он получит свободу, то отправится в погоню за ними и, захватив их, велит распять на крестах.
Не сомневаясь, что человеку из рода Юлиев поверят на слово, Цезарь послал несколько слуг в Эфес, Самос и в другие соседние города собрать пятьдесят талантов и вручил их пиратам. Но как только его отпустили на свободу, он, взяв несколько трирем в соседних портах, погнался за пиратами, напал на них, разбил, взял в плен и передал претору, чтобы тот приказал их распять. Узнав, что претор пытался продать пиратов в рабство, Цезарь самовольно велел их всех распять, заявив, что готов отвечать за свой приказ перед Сенатом и римским пародом.
Все это доставило Юлию Цезарю большую популярность, чрезвычайно возросшую, когда он открыто и смело обвинил Гнея Корнелия Долабеллу в преступном управлении вверенной ему провинцией Македонией. Цезарь поддержал обвинение таким удивительным и оригинальным красноречием, что даже красноречивейший Цицерон лишь с большим трудом добился оправдания Долабеллы.
Таков был человек, стоявший у портика храма Фавна и наблюдавший толпу.
– Привет Гаю Юлию Цезарю! – воскликнул, проходя мимо, Тит Лукреций Кар.
– Здравствуй, Кар, – ответил Цезарь, пожимая руку будущему автору поэмы «О природе вещей».
– Честь и слава божественному Юлию! – сказал мим Метробий, подходя с компанией комедиантов и акробатов.
– А, Метробий! – воскликнул с насмешливой улыбкой Юлий Цезарь. – Как видно, ты не зря тратишь свою жизнь! Ты не пропускаешь ни одного праздника, ни одного даже самого ничтожного случая, чтобы повеселиться.
– Ничего не поделаешь, божественный Юлий… Будем наслаждаться жизнью, дарованной нам богами… так как Эпикур предупредил нас, что…
– Знаю, знаю, – сказал Цезарь, прерывая Метробия и избавляя его от труда привести цитату.
Почесав мизинцем левой руки голову, чтобы не испортить себе прическу, Цезарь указательным пальцем правой подозвал к себе Метробия.
Метробий с величайшей поспешностью отделился от своих товарищей по искусству, один из которых крикнул ему вслед:
– Мы будем ждать тебя в харчевне Эскулапа!
– Ладно! – ответил мим и, подойдя к Цезарю, сказал ему вкрадчивым голосом с медоточивой льстивой улыбкой: – Какой-то бог, очевидно, мне сегодня покровительствует, если предоставляет случай услужить тебе, божественный Гай, светило рода Юлиева.
Цезарь усмехнулся своей чуть презрительной улыбкой и возразил:
– Услуга, о которой я буду тебя просить, добрейший Метробий, не очень велика. Ты бываешь в доме Гнея Юния Норбана?..
– Еще бы, – радостно, тоном близкого человека сказал Метробий. – Добрый Норбан расположен ко мне… очень расположен… и с давнего времени… Еще когда был жив мой знаменитый друг, бессмертный Луций Корнелий Сулла…
Едва заметная гримаса отвращения пробежала по губам Цезаря, но он ответил с притворным добродушием:
– Ну хорошо… – Он на мгновение задумался, а затем прибавил: – Приходи ко мне сегодня вечером к ужину, Метробий, я тебе тогда скажу на досуге, в чем дело.
– О, какое счастье!.. Какая честь!.. Как я тебе благодарен, милостивейший Юлий!..
– Хорошо, хорошо!.. Довольно благодарностей. Иди, тебя ждут твои друзья. Вечером увидимся.
Величественным жестом Цезарь попрощался с Метробием: тот, рассыпаясь в бесчисленных приветствиях и поклонах, пошел в харчевню Эскулапа.
Если принять во внимание отвратительные качества человека, к которому обращался Цезарь, а также репутацию последнего как молодого человека, пользовавшегося большим успехом у женщин, очень вероятно, что сведения, которые Цезарь желал узнать от Метробия, касались любовных дел.
Метробий, ликуя от радости по поводу своей удачи, считая очень большой честью для себя приглашение Цезаря, пошел в харчевню Эскулапа, где с самодовольным видом стал рассказывать о случившемся друзьям, уже сидевшим за столом.
Мысль о предстоящем через несколько часов роскошном ужине не помешала ему с усердием приняться за еду и еще усерднее – за отличное велитернское вино.
Среди шуток и смеха, раздававшихся за столом, комедиант совсем не замечал, как проходили минуты и часы, и потерял счет колоссальному количеству опорожненных бокалов; через два часа бедняга от слишком частых возлияний велитернского захмелел так, что ранее обычного оказался не в себе. Но сквозь мрак, сгустившийся над его разумом, у него мелькнула мысль, что дальше так продолжаться не может, что через час он совершенно потеряет способность двигаться и пойти на ужин к Цезарю. Он принял твердое решение, оперся обеими ладонями о стол и с немалым трудом поднялся на ноги; затем, прощаясь с компанией, заплетающимся языком объяснил, что ему нужно уйти, так как его ожидают к ужину у Це… Це… Церазя.
Взрыв громкого пьяного хохота последовал за этой обмолвкой. Острые словечки и насмешки посыпались ему вслед, когда он нетвердыми шагами выходил из таверны.
– Красив ты будешь у «Церазя»! – вскричал один.
– У тебя узел на языке, бедный Метробий! – воскликнул другой.
– Не танцуй, ты не на сцене!
– Держись прямо… Ты вытираешь все стены!
– Он вошел в соглашение со штукатурами!
– Идет петлями, как змея!
Между тем Метробий, выйдя на улицу, бормотал:
– Сме… етесь… сме… етесь… оборванцы! Но я… пойду на ужин к Цезарю… он хороший человек… великолепный человек… Цезарь… и он любит ар… ар… артистов! Клянусь Юпитером Капи… Капи… лотийским! Не могу… понять, как здесь идти… Это велитернское… оно подмешано… и фальшиво… как душа Эв… Эв… битиды!
Сделав шагов двадцать, старый пьяница остановился и, постояв немного в раздумье, решил воспользоваться двумя часами, оставшимися до встречи с Юлием Цезарем, чтобы освежить на воздухе голову, отуманенную велитернским.
– Куда лучше… мне пойти?.. К вершине… конечно, воздух там… более свежий… а мне жарко… а календарь меня уверяет… что февраль… бывает зимой… А разве февраль – зимний месяц?.. Он будет зимним для того, кто не выпил столько… а что я найду, если пойду по этой дороге?.. Я найду… гробницу этого доброго царя Нумы… я никогда ни капельки не уважал этого Нуму… за то, что он не любил вина… Не любил… А я не верю, что он не любил вина… и я могу поклясться двенадцатью богами Согласия… что он с нимфой Эгерией… говорил не только о государственных делах… да…
Идя зигзагами, Метробий продолжал свои нападки на трезвенников и в особенности на бедного царя Нуму и скоро дошел до леса Фурины, богини бурь.
После недолгого блуждания по узким тропинкам он увидел огромное дерево, стоявшее почти в самом центре леса. Близ дерева находилась круглая поляна. Метробий расположился здесь, опершись спиной о многолетний ствол дерева.
– Действительно, любопытная вещь, – бормотал комедиант. – Подумать, что я найду успокоение от бури, волнующей меня, как раз в лесу, посвященном богине бурь…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































