Текст книги "Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе"
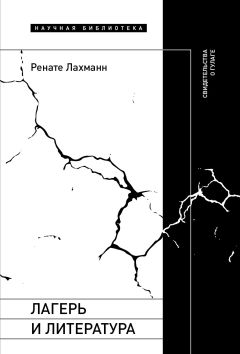
Автор книги: Ренате Лахманн
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Те из выживших, которые стали писателями, эти наблюдатели превращений, подчас затрагивавших их самих, сумели отстоять свое «я». Их письмо – пере-писывание, трансформирующий творческий акт, который преобразует увиденное, услышанное, прочувствованное из внешней, непосредственно пережитой реальности во внутреннюю реальность рассказа, описания, анализа. Мы, читатели, воспринимаем их как тех, кто сумел противостоять превращению в «нечеловека» и возвратить себе достоинство. Но также мы узнаем, что опыт людской жестокости, несмотря на освобождающий акт письма об этом, не может помешать повторному переживанию случившегося. Шаламов отказывается рассматривать письмо как преодоление колымского опыта – и в еще более мрачном ключе утверждает: «Те, кто выдерживал, кто доживал до конца срока, обрекались на новые скитания, на новые бесконечные мучения» (Ш II 227).
В послесловии к своей книге, написанной в Израиле в 1946–1947 годах, Марголин говорит:
Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не считают утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю острое мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:
– Подъем! (М I 407)
Об этом повторном переживании испуга и принудительного выталкивания в очередной ужасный день в похожих выражениях рассказывает Леви, цитируя команду побудки в виде польского «wstawać!». Шаламов пишет об аналогичном опыте:
Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном труде (Ш V 148).
Следы иного мира, мира превращений, оказываются неизгладимыми.
11. Мир заключенных как «альтернативный мир»
Паралогическое, иррациональное, в контексте фантастической литературы способное (чудесным образом) рождать нечто немыслимое и невиданное, в условиях «реального» упразднения разумности и нормальности оборачивается проклятием и гибелью. Почти все лагерные тексты начинаются с воспоминания о растерянности по поводу обвинений, предъявленных не ожидавшим ареста (или уже предчувствовавшим его) людям: шпионаж в пользу враждебных стран, участие в контрреволюционной группе, подготовка свержения правительства, троцкизм, враждебность народу. Одна из составляющих таких воспоминаний – сцены созданного следователями и комиссарами безумного мира, беспомощно увязшими в котором видят себя эти «контрреволюционеры» и «враги народа». Паралогика бредового мира не допускала никаких разумных доводов для опровержения обвинений – ни алиби, ни доказательств безукоризненного коммунистического прошлого. Доставленных на допрос психически изматывала нелепость обвинений.
Фантастические тексты, нагнетающие напряжение при помощи страха и ужаса, кажутся прообразами рассказов о мире лагерей. Ведь сцены допросов, вырванных под пыткой признаний или отказа их давать, насилия со стороны охраны или солагерников, самой лагерной жизни с ее зачастую непредсказуемыми перипетиями (такими как болезнь, перевод на рабочее место, где есть шанс выжить, или наоборот – наказание в виде высылки в трудовой лагерь, где шансов выжить как будто не остается) составляют моменты напряжения, устремленного к развязке событий. Умение же перехитрить судьбу, выстоять в самых страшных условиях, о которых сообщают выжившие, может трактоваться как разрядка напряжения – и в этом пункте тоже напоминает развязки фантастических текстов. В защиту обращения к категории фантастического в этом контексте можно сослаться, во-первых, на частоту употребления слов «фантастический» или «фантастичный», используемых авторами при попытке описать нечто абсолютно невообразимое в сочетании с указанием на отсутствие необходимости изобретать нечто невозможное, неслыханное, невиданное, поскольку сами рассказы о творившемся в лагерях все это уже содержат. Во-вторых, в некоторых текстах заметен знак равенства между онтологическими статусами фантастики и лагерной реальности/ирреальности. Ужас перед происходящим, который стремятся передать авторы, проистекает из сомнения: реально происходящее или скорее нереально? В ряде отчетов говорится не столько о смещении категорий реального и нереального, сколько об их взаимозаменяемости.
Об этом опыте фантастического и нереального пишет в своих воспоминаниях о Соловках Лихачев:
Сталкивались две эпохи: одна дореволюционная, а другая сугубо современная, – типичнейшая для двадцатых и начала тридцатых годов. Жизнь на Соловках была настолько фантастической, что терялось ощущение ее реальности. Как пелось в одной из соловецких песен: «все смешалось здесь словно страшный сон». <…> Ощущение нереальности бытия поддерживалось своеобразной атмосферой белых ночей летом и черных дней зимой, а в промежутках – длинными утрами (без ощущения дня), переходящими в столь же длинные вечера, пустынностью лесов и гибельностью болот, обилием темных камней, покрытых яркими лишайниками и мхами (ЛД 170–172).
В написанной совместно с Александром Панченко книге «Смех в Древней Руси» Лихачев использует понятие «антимир», которое охватывает ломающую привычный миропорядок опричнину при Иване Грозном в XVI веке241241
Опричниной называется учрежденный Иваном IV альтернативный режим с собственной структурой, который переворачивал существующий порядок и обладал неограниченным правом на любое насилие.
[Закрыть] и мир дураков и юродивых. Но вместе с тем антимир – понятие, как бы придуманное для мира ГУЛАГа и смыкающееся с концепцией «карнавального мира»242242
См.: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
[Закрыть], которую Лихачев, по его собственным словам, воспринимал в контексте пережитого в лагере. Тем самым Лихачев указывает на особый способ справляться с лагерными ужасами, подчеркивая смех, высмеивание как форму сопротивления:
Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920‑х и 1930‑х гг. – это стремление перенарядить «преступный и постыдный» мир лагеря в смеховой мир. <…> настоящие каэры (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках – тупость начальства и его распоряжений, фантастичность и сноподобность всей жизни на острове (мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности). Характерны для Соловков странички юмора в журнале «Соловецкие острова», сочинявшиеся по преимуществу Ю. Казарновским и Д. Шипчинским, а отчасти и «Артурычем» – Александром Артуровичем Пешковским. Анекдоты, «хохмы», остроты, шутливые обращения друг к другу, шутливые прозвища и арго, как проявление той же шутливости, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее. Настоящая жизнь ждет вас по возвращении… (ЛД 171)
Именно обращение к связи между смехом и ужасом позволяет пролить свет на эту обозначаемую при помощи термина «антимир» альтернативную действительность. В так называемых смеховых сообществах, члены которых нередко гибли во время определенных ритуалов, практиковалось шутливо-опасное выворачивание реальных условий. Заключенные, которым приходилось терпеть насмешки и жестокие шутки со стороны охраны, вовлекались в такой альтернативный мир принудительно, становясь жертвами этого допускаемого режимом «смехового сообщества». Если Иван IV со своим особым войском, опричниной, основал государство в государстве как некий mundus inversus, а Петр I со своим «всешутейшим собором» сделал возможным высмеивание действующего права243243
Об этой традиции см. гл. II («Формы пространства. Смеховые сообщества, царства лжи») книги: Шахадат Ш. Искусство жизни. Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков / Пер. с нем. А. И. Жеребина. М., 2017. С. 121–243.
[Закрыть], то здесь режим безнаказанно и с неслыханными последствиями празднует беззаконие. Этот антимир воспринимается как нереальность, как ирреальное вообще.
Особенно напоминают о бахтинских категориях карнавального описания «эксцентричных» сцен. Правда, в текстах Бахтина нет никаких указаний на знакомство с конкретной лагерной реальностью – если она и была ему знакома, то напрямую он никогда о ней не упоминал. Самого Бахтина, привлекшего к себе внимание сочинениями с религиозной подоплекой, не сослали, как Лихачева, на Соловки лишь по причине тяжелой болезни244244
Сподвижники Бахтина сделали карьеру в Ленинграде или Москве; некоторые из них пали жертвами чисток. В 1938 году был расстрелян Павел Медведев, автор «Формального метода в литературоведении». Принадлежавший, как и Медведев, к бахтинскому кружку Валентин Волошинов, автор труда «Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке», скончался в туберкулезном санатории в 1936 году.
[Закрыть]. В 1930 году его вместе с женой на четыре года выслали в Кустанай (Казахстан), а с 1936 года он преподавал в Мордовском педагогическом институте в Саранске, добровольно избрав изоляцию. В этот период он, находясь вдали от центров насилия и избежав Большого террора, пишет книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», в которой говорится о столкновении управляемого принципом насилия официального мира с миром свободным, управляемым принципом смеха, неофициальным, «карнавальным», а также расширяется концепция карнавала, которая фигурировала уже в книге Бахтина о Достоевском 1929 года. Едва ли можно предположить, что бахтинская идея карнавального мира, где господствует смех, отсылает к темной стороне мира лагерей. Ведь если осуществить такой перенос, то «карнавализация» и «смех» покажутся амбивалентными. Иначе подходит к этому вопросу российский философ Михаил Рыклин, в статье «Экстаз террора»245245
Ryklin M. Ekstasis des Terrors // Lettre international. 1992. № 19. S. 35–40.
[Закрыть] выделяющий две разновидности бахтинского смеха: «дистанцированный (амбивалентный) смех и бесконечный (космический) смех», чье действие он видит в царстве (угрожающего извне и не являющегося следствием смеха) «террора» и связывает с феноменом «коллективной телесности». Как никто другой до него, Рыклин истолковывает книгу о Рабле как терапию травмы246246
См. противоположную концепцию Бориса Гройса: Groys B. Grausamer Karneval. Michail Bachtins «ästhetische Rechtfertigung» des Stalinismus» // FAZ. 21. Juni 1989.
[Закрыть].
Описанное у Лихачева высмеивание узниками немыслимой лагерной реальности при помощи жестов, вербальных вольностей, поговорок, песен, юмора (эстетизация с функцией разрядки) в конце концов утрачивает игровой характер, сменяясь ужасом247247
Дмитрий Лихачев и Михаил Бахтин считаются самыми известными из русских литературоведов и культурологов. См. также: Эткинд. Кривое горе. С. 91–94. Рецепция работ Бахтина, за рубежом начавшаяся в 1960‑е годы, продолжается по сей день.
[Закрыть]. Режим террора в лагере-образце, породившем так называемую власть соловецкую, – одна из самых мрачных версий этого управляемого «карнавальным коллективом» антимира. Рассказы выживших дают представление о созданном чекистами сочетании ужаса с изобретательностью, которое погубило многих заключенных.
Находчивость чекистских охранников и надзирателей по части измышления пыток выглядит беспримерной. Особые выдумки нередко диктовались местными условиями. Ямы, углубления и впадины в земле, в монастырский период служившие для практических целей (хранения припасов), стали карцерами: арестантов вталкивали внутрь и оставляли на морозе. Использовался и климат: в холодное время года полностью раздетых заключенных гнали из бараков на мороз, влажным летом выставляли их, обнаженных, на съедение комарам – наказание за непокорность, нередко приводившее к смерти.
Киселев-Громов подробно рассказывает не только об этом, но и о бессмысленной муштре: совершенно обессилевших, нередко чуть не падающих заключенных заставляли перед отправкой на работу и после нее строиться рядами и шеренгами и беспрекословно исполнять повторяемые с произвольной частотой команды «налево», «направо», а также как можно громче кричать «здррра» (от «здравствуйте», формула приветствия); это «здра» требовалось многократно повторять из последних сил, пока охранники не будут удовлетворены услышанным. Больных куриной слепотой, не сумевших найти дорогу к бараку, расстреливали «за попытку к бегству»248248
Киселев-Громов Н. Лагери смерти в СССР. Шанхай, 1936. С. 84.
[Закрыть]; смертельно уставших людей, которые шатались и не могли держать строй, казнили за сопротивление государственной власти. Киселев-Громов сообщает, что две рабочие роты по очереди носили грязные и насквозь промокшие лохмотья, причем одной, раздетой до исподнего, приходилось ждать на морозе или в бараке (без одеял), пока другую, вернувшуюся с работы (на лесоповале), не заставят раздеться. Случаи «истерики» – так он называет умоисступление, в которое впадали многие заключенные, – расцениваются чекистами как «симулянство» (sic!) и сурово караются как нарушение лагерного порядка. Киселев-Громов и Мальсагов рассказывают о чекистах, чья жестокость удовлетворяла психиатрическим критериям садизма, и называют их имена.
Конец мышления (Арендт), руководствующаяся инстинктами тупость и разнузданная извращенность – вот о чем повествуют соловецкие тексты двух этих беглецов. Художественное исследование абсурда, отказ от логического мышления, превращенные русской литературой 1920‑х годов в чарующее, волнующее искусство249249
Имеется в виду литература ОБЭРИУ – объединения поэтов-авангардистов. О поэтике этой группы см.: Hansen-Löve. Über das Vorgestern ins Übermorgen. S. 395–403.
[Закрыть], на Соловках почти в то же самое время практикуются неслыханно деструктивным способом.
Ощущение карнавальности прочно ассоциируется не только с террором, но и с нереальностью, фантастическим аспектом чувства странности. Марголин, после нескольких лет работы в онежских лесах отправленный в Котлас (Архангельская область), описывает свое лагерное существование так:
С течением времени жизнь в лагере приняла черты тихого и ровного безумия, экспериментального Бедлама или фильма, накручиваемого вверх ногами в кривом зеркале (М I 258).
Чувство нереальности, фантастичности происходящего побуждает Герлинг-Грудзинского назвать этот охваченный динамикой превращения антимир (если воспользоваться выражением Лихачева) просто – «иной мир». Его автобиография «Иной мир» (Inny świat) открывается обосновывающей это название цитатой из «Записок из Мертвого дома» Достоевского:
Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные250250
Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 9.
[Закрыть].
Тургеневское сравнение Мертвого дома с Дантовым адом, с одной стороны, и часто встречающееся указание на новаторство Достоевского, изобразившего сибирский острог глазами каторжан, – с другой действительно наводят на мысль о бахтинском карнавальном мире. Ведь и Бахтин думал о карнавальном мире острога251251
Острог – название тюрьмы-крепости. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын делает его предметом ассоциативной игры с созвучными словами «острота» и «осторожность».
[Закрыть], каким он предстает в «Записках». Убедительно интерпретируемая Бахтиным сцена в бане выглядит инсценировкой некоей «раскованности в оковах»: приведенные в баню в кандалах арестанты снимают нижнее белье, с трудом вытягивая его из-под цепей; взаимное хлестание вениками, горячие клубы пара, тесно сдвинутые тела, громыхание цепей превращают баню в своеобразное карнавальное место, которое как бы ненадолго выпадает из существующего порядка.
Рассказ Достоевского об остроге всегда вызывал у заключенных ГУЛАГа те или иные реакции: с одной стороны, этот текст помогал увидеть себя вписанными в традицию страданий, с другой – дарил утешение и надежду, благотворно влияя на читателей изображением примирительных жестов и передавая непоколебимое доверие к Богу. Впрочем, из исторического прошлого проступали не только острожные декорации Семипалатинска, но и сибирская жизнь декабристов (дворян и интеллектуалов, отправленных в ссылку после неудачи восстания 1825 года): прежде всего тогда, когда вспоминали поэму Николая Некрасова «Русские женщины», где изображается судьба жен, последовавших в сибирскую ссылку за мужьями. Поэму эту не только вспоминали – ее читала наизусть Евгения Гинзбург в вагоне, увозившем ее в Сибирь вместе со множеством других женщин, которые воспринимали эти стихи как некое утешительное послание. Некрасов изображает жизнь этих поехавших вслед за мужьями женщин как успешную попытку создания своего рода культуры, открытия литературных салонов, налаживания живого интеллектуального обмена252252
О (новых) формах жизни в Сибири, возникших в результате ссылки декабристов и последовавших за ними жен, см.: Beer D. House of the Dead. Siberian Exile under the Tsars. New York, 2017.
[Закрыть]. Тот факт, что на Колыме, куда депортировали слушавших чтение поэмы, условия совершенно иные, выяснился лишь по прибытии. По духу и замыслу царская ссылка, куда отправляли политических противников, отличалась от уготованной врагам народа и врагам классовым. Но, пока их еще везли, поэма вселяла веру, в ней было нечто воодушевляющее.
Едва ли кого-то мог утешить или воодушевить чеховский «Остров Сахалин»253253
Чехов А. П. Остров Сахалин // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 14. М., 1987. С. 39–372.
[Закрыть]. Чехов рассказывает об осмотре тюрем и поселений приговоренных к принудительным работам преступников – каторжников, делится результатами опросов некоторых ссыльных, приводит, подобно начинающему социологу, статистику и указывает на ужасающие непорядки254254
По структуре и замыслу этот текст сопоставим со статьей Льва Толстого «О голоде» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 29. Произведения 1891–1894. М., 1954. С. 86–116). Толстой тоже предпринимал такого рода инспекции (в данном случае посетил области в Тульской губернии, пострадавшие от неурожая).
[Закрыть]. Врач Чехов измерил количество воздуха, приходящееся в казармах на одного заключенного, подробно изобразил немыслимую грязь, возмутительную санитарно-гигиеническую обстановку, вопиющее медицинское небрежение, неравномерно распределенный объем принудительного труда (он говорит о «норме»), широко распространенную проституцию, которой занимались последовавшие за мужьями-уголовниками жены. (Его отчет, по-видимому, способствовал смягчению некоторых злоупотреблений.) Описания природы и мест, внимательность к климатическим условиям, пересказ биографий некоторых каторжников – и вместе с тем явное выражение собственной позиции и резко критическая оценка положения дел придают чеховскому отчету повествовательно-исповедальный характер. Особенно часто этот текст цитирует Солженицын.
Еще один отчет о каторге, первый в своем роде, цитировать было невозможно, поскольку доступная публикация последовала много позже. Я имею в виду «Житие протопопа Аввакума»255255
Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963.
[Закрыть] – первую русскую автобиографию, в которой излагается впечатляющая история одной ссылки XVII века. Это первый литературный текст о (религиозно-)политически мотивированном насилии, свидетельствующий о ссылке как форме наказания. После раскола между старообрядчеством и реформированной церковью патриарха Никона в середине XVII века протопопа Аввакума, духовного предводителя старообрядцев, арестовали и вместе с семьей и слугами под строгим надзором отправили в Сибирь. О голоде, тяготах пути по труднопроходимым тропам над бушующими потоками, через горы, по бездорожью, об отсутствии крыши над головой, о беззащитности, побоях и брани, болезнях и смертях повествуется с точки зрения автобиографического рассказчика, который не скрывает ни жалоб, ни устремляемых к небу молитв. Но вместе с тем этот рассказчик от первого лица также проявляет себя внимательным наблюдателем незнакомой природы, описывая растения, животных и выражая изумление и восхищение неведомым во фразах, подобных которым Сибири никто еще не посвящал.
Конечно, старообрядцев в сибирском альтернативном мире XX века нет, зато есть сектанты и люди, чей «антигосударственный» потенциал сопоставим с раскольничьим: так называемые троцкисты, уклонисты, враги государства, враги народа.
В отличие от того чужого мира, куда попадали ссыльные XVII столетия и чей порядок, судя по рассказу Аввакума, кажется импровизированным (за неимением моделей и четких ориентиров), альтернативный мир XX века определяется двойным порядком. С одной стороны, действуют установленные управлением лагерей законы и нормы или же их интерпретация конкретными должностными лицами и осуществление охраной; с другой – действует не охватываемый ими «порядок», неизбежно возникающий в результате совместного проживания заключенных. Поскольку обиход никак не регламентирован, арестанты оказываются предоставлены милости друг друга.
Авторы рассказов – эти социологи или этнографы поневоле – рисуют подробные картины принудительной близости, прежде всего групп, образующихся на основе совпадающего «мировоззрения» (включая политические и религиозные убеждения) или общего опыта многолетних страданий. В этих описаниях нередко фигурирует внезапная конфронтация с другими, к тесному соседству с которыми принуждается заключенный, исходящая от них огромная отчужденная враждебность, бьющий в нос невыносимый запах. Люди, вынужденные разделять друг с другом уборную, трудовую норму, тесные нары, голод и холод, вырабатывают правила сосуществования, включая кровавые конфликты и суды Линча. Складываются и нормы установления контакта, например при неожиданном узнавании знакомого по другой тюрьме или другому лагерю товарища по несчастью, формулы приветствия вновь прибывших, расспросов (откуда человек родом, сколько лет и по какой статье получил, через какие этапы уже прошел), жесты, означающие наличие спального места, способы введения в лагерный распорядок. Показываются ритуалы, которые создавались ютящимися в бараках людьми, договоренности, например об обеспечении совсем неимущих солагерников, не получающих никаких посылок от близких.
К этим положительным моментам относятся и рассказы о проявлениях участия, завязавшихся отношениях, тесной дружбе, расположении, сострадании, жалости, когда ставший близким солагерник подвергается притеснениям или гибнет: о подобном неоднократно пишет Штайнер. Записки Марголина с их в целом отрицательным образом человека поражают описанием дружбы с людьми выдающимися или трогающими сердце, достойными любви.
Впечатляет и удивляет положительная оценка человеческой природы Тодоровым, который подчеркивает «добрые дела» некоторых заключенных, проявленную ими в тяжелейших условиях моральную отвагу, а также указывает на амбивалентность некоторых текстов, где самые пессимистические пассажи сочетаются с утешительными перспективами.
С одной стороны, есть граница, за которой другой человек, товарищ по несчастью, солагерник уже не рассматривается как таковой, поскольку перед лицом грозящей гибели «я» оказывается само за себя. Это Тодоров признает. Но с другой стороны – бывают случаи, когда даже эта граница теряет силу, а контакт с другим человеком, которому выпала та же участь, не прерывается и приводит к самопожертвованию. «Забота» – вот понятие, которое он здесь использует. Рассказы Бубер-Нойман о сосуществовании женщин в Равенсбрюке, о возникающих между заключенными дочерне-материнских отношениях, дружбе, которая подвергается множеству испытаний, и тесной сплоченности, возможной благодаря занятиям искусством, согласуются скорее с тодоровской идеей положительных моментов, чем с утверждением Шаламова, что совместное проживание и общее страдание заключенных были пронизаны холодным взаимным равнодушием. В трактовке Тодорова наблюдение за другим человеком может вызывать такие чувства, как сострадание, даже милосердие, и пробуждать самозабвенную готовность помочь. Бубер-Нойман говорит о притуплении восприимчивости к чужому страданию, когда собственное достигает уровня невыносимости. Именно тогда (голодные) страдания и боль вновь обрушиваются на отдельно взятого человека, который не находит облегчения в разделении этого опыта с другими страждущими. На этой стадии общность как бы распадается. Но как только в муках голода возникает малейшая асимметрия (менее голодный встречает более голодного, близкого к голодной смерти), возникает всячески подчеркиваемая Тодоровым возможность спонтанных жестов помощи: протянуть кусок хлеба, без которого можешь обойтись, и тому подобное. Бубер-Нойман неоднократно упоминает маленькие подарки в виде хлеба, которые она получает и старается делать сама, свою заботу о Милене Есенской, которая стала ее близкой подругой в лагере Равенсбрюк и чья смерть глубоко ее потрясла.
Совершенно иная позиция у Солженицына, который сетует на нехватку сплоченности и солидарности политических товарищей по несчастью, и мизантропия Шаламова тоже совсем другая: главным фактором утраты заключенными человечности он считает всеобъемлющее равнодушие.
Взаимоотношения заключенных носят ярко выраженный «предметный» характер. Ведь безусловно решающую роль в лагерной жизни играют предметы, обладание которыми жизненно необходимо. В силу этой жизненной необходимости предметы утрачивают свою предметность: это уже не объекты, а как бы часть субъекта. Их утрата в результате кражи преступниками или конфискации охраной (это могут быть обувь, портянки, рубаха, головной убор, перчатка, одеяло, ложка, миска, горбушка хлеба) влечет за собой ущерб для какой-либо части тела, в крайних случаях – потерю пальцев на руках или ногах, воспаление легких со смертельным исходом, голодание, обморожение.
Предметы одежды, кроме того, играют роль в семантическом поле «лагерь и свобода»: есть «вольная одежда» – и такая, которая обветшала настолько, что в ней не осталось и намека на свободу, а также не всегда выдаваемая казенная одежда. Последняя нередко представляла собой распределяемые между заключенными поношенные вещи умерших или освободившихся (о том, чтобы одежда подходила по размеру, не шло и речи). Предметы одежды, бывшие на человеке в момент ареста, при поступлении в лагерь тут же подвергались оценке. Броские пиджаки, пальто, шапки иностранных заключенных (французов, поляков, литовцев), сохранявшие некую изысканность, отпечаток внешнего мира, сразу становились целями грабителей. В описаниях отдельных людей отмечаются те или иные сохранившиеся на них предметы одежды, в соответствии с которыми эти люди оцениваются (происхождение, образование и т. д.). Но описываются и эксцентричные, сооруженные из подручных материалов головные уборы, самодельные и, как правило, недолговечные предметы обуви и рукавицы. Процессы изготовления, выменивания, перехода сапог или полушубков от воров к покупателям – тоже достойные рассказа сюжеты. Кража пальто, последней рубашки воспринималась как тяжкая обида. В описаниях заключенных женского пола наряду со свободой играет свою роль эстетический аспект. Взятые с собой в сумках и узлах или бывшие на теле при аресте предметы одежды часто оказывались совершенно неподходящими для изменившихся климатических условий. (В каталоге «ГУЛАГ»256256
GULAG / Hg. Knigge, Scherbakowa. S. 30.
[Закрыть] приводится изображение летнего платья, которое на протяжении целого года носилось в трех тюрьмах.) Согласно многочисленным сообщениям, уголовницы заставляли входивших в камеру раздеваться или срывали с них одежду и белье, взамен бросая лохмотья.
Торговля предметами определяет ту часть повседневной жизни, которая направлена на выживание, и стимулирует активность тех, чьи творческие способности носят организаторский характер. Изображаемая как нечто наподобие ампутации утрата личных вещей (фотографий, семейных писем, памятных вещиц), символизирующих оставленную жизнь, может привести к серьезному психическому расстройству. Марголин пишет о своей реакции, когда у него отбирают единственную фотографию сына:
…вошел в палату уполномоченный и увидел издалека, что я что-то пишу. Это было вечером, тусклая электрическая лампочка горела против моей койки, и я не заметил недоброго гостя. Он подошел ко мне, отобрал письмо, произвел обыск в моей тумбочке и нашел неизменные «Вопросы Ленинизма» Сталина. Внутри лежала фотография сына – единственное, что у меня еще осталось от прошлой жизни. Он забрал и фотографию.
В другое время я бы очень огорчился. Но теперь ничто не могло меня омрачить и вывести из состояния блаженного счастья.
Слава Богу, я был инвалидом! (М I 309)
Однако помимо торговли, искусства выживания и вездесущего непосильного труда упоминаются и занятия, приносящие облегчение, например чтение. На начальных этапах интернирования существовал доступ к художественной литературе, которую предоставляла тюремная библиотека. В лагере любители чтения зависели от наличия так называемого дома культуры, где иногда находилась скромная библиотека. Прежде чем попасть в исправительно-трудовой лагерь, Гинзбург содержалась в ярославской тюрьме, где могла, к своему удивлению, пользоваться библиотекой. Вместе с сокамерницей и подругой (впоследствии важной фигурой в ее дальнейшей лагерно-ссыльной жизни) они читают «Воскресение» Толстого, Некрасова, Пастернака, Достоевского и Тютчева. Марголин, который вместе с другим заключенным, Максиком (Максом Альбертовичем), читает английские книги, таким способом обучая того языку, причисляет эти совместные с лагерным другом занятия к факторам своего выживания.
Еще одну сторону «инаковости» лагеря составляет тот факт, что минутное утешение сменяется некоей умственной дезориентацией. Авторы некоторых текстов вспоминают о состоянии полного распада, утраты самовосприятия. Марголин пишет:
Один из симптомов алиментарной дистрофии есть ослабление памяти и умственных способностей до степени слабоумия. Я забыл адреса своих самых близких друзей. Я забыл имена своих любимых писателей, названия диалогов Платона. Через некоторое время оказалось, что я не в состоянии написать ни одной бумаги без ошибок <…> (М I 299).
В период слабости, чувствуя себя стоящим у края бездны, в попытке «восстановить нормальное самоощущение» он вспоминает Аристотелеву теорию катарсиса и приступает к своеобразному самолечению:
Способность и потребность логической мысли вернулась ко мне. Часами я лежал без движения, упорно размышляя. Потом я записывал – не ход мысли, а только последние выводы и формулы. Таким образом, в течение 11 дней была написана небольшая, но очень важная для меня в тогдашнем состоянии работа: «Теория лжи». <…> Логическая и психологическая природа лжи, ее культурно-историческое проявление были моей темой на исходе зимы 1942 года (М I 207–208).
Свое занятие он оценивает как «спокойно[е] и бесстрастно[е] исследовани[е]».
Я испытывал глубокое и чистое наслаждение от самого процесса мысли, и от сознания, что это была внелагерная, нормальная, свободная мысль, вопреки условиям, в которых я находился, вопреки колючей проволоке и страже. Это было «чистое искусство» (М II).
В условиях лагеря лишь немногим удается раздобыть письменные принадлежности и бумагу для записей. Находившийся между гибелью и выживанием Марголин сумел добиться возможности писать. Письмо выступало стратегией выживания257257
См. статью Франциски Тун-Хоэнштейн, где Шаламов, Солженицын и Семпрун представлены как писатели, следующие той или иной стратегии выживания: Thun-Hohenstein F. Bleistift und Schreibmaschine. Schreibszenen in der russischen Lagerliteratur // Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen / Hg. D. Giuriato, M. Stingelin, S. Zanetti. München, 2005. S. 279–299.
[Закрыть].
Утрата себя и возвращение к себе при помощи воспоминаний о Данте служат темой одной из глав книги Примо Леви «Канувшие и спасенные» – «Интеллектуалов в Освенциме»:
На самом деле, тогда и там они дорогого стоили, потому что позволяли мне восстановить связь с прошлым, спасти его от забвения, утвердить свою идентичность. Они убеждали меня, что мой мозг, хотя и сосредоточен на насущных проблемах, не перестал функционировать. <…> одним словом, помогли вновь обрести себя (Л III 116).
Случайно попавшие в руки прозаические тексты или воспоминания о романах, чья содержательная структура допускает сравнения или даже возможность отождествления, могут становиться образцами, позволяя встраивать собственный неповторимый опыт в существующий претекст. Евгения Гинзбург, описывая людей и ситуации, обращается к персонажам и сценам из русской комедии XIX века. Ассоциации с уже описанным и изложенным помогают выразить личный опыт. Сравнение с известными литературными персонажами как бы предоставляет контроль над невыносимыми солагерниками или охранниками, «олитературивание» помогает терпеть их. Легче представлять себя в комедии, чем в трудовом лагере, занимать место скорее зрителя и наблюдателя, чем жертвы. Но можно и следить за той или иной комедией в лагерном театре, где целенаправленное, постановочное превращение способно противодействовать вынужденному. Как упоминалось выше, уже на раннем этапе существования Соловецких лагерей там давались театральные представления. Режим тех лагерей ГУЛАГа, которые возникли позднее, тоже явно не только допускал, но и поощрял (не в последнюю очередь для развлечения лагерного начальства) устраиваемые арестантами спектакли, где играли они сами, и киносеансы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































