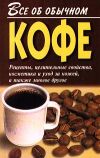Автор книги: Ричард Мейби
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
8. От рабочей лошадки к Зеленому человеку. Дуб
При поисках кандидата на роль Древа жизни к дубам не обращались. Слишком уж они обыденны, приземленны, бескомпромиссно-деревянны. Они не претендуют ни на симметрию, ни на элегантную стройность и строят свою судьбу благодаря упрямству и не всегда симпатичным чудачествам. Латинское название этого рода – Quercus – скорее всего, однокоренное с английским словом “quirky” – «диковинный», но диковинными их, пожалуй, и не назовешь.
По всему северному полушарию рассеяно от 400 до 600 видов дубов – от Колумбии до северо-востока Китая. То, что оценки так разнятся, вызвано не только бесконечными спорами сторонников разных классификаций (причем достижения молекулярной биологии лишь подливают масла в огонь), но еще и характерными чертами рода Quercus. Дуб – оппортунист, он изменчив, легко образует гибриды и сугубо местные разновидности. В Северной Америке растут величественные белые дубы, а в Юго-Восточной Азии – низенькие вечнозеленые сизые дубы. В национальном парке Нью-Форест растет разновидность дуба черешчатого, листва на котором, блеклая и недолговечная, появляется дважды в год – под Рождество и весной. Род Quercus постоянно опровергает представления, сложившиеся в культуре и ботанике. Как бы британцы ни верили в свои особые отношения с этим деревом и в то, что у их народа «сердце из дуба», как поется в официальном гимне Военно-морского флота Великобритании, на самом деле родина дуба – Мексика, где насчитывается 160 видов дуба, из которых 109 больше нигде не растут.
Яркий пример изворотливости этого рода – средиземноморский дуб хермесовый, Q. coccifera, и сейчас, спустя сорок лет после знакомства с этим видом, я так и не разобрался, какой именно экземпляр поразил меня больше всего. Это не дерево, а настоящий гений пантомимы, способный притвориться практически любым другим деревом, принять любую мыслимую форму в зависимости от обстоятельств. В одной провансальской гарриге я видел его в виде карликового шипастого куста – скот общипал его до десяти сантиметров в высоту, но на нем по-прежнему росли желуди, а на плато Лассити на Крите обнаружил статное дерево в двадцать метров высотой и три метра в обхвате. Вероятно, способность представителей этого вида занимать любое место между этими двумя крайностями – это пример резервной эпигенетической адаптации: разные обличья включаются и выключаются в зависимости от среды. Q. coccifera – дерево, которое невозможно убить, ему не страшны ни вырубка, ни пожар, ни овцы, ни отсутствие солнечного света. Оно отрастает заново из любого пенька и корешка, и чем сильнее его объедают травоядные животные, тем больше защитных шипов будет на новых листьях. Если же дубок не слишком сильно общипывают, он при регенерации принимает форму античной колонны – пусть и несколько пострадавшей от времени, но гордой и прямой. Ветви у основания разрастаются в разные стороны, чтобы животные не могли добраться до приствольных побегов, и тогда они растут вверх, так что дуб умудряется «сбежать» от травоядных. Иногда в результате получается взрослое дерево с низко растущими сучьями, и тогда ловкие козы забираются на него и добираются по деревянной оснастке до листвы – и щиплют ее, будто с земли. Поразительное зрелище – дерево, увешанное животными, словно плодами, с пучками побегов, общипанных донага, которые вертикально отходят от основных горизонтальных сучьев. Эколог-историк Оливер Рэкхем называет это «козьими шпалерами»[43]43
Oliver Rackham and A. T. Grove, “The Nature of Mediterranean Europe: An Ecological History”, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001.
[Закрыть].
Особыми рекордами дубы похвастаться не могут. Они не занимают верхние места в списках самых старых, самых высоких, самых сильных и самых массивных деревьев-чемпионов. Однако, где бы ни поселились северные народы, всегда находился вид-другой дубов – и их общая образцовая древесность делала их столпами местных культур. На протяжении всей эпохи неолита дуб обеспечивал жизненно важное сырье – его древесина шла и на топливо, и на рукоятки для топоров, и на каркасы для жилищ. Североевропейские дубы Q. robur и Q. petraea можно очень аккуратно расщеплять даже каменными топорами, а плоские дубовые доски будоражат воображение в мире, где главенствуют природные изгибы, и ими вымощены самые ранние дошедшие до нас европейские дороги. Дорога Свит-Трек, которая пересекает болота английского графства Сомерсет, представляет собой дубовый настил на подложке из ясеня, липы, вяза, ольхи и дубовых шестов, которые почти наверняка вырастили в культивируемых рощах. В дощечках сделаны пазы, чтобы из них можно было собрать единую конструкцию. Дерево сохранилось так хорошо, что благодаря современным достижениям в датировке деревьев по годичным кольцам удалось точно установить, когда деревья были повалены: это произошло в 3807–3806 годах до н. э.
Главными достоинствами северных дубов были доступность и прочность. В краю, где очень ценились долговечность и устойчивость к погодным условиям, из дубовой древесины можно было построить практически все что угодно. Она шла и на боевые корабли викингов, и на христианские церкви. В деревне Аллувиль-Бельфосс на севере Франции есть тысячелетнее дерево под названием Дуб-часовня. В его полом стволе расположены две вполне действующие часовни, построенные в 1669 году, и там до сих пор дважды в год служат мессу. Нетипичное для дуба превращение в святилище произошло потому, что в ствол ударила молния, и он выгорел. Местное духовенство заявило, что это было знамение свыше, поэтому дупло предназначено для богослужений. В годы Французской революции дерево стало символом старого режима и тирании церковников, поэтому толпа хотела было сжечь его дотла. Однако один местный житель, похоже, почувствовал, что дуб – это дерево-приспособленец, и переименовал строение в Храм Разума. На время часовня превратилась в символ нового демократического мышления, и ее пощадили.
Другое чудо церковной архитектуры и самая знаменитая в истории деревянная крыша – это крыша Вестминстер-Холла, 600 тонн древесины, образующие свод шириной в 23 метра, который держится без центральной опоры. Это пример парадоксального (и неизбежного) обращения с деревом, когда плотники, расчленив большое количество деревьев, создают из них, в сущности, сверхдерево, упорядоченную структуру из ствола и ветвей, которая не сможет существовать, если не повторит структуру своего источника. Вот как пишет об этом Уильям Брайант Логан, один из современных биографов дуба:
Каждый элемент стропильной структуры – треугольное или шатровое соединение стропил – это сила, ставшая зримой. Гравитация стекает по стропилам и вдавливает в землю стены, на которую опирается крыша. Стропильная нога упруго сопротивляется этой силе, соединяет два напряженных элемента. Над стропильной ногой плотник ставит ригель – такую же стропильную ногу, только выше и короче, – чтобы отчасти отвести гравитационную тягу. Под ригелем ставится либо распорка, либо пара выгнутых скоб, чтобы силы стекали вниз, к середине стропильной ноги. Под стропильной ногой ставятся другие изогнутые скобы, ведущие к нижним частям стен, и по ним силы стекают в землю[44]44
William Bryant Logan, “Oak: The Frame of Civilization”, New York, London: W. W. Norton, 2005.
[Закрыть].
Однако в Соборе Или, в «Корабле на болотах», чей парящий, лабиринтоподобный интерьер напоминает резное подобие дубовой рощи, особенности дерева одержали верх над устремлениями зодчего. Внутренняя деревянная башня покоится на шестнадцати стойках – первоначально предполагалось, что они будут по двенадцать метров в длину и более одной десятой квадратного метра в сечении, однако, как замечает Рэкхем, «Хотя деревья собирали по всей Англии, плотнику, очевидно, пришлось довольствоваться стволами, не вполне отвечавшими этим условиям»[45]45
Rackham, “Trees and Woodlands”, op. cit.
[Закрыть]. Стойки сильно сужаются кверху, где у деревьев были кроны, и в шести случаях замысел зодчего пришлось изменить, чтобы использовать деревья, которым не хватило высоты, чтобы достать до великолепной восьмиугольной осветительной башни на крыше.
Дуб стал символом британской нации не только из-за его бросающейся в глаза силы и прочности. Если жители Северной Америки видели символ первопроходческого духа своей страны и нетронутый райский пейзаж в парящих кронах исполинских секвой, для британцев это был крепкий коренастый дуб, свидетель истории Старого Света, такой же задиристый и, разумеется, такой же приземленный, как они. После того как Дэвид Гаррик опубликовал свою патриотическую матросскую песню «И суда наши прочны, как дуб, и сердца наши прочны, как дуб», историк флота Джон Чарнок пустил в обращение дерзкую националистическую идею, что дубовая древесина, подходящая для кораблей, вдохновлявших британскую нацию, могла произрасти лишь на британской почве:
Удивительно и тем не менее общеизвестно, что дубы других стран, пусть и лежащих в точности на тех же широтах, что и Британия, раз за разом оказываются не такими подходящими, чем дубы последней, как будто сама Природа – если можно позволить себе столь романтическую мысль – запретила порочить национальный характер британского корабля, создавая его из материалов, взятых за пределами Британии…[46]46
John Charnock, “A History of Marine Architecture”, 3 vols, London: R. Faulder, 1800–1802.
[Закрыть]
Разнообразие форм дубового дерева отражено и в том, как изобретательно и экономно применяют различные его части. Кора, богатая танином, применяется для дубления шкур в кожевенном производстве. Галлы на листьях, которые возникают из-за личинок насекомых, служили сырьем для очень темных чернил, которыми рисовал Леонардо да Винчи. Желудь (по-гречески balanos) в классической скульптуре служил фаллическим символом, и современная медицина ответила на этот комплимент, назвав воспаление головки пениса баланитом. В Испании вечнозеленые дубы – оплот всего сельского хозяйства. С пробковых дубов Quercus suber каждые девять лет обдирают кору. Желудями кормят местных свиней. Ветки, как и с соседних Q. Ilex – каменных дубов, срубают, чтобы увеличить урожай желудей, и делают из них уголь, который идет на рынок барбекю. Жареные желуди обоих видов такие сладкие, что служат в Иберии популярной закуской в барах и называются bellotas. Желуди одной разновидности дуба острейшего, которая растет в Юго-Восточной Азии, до сих пор продаются как источник крахмала. Современные британцы никогда бы не подумали, что очень горькие желуди их дубов имеют какую-то коммерческую ценность, если бы в трудные времена Второй мировой войны министерство пищевой промышленности не предложило делать из них эрзац-кофе. Их приходилось дробить, жарить, молоть и снова жарить. Получившийся напиток был горьким, не содержал кофеина и не давал ничего ни языку, ни сердцу осажденной нации. (Тут на помощь подоспело другое местное растение: министерство пищевой промышленности порекомендовало перейти на жареный корень цикория.)
Большой любитель дубов – кверкофил – Уильям Брайант Логан не уставал поражаться широкому применению желудей в питании человека. В 2004 году, когда он собирал материалы для своей книги “Oak: The Frame of Civilisation” («Дуб: каркас цивилизации»), к нему в руки попала карта «Мировое распределение дубов». К своему изумлению, он обнаружил, по его собственным словам, что «распределение дубовых деревьев совпадает с территориями оседлых цивилизаций Азии, Европы и Северной Америки». Скажем, обычай употреблять в пищу желуди дуба острейшего, распространенный в Японии и Корее, отражен и по другую сторону Тихого океана, где желуди белого и каменного дуба служили североамериканским индейцам основным источником углеводов. Впрочем, удивляться здесь нечему. Большинство людей лучше всего чувствуют себя в тех же климатических условиях и в той же среде, что и большинство видов дубов. Однако обнаруженное совпадение произвело на Логана такое сильное впечатление, что он разработал принципиально новую теорию происхождения цивилизации. Логан отказался от общепринятого представления, что собиратели-охотники и первые скотоводы постепенно перешли к культивированию злаков благодаря знакомству с дикими травами, которыми питались их полудикие стада. Он утверждает, что была и промежуточная стадия, когда единственным прототипом централизованного сельского хозяйства во всем мире стали желуди, которые община собирала и запасала на зиму. Ареалы распространения дубов «совпали» с человеческими поселениями не случайно и не потому, что людям и дубам нравилась одинаковая среда обитания, а потому, что люди преднамеренно селились там, где росли дубы, в поисках пропитания (см. рис. 12 на цветной вклейке).
Едва ли среди археологов найдутся те, кто станет оспаривать идею, что поздние собиратели-охотники делали запасы орехов и плодов и, вероятно, сами не заметили, как начали их культивировать, поскольку выброшенные косточки и зерна прорастали в окрестностях поселений. Однако диапазон основных съедобных растений, даже тех, которые обеспечивали углеводы, отнюдь не ограничивался желудями: все зависело от места, климата и времени года. В Средней Азии предпочитали яблоки и грецкие орехи, в Средиземноморье – сладкие каштаны и оливки, в Северной Европе – лещину, в отдельных регионах Северной Америки – пыльцу рогоза. Подобно всем очень смелым теориям, Великая Идея Логана требует усилий воображения, целой череды «эврик» и тщательного отбора данных – а конечный результат, как ни парадоксально, приводит к недооценке изобретательности древних людей и разнообразия пищи, которую дает нам царство деревьев.
* * *
Огромный дуб в конце нашего сада в Норфолке – нечто вроде коды, аккорд лесного контрапункта, который ясно говорит: всё, это конец культурного земледелия. Крона дуба раскинулась на двадцать два метра – целый купол из корявых, выгнутых ребер цвета водорослей. Когда стоишь в его водянистой тени, чувствуешь себя словно внутри скелета выброшенного на берег кита-великана. В пене его трепещущих листьев мигом теряются и неясыти, и стайки дроздов, и восходящая луна, и фраза, над которой я как раз раздумывал, когда подошел взглянуть на него. Прошло уже очень много времени с тех пор, как я в последний раз взял себя в руки и обмерил его ствол рулеткой – столь приземленные процедуры для него чуть ли не оскорбительны. Чуть больше двух с половиной метров – а значит, вероятно, дубу не более ста лет. Это несколько поубавило ему величия, и впервые за десять лет, которые я прожил рядом с ним, я взглянул на него исключительно как на структуру. Для меня было некоторым потрясением понять, что в моем романтическом лабиринте ветвей прослеживаются несомненные геометрические закономерности. Обходя вокруг ствола, я заметил, что основные боковые сучья (первый, самый большой, тянется на юг в трех метрах над землей) расположены перпендикулярно друг к другу и отходят от ствола вверх под углом приблизительно в сорок пять градусов. На некотором расстоянии от ствола каждое из этих наклонных ребер дает вторичные ветви – и они расходятся в стороны и вниз под углом в сорок пять градусов. Эта закономерность повторяется и на ветках дальнейших порядков – направление под сорок пять градусов по очереди то вверх, то вниз. Даже жилки на листьях и те расположены под тем же углом к центральной оси.
На одной ветке-системе я насчитал девять почти одинаковых углов-развилок между самой веткой и кончиком листа. Похоже, из всех норфолкских дубов мне досталось дерево, придуманное самим Пифагором.
Будь у меня больше склонности к исследованиям и больше соответствующих навыков, будь я способен различить, что таится под перепутаницей плюща и ежевики, я бы, несомненно, обнаружил и другие признаки таинственного порядка в этом типичном примере анархического роста[47]47
О формах и закономерностях роста деревьев см. Philip Ball, “The Self-made Tapestry: Pattern Formation in Nature”, Oxford: Oxford University Press, 1999; D’Arcy Wentworth Thompson, “On Growth and Form”, Cambridge: Cambridge University Press, 1961.
[Закрыть]. Вероятно, я заметил бы, что число основных сучьев соответствует числам Фибоначчи, а значит, и Золотому сечению – пять на нижнем уровне, три на среднем, два наверху. Эту пропорцию в природе находят повсеместно: и в спиралях торнадо, и в разрастаниях сверкающих кристаллов, и, конечно, в мире органики. Дарвиновская эволюция здесь ни при чем: похоже, это какое-то имманентное свойство самоорганизующихся систем. А иные закономерности объясняются законами физики и механики. Об одной из них писал Леонардо да Винчи – он полагал, что вывел формулу, справедливую для устройства всех деревьев: «У любого дерева сумма толщины всех ветвей на данной высоте равна толщине ствола». Эта закономерность обеспечивает способность ветвей переносить весь сок из ствола. В конце XIX века биолог Вильгельм Ру внес в эту формулу некоторые поправки: если центральный ствол или стебель разветвляется на две ветви равной толщины, они отходят от первоначального ствола под одинаковым углом, а боковые ветви, которые так малы, что не могут вызвать заметного отклонения центрального ствола от прямой линии, расходятся под углами в 70–90 градусов. В двадцатые годы прошлого века физиолог Сесил Мюррей попытался это объяснить, предположив, что к движению сока применимы те же законы, что и к кровообращению. В то время он изучал артериальные системы животных и видел аналогии между ними и структурой сосудов, по которым течет вода у деревьев. Энергия, требуемая, чтобы доставить кровь в определенную точку по артериальному ответвлению, минимизируется, если тонкие отростки расходятся под большими углами, а толстые – тоже под большими или по крайней мере под равными. Поскольку вода и сок переносятся в деревьях примерно так же, пожалуй, принцип минимальных усилий можно применить и здесь. Казалось бы, логично, и в некоторых частях некоторых деревьев так, возможно, и происходит. Однако аргументация по аналогии, как это часто бывает, лишь ввела ученых в заблуждение. В 2011 году французский физик Кристоф Элой заподозрил, что существует и другое объяснение[48]48
О Кристофе Элое и о фракталах при росте растений см. Will Benson, “Kingdom of Plants: A Journey through Their Evolution”, London: Collins, 2012.
[Закрыть]. Он построил компьютерные модели деревьев с разными структурами и изучил их поведение под воздействием виртуальных ветров – и обнаружил, что формула Леонардо сама по себе точна, только деревья следуют ей не столько для обеспечения экономичного течения соков, сколько для ветроустойчивости. Структуры деревьев следуют «аксиоме равномерных нагрузок». Нагрузки должны равномерно распределяться по всей структуре, иначе возникнут слабые места. Уклон ствола уравновешен противовесом сука на противоположной стороне, а сук поддерживается толстыми мускулистыми волокнами тяговой древесины в месте примыкания к стволу.
Что касается закономерностей ответвлений, когда угол между стволом и суком повторяют и отходящие побеги, и прожилки на листе, и даже расхождение водоносных сосудов, то это явление называется фрактальностью. Структурные закономерности, повторяемые на уменьшающихся масштабах, широко распространены в природе – от речных дельт до снежинок, – и похоже, что это опять же самоорганизация согласно законам математики и механики. А если речь идет о растениях, то фрактальность подкрепляется еще и биологической экономией. Количество генов, которое необходимо для программирования роста растения вокруг единой структуры, повторяемой на разных масштабах, меньше, чем для создания множества непохожих друг на друга структур.
Однако в реальном мире структуры лишь приблизительно следуют идеальной модели, примерно повторяют закономерности. Живые растения подвержены неисчислимым непредсказуемым нагрузкам. Их гнет ветер, одолевают трутовики, заслоняют от света соседи. Жизненные реалии сводят на нет все чистейшие платонические интенции: чтобы жить, надо выживать, а не добиваться идеальной формы. А значит, скрытые закономерности помогают выжить, иначе они не выдержали бы испытаний эволюции. Так и происходит – именно поэтому они представляют собой лишь гибкую основу, а не жесткое лекало. Похоже, и нам так больше нравится. Если дерево ветвится по строгим геометрическим законам, если фракталы его ветвей идеальны, словно у снежинки, и все листья совершенно одинаковы, мы засомневаемся, живое ли оно. Анни Диллард в своей книге “Pilgrim at Tinker Creek” («Паломница на Тинкер-крик»), вышедшей в 1974 году, называет растения «обтрепанными и обкусанными», и такова плата за существование. Это одно из качеств, благодаря которым мы так привязаны к старым деревьям. Они покрыты древесными эквивалентами морщинок на лице. Иногда эти морщинки добавляем мы сами.
* * *
В графстве Норфолк, где я живу, произрастает три знаменитых дуба, на примере которых видно, как на форму живого дерева влияет взаимодействие между естественным ростом и человеческой образностью и как живые деревья, в свою очередь, определяют форму воображаемых. Так называемый Дуб Кеттов стоит у дороги между Виндемом и Норичем. Полагают, что здесь в 1549 году фермер Уильям Кетт с братом собрали свой отряд разгневанных местных крестьян, и отсюда они пошли на город Норич и ненадолго заняли его в знак протеста против огораживания общинных земель. Тому дубу, который стоял здесь в те годы, должно было быть уже лет шестьсот, – это было бы огромное толстое дерево свыше десяти метров в обхвате. Однако сегодня у шоссе B1172 стоит дерево куда более скромное, окруженное оградой (в отличие от Фортингэльского тиса – низенькой) и в обхвате в четыре раза меньше. Верхняя часть ствола резко отклоняется от вертикали и подперта деревянной стойкой. Короткий основной ствол – от земли до того места, где начинается уклон, всего два с половиной метра – частично расколот и стянут металлическими обручами. По-моему, это никак не может быть первоначальный дуб, хотя, вероятно, нынешнее дерево выросло из пня, когда исторический дуб рухнул или был повален преднамеренно (все-таки это был крайне политический дуб). Мне больше по душе эта версия о регенерации. Дерево стоит чуть в стороне от суеты современного мира с его оживленным дорожным движением (хотя шоссе B1172 – отнюдь не магистраль), вид у него потрепанный, а местные власти окружили его трогательной заботой – и в целом получился ясный, мощный символ того ничем не примечательного мятежа, память о котором и увековечивает этот дуб. С памятью о Кетте был связан и другой дуб – он растет в Маусхолд-Хит к северо-востоку от Норича, где стояла пятнадцатитысячная армия повстанцев. Дуба Реформации больше нет, однако, согласно легенде, он подпирал просторную палатку, в которой Кетт с помощниками планировали свои действия, точь-в-точь Александр Македонский во время великого похода.
Картина «Поринглендский дуб» – одно из самых известных произведений норфолкского художника Джона Крома, принадлежавшего к Норичской школе, чьи члены опередили Констебля в своем сопротивлении классицизму и стремились рисовать натуралистичные пейзажи и простых людей труда (см. рис. 13 на цветной вклейке). Композиционный центр картины, написанной в 1818 году, – юный, прямой дуб с негустой кроной. Дерево растет у пруда, в котором то ли купаются, то ли просто плещутся четыре деревенских мальчика. Они полураздеты и обращены к зрителю спиной, что создает ощущение непринужденности сельской жизни. Живо ли дерево до сих пор, неясно. У одного пруда в Порингленде (теперь это крупный поселок к югу от Норича) растет дуб, который вполне мог бы быть тем самым деревом с картины Крома, постаревшим лет на двести, и местные жители горячо настаивают, что так и есть. Местность вокруг пруда застроена, дерево растет в саду современной Свободной церкви размером с бунгало и с кафе при ней – слабые отголоски популизма Крома. Когда я увидел это дерево, меня поразило, как оно отличается от Дуба Кеттов. Дуб стоит по-прежнему прямо, как и на картине Крома, и так строен и изящен, что издалека мог бы сойти за березу. Его очертания достойны пейзажного парка или питомника – идеальный образ дерева. Дубы Кеттов и Крома независимо от их подлинности и происхождения отражают два культурных типажа – дуб-трудяга представителей общин и дуб пасторальный, идиллический.
Третий дуб-символ Норфолка находится на потолке галереи Норичского кафедрального собора. Он растет из лица Зеленого человека – с тонкими чертами и длинными волосами. Строго говоря, это не дуб, а четыре дубовых листа. Однако на вид они похожи на отдельные деревья. Черешки у них пропорционально такие же толстые, как стволы, а края сборчатые и покрыты позолотой, будто крона дерева, уже тронутая вездесущим великолепием осени. Это дуб мифотворческий. В галерее еще восемь видов голов с листьями, но не все с дубовыми. Один персонаж с лицом жиголо украшен пучками позолоченных листьев боярышника. Другой – дьявольски-лукавый, с бровями буквой V, будто усики у жука, и венок из листьев непонятной породы исходит у него из углов рта, по обе стороны от дразнящегося языка, – это, пожалуй, самый знакомый нам формат Зеленого человека. Украшенная листьями голова – мотив разнообразный и вездесущий, и споры о его значении или значениях ведутся вот уже более тысячи лет. Как правило, это человеческая голова либо в венце, либо в головном уборе из листьев, либо листья растут из нее – из ушей, ноздрей и рта. А может быть, листья, наоборот, врастают в нее. Две точки зрения в соответствии с двумя разными предлогами показывают, насколько Зеленый человек открыт для самых разных толкований. То ли символ дьявола, то ли эмблема смерти и новой жизни, знак единства человека и природы – или просто полюбившийся мотив длинного цикла карикатур.
Самые древние версии датируются переходом от доисторической эры к исторической. Кельтского бога Кернунна изображали с листьями вместо волос на голове. Из голов VI века на византийских капителях расходятся листья аканфа. В христианском контексте мотив впервые появился на гробнице Св. Абры (ныне хранится в Пуатье) и датируется IV–V веками. Современные Зеленые люди, дубовые донельзя, продаются в виде гипсовых слепков для украшения интерьера и вносят свой вклад в атмосферу старой доброй Англии вместе с бутылками из-под эля и фотографиями с крикетных матчей. Однако классические Зеленые люди сильнее всего сконцентрированы в церквах Северной Европы, построенных с X по XVII век, и, несомненно, если и не имеют какого-то определенного смысла, то в любом случае обладают богословским статусом.
Обычно интерпретации значения Зеленого человека бывают либо аскетическими, либо праздничными. В своем классическом труде “The Green Man” («Зеленый человек»), который вышел в 1974 году, Кэтлин Басфорд становится на сторону тех, кто ищет в этом образе нравоучения, и рассматривает украшенные листвой головы в основном как предостережения о соблазнах материального мира. Эту символическую линию исследовательница возводит к влиятельному теологу восьмого века Рабану Мавру, для которого «листья были символом плотских грехов или безнравственных сластолюбцев, осужденных на вечные муки». Листья изображали исходящие изо рта дурные слова и попадающие в душу через глаза непристойные зрелища. Напротив, “Green Man” («Зеленый человек») Уильяма Андерсона (1990), книга пантеистическая, глубокая и многогранная, относится к этому образу с большой симпатией. С точки зрения Андерсона, эта фигура – универсальный символ (подзаголовок книги гласит: «Архетип нашего единства с Землей»). Ученый прослеживает внешние перемены в стиле изображения этих голов с течением времени и в ходе изменений физической структуры Церкви. Самые ранние, похоже, больше всего напоминают сатану. Лица дышат неуемной яростью. Рты открыты, зубы оскалены, языки высунуты. В эпоху Возрождения лица становятся мягче и приобретают правдоподобные черты реальных людей. Растительность уже не торчит из естественных отверстий, а скорее обрамляет лицо. В церковных зданиях эти изображения занимают самые разные места. Андерсон предполагает, что если они расположены на клиросе, то листья символизируют Слово, произносимое при пении гимна или литании. А над вратами, в которые входят живые и выходят мертвые, они могут служить memento mori, напоминанием, что «всякая плоть – трава».
Однако буйное разнообразие форм и изобретательность при выборе места не укладываются ни в какие шаблоны. Зеленых людей находят и высоко-высоко, среди горгулий, и спрятанными под скамьями на клиросе. Очевидно, что на них влияет и воображение каждого резчика, и его личное чувство юмора или благочестие. Среди Зеленых людей встречаются и карикатуры на деревенских стариков, и жуткие предвестия вечного проклятия, и остроумные зрительные каламбуры. Один из самых красивых Зеленых людей в Англии – резное лицо из церкви в деревне Саттон Бенджер в Уилтшире. На нем застыла мина терпеливой обреченности, а изо рта исходят побеги боярышника, в которых вовсю лакомятся ягодами два дрозда. В деревне Бром в графстве Саффолк есть древняя церковь, которую капитально перестроили в викторианскую эпоху, и там каменщик вырезал незаурядное, хотя и несколько слишком мягкое лицо, украшенное листвой, а рядом – изящный букетик дубовых листьев, в котором просветы между волнистыми краями напоминают прорези для глаз в карнавальной маске.

«Зеленый человек из Бамберга» – уникальное лицо-лист.
Бамбергский собор, Германия, XIII в.
Фото Bildarchiv Monheim/akg-images
Я видел много Зеленых людей по всей Европе и думаю, что с течением лет они превратились в универсальный элемент дизайна, своего рода логотип, наделенный вечным обаянием химеры и непреодолимо притягательный для резчиков. Многие Зеленые люди, несомненно, наделялись духовным или религиозным смыслом, однако, подозреваю, по большей части их создавали в шутку, ради украшения или просто потому, что для них находилось подходящее место в церкви. В некоторых случаях они служили чем-то вроде кашпо, из которого каменные побеги с листьями разбегались гирляндами по всем стенам.
Милях в сорока (то есть в шестидесяти километрах) от Норича стоит Собор Св. Марии в Или, украшенный листьями, интерьер которого – один из красивейших в Англии. Во время Реформации многие изображения Девы Марии на колоннах были сбиты или обезглавлены, однако Зеленые люди и их листва, символизирующая грех, остались нетронутыми. На его сводчатом потолке сохранилось внушительное собрание поистине дьявольских глумливых лиц (в том числе – уникальная маска лисицы, украшенная листьями), а на одной из колонн – голова, больше похожая на деревенского дурачка, чем на Нечистого. Высунутый язык переходит в стебель, который вьется по стене часовни, в изобилии пуская листья, почки, плоды и усики. Складывается впечатление, что воображение резчиков следовало за ростом побега – перефразируя известное высказывание Пауля Клее о рисовании, можно сказать, что они «вывели растение на прогулку». Скромная табличка на стене гласит: «Многое в этом здании было разрушено, что напоминает нам о бренности нашего мира». Однако же богатая резьба, напротив, прославляет нетленную взаимосвязь всего живого. Рядом с часовней все покрыто реалистичными резными листьями и цветами – узнаешь не только дуб, но и клен, землянику, лютики, боярышник, и все это сходится к гирляндам, которые поднимаются к дубовым нервюрам вокруг восьмиугольной световой башни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?