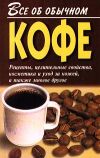Автор книги: Ричард Мейби
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
* * *
Параллели между готической архитектурой и структурой крон и стволов вполне очевидны – и они заинтересовали Джона Рескина, исследователя архитектуры и искусства, жившего в XIX веке. Отношение к листве у него было противоречивое. Ему претила идея фотосинтеза – получается, мы относимся к листьям, по его словам, как к «газовым счетчикам»; на первый взгляд представляется, что это вполне согласуется с его отвращением к идее, что структура цветка служит скорее удобству насекомых, чем эстетическому чувству людей. Законодатель викторианских вкусов считал красоту природы благословлением Божиим: имеющий глаза да увидит. Однако в части V труда Рескина “Modern Painters” («Современные художники») «О красоте листа» содержатся примечательные пассажи о росте листвы, посвященные нуждам самого растения, которое растет и распускает листья. Рескин отмечает, что листья в розетке – «звезде» – на конце дубовой веточки никогда не бывают симметричными и одного размера. «Природа не терпит, чтобы две половины одного листа были одинаковыми. Она стремится, чтобы одна половина росла быстрее другой – то ли дает ей больше воздуха и света, то одним лишь тем, что при дожде влага всегда накапливается на нижней кромке листа, а верхняя сохнет быстрее». Затем, в разделе под названием «Закон эластичности», Рескин продолжает:
Листья, как мы вскоре убедимся, питают растение. Их собственные законы расположения на ветви не должны мешать главной задаче – поискам пищи. Где много солнца и воздуха, туда и должен тянуться лист, даже если порядок при этом нарушается. Поэтому в любом скоплении первейшая забота молодых листьев примерно такая же, как и молодых пчел: не мешать друг другу, и каждый из них предоставляет своим соседям как можно больше простора и свежего воздуха и сам обретает относительную свободу… Однако каждая ветка неизбежно столкнется или пересечется с другими и так или иначе будет вынуждена делиться с ними всем необходимым – тенью, солнцем или дождем. Поэтому каждое скопление листьев по отдельности напоминает небольшую семью – они представляют собой единое целое, однако обязаны добывать себе пропитание и поэтому несут вахты, делают друг другу уступки и иногда посягают и на права других членов семьи[49]49
John Ruskin, “Of Leaf Beauty”, “Modern Painters”, Vol. IV, Part V, 1856.
[Закрыть].
Этот всплеск арбороцентризма у Рескина меня очень вдохновил, и я снова отправился к дубу в своем саду и попытался взглянуть на него по-новому – как на компромисс между геометрическим порядком и реалиями соседской жизни. Хотя моему дубу всего сто лет, он уже носит явные следы житейского опыта. Я вижу, что первый крупный сук, который тянется к югу, растет так, чтобы уравновесить остальные сучья на северной стороне, где расположена пашня и сучья приходится постоянно подрезать. Ветвь на следующем уровне тянется на восток на пятнадцать метров и колеблется, словно волна с небольшой амплитудой, над остатками живой изгороди, а потом, окончательно отделившись от кроны родного дерева, резко изгибается вертикально: у нее явно появились честолюбивые планы образовать второй ствол. На дереве нет ни одной прямой ветки. Они отклонялись в стороны из-за разных напастей в прошлом – тяжелых сосулек, нашествий вредителей, а также из-за необъяснимого и непреодолимого стремления к странствиям. Мне повсюду видны резкие изгибы и повороты, а в бинокль я могу различить следы надломов и шрамы на тех местах, где ветки сломались на ветру и им приходилось менять направление роста. Я пытаюсь проследить какую-нибудь одну ветвь, представляю себе, что это трехмерный график, на котором отмечено, как ветка приспосабливается к распределению тени от соседок и как она маневрирует в поисках участков света и неподвижного воздуха. В первые метр-полтора она превращается в деревянный штопор – «посягает на права других членов семьи». Она выгибается, чтобы перевалить через нижнюю ветку, а та, в свою очередь, хочет уклониться от непрошеной гостьи, заслоняющей солнце. Там, где они сходятся ближе всего, налицо попытки радикально разойтись – крутые перегибы, отмирание концов ветвей и пучки побегов-противовесов. И все это происходит в объеме меньше кубометра – яркая иллюстрация изменчивой натуры всего рода дубовых.
Легенды и мифы о культивировании растений
Едва зародилось сельское хозяйство (в основном за счет леса), едва оно стало прелюдией к возникновению первых городов, как появились новые загадки, связанные с растениями. Почему деревья, которые при расчистке пахотных земель вырубают и гонят прочь, словно вражеские войска, так упорно вырастают снова? Как происходит чудесное превращение полевой травы в съедобный овощ? Почему одни растения убивают, а другие лечат? Период между началом неолитического земледелия и достижениями доказательной науки XVIII века богат мифами и легендами, цель которых – дать ответ на эти загадки. С нашей, современной, точки зрения все это «неправда», зато на их примере видно, какие интересные и удивительные объяснения находило донаучное воображение жизни и свойствам растений, и как оно вписывало их в свои представления о мироздании.
С точки зрения растения культивирование – палка о двух концах. Обычно это означает сильнейшее расширение диапазона форм, в которых вид способен существовать, поскольку люди их отбирают и скрещивают, добиваясь желательных для них свойств. Цвет, вкус, плотность, красота – все это отбирается из широчайшей палитры генома того или иного вида. Возьмем предельный случай – садовую яблоню: существует около 20 000 различных сортов, и все они, как полагают, выведены из одного первоначального вида. Однако эти отборные сорта зачастую достаются дорогой ценой. В погоне за урожайностью можно утратить сопротивляемость болезням. Пышность цветка зачастую означает отсутствие запаха, а следовательно, и опылителей, как случается со многими сортами роз. Редко бывает, чтобы список качеств растения, ценимых людьми, сосуществовал с теми чертами, которые нужны растению для выживания в дикой природе без посторонней помощи. Большинство из миллионов современных культурных растений вымерли бы за одно поколение, исчезни с планеты люди.
9. Кельтский кустарник. Лещина
Две растительные системы – лес и возделанное поле – и в наши дни симолизируют два непримиримых состояния человеческой культуры – дикость и цивилизацию. Однако некоторые места из-за особенностей почвы и истории словно бы навсегда застыли в промежуточном состоянии: стоит цивилизации чуть-чуть продвинуться вперед, как приходится отступать, и земля возвращается во времена до появления человека. Пример тому – заросшие луга и густая лещина в Буррене в ирландском графстве Клэр. Видеоролик об этом переменчивом пейзаже, который показывают в информационном центре в Килфеноре, начинается со слов: «Здесь, на западном рубеже Старого Света»… Эти слова – отнюдь не только географический указатель. Когда смотришь на просторы искрошенных известняковых утесов на краю Атлантики, невольно чувствуешь, что это еще и временной рубеж: то ли этот пейзаж Старого Света здесь не кончается, то ли он приплыл откуда-то из-за залива Голуэй. Сквозь классический кельтский кустарник – путаницу терна, марены, шиповника – проглядывают аккуратные пучочки альпийских цветов. Есть здесь и взрослые деревья, однако главное растение здешних мест – кустарник, лещина, и его темные пятна заполняют впадины в белых скалах, испещряют пологие склоны и взбираются на крошащиеся отвесные стены. Горизонт – сутулый заснеженный горный хребет, весь в уступах и террасах, откуда низкое солнце тянет розовые ленты, – никогда не отдаляется. Оден назвал известняковые пейзажи страной «небольших расстояний и четких примет» (пер. А. Сергеева)[50]50
Из стихотворения «Хвала известняку», 1948.
[Закрыть]. Буррен (от ирландского boireann, каменистая местность) именно таков – тесный, интимный, бесхитростный. А лещина скрепляет его, не дает рассыпаться.
Я побывал здесь с полдюжины раз, и с каждым разом ощущение, что это место откуда-то из другого времени, все крепло. Впервые я приехал сюда в начале семидесятых. Нас было четверо, все – одержимые любители цветов, и мы провели неделю в близоруком экстазе, скакали по диким наскальным садикам и нежились в дурманной смеси кельтики и юга. Мы промышляли устриц и соскребали кристаллы морской соли с почернелого от лишайников известняка, спускавшегося в море. В курортном городке Лисдунварне, где владелец гостиницы разрешал нам готовить устриц у себя в кухне, мы нежились под пальмами и наблюдали вечерний променад – passeggiata – приехавших поправить здоровье монахинь. В основном мы просто гуляли, едва способные отвести взгляд от земли в метре перед собой и от сокровищницы растений, разбросанных там и сям в полном пренебрежении экологическим протоколом и этикетом. Средиземноморские орхидеи соседствовали с куропаточьей травой, кобальтово-синие горечавки и первоцветы делили территорию в тени карликовых рощиц лещины. Возникало странное чувство, будто мы, словно Гулливеры, бродим по цветочным лесам, которым уже двести лет, а выросли они всего-то нам по грудь. Лещинные леса отмеряют время, словно метроном, но межкультурное многообразие растений и удивительная миниатюрность словно бы придают пейзажу иной ритм, переносят его в другое время, в безмятежные дни сразу после последнего ледникового периода.
Небрежная смесь растений, которые в современном климате ни за что не стали бы расти рядом, – великая волшебная тайна Буррена. Когда 14 000 лет назад ледники начали отступать с будущих Британских островов, они оставили за собой пустошь, усеянную обломками камней, которые растрескались и рассыпались из-за долгих зимних морозов и летних оттепелей. Лед начисто снес со скал плодородный слой и не оставил ни малейшей надежды растениям, которые от него зависели. Так что по мере дальнейшего потепления огромное количество видов, приспособленных к жизни на открытых бесплодных пространствах, вклинилось на север. От своих редутов на свободном ото льда юге они двинулись по перешейкам, которые еще соединяли Британию с континентом. Альпийское лето обычно сухое, а особой конкуренции за территорию в тех краях еще не было, как и тени, мешавшей расти, поэтому виды из разных, как мы привыкли считать, ареалов обитания прекрасно уживались друг с другом. Колокольчики и подмаренник, горечавки и купальницы пришли сюда из Центральной Европы и Средиземноморья. Ладанник расползся не только по меловым породам, но и по всей земле – лишь бы было сухо. Васильки прекрасно цвели безо всякой ржи. Армерия приморская росла далеко от побережья, а дриады восьмилепестные – на уровне моря. Многие виды, в том числе земляничное дерево и некоторые разновидности вереска, мигрировали, вероятно, вдоль побережья Западной Европы, которое тогда тянулось непрерывной линей от Португалии до Ирландии. А в Буррене два потока встретились и уже не расставались, благословленные мягким атлантическим климатом.
Погибшие растения понемногу создавали тонкий слой почвы, а температура все повышалась, и примерно в 9000 годах до н. э. появились первые деревья – береза и сосна, а следом за ними и главный вид Буррена – вездесущая лещина. К 6000 годам до н. э. почти все низины были покрыты пестрым покрывалом лиственного леса, но Буррен с его тонким слоем почвы стал исключением: большие деревья здесь были не слишком велики и не очень многочисленны и быстро отступили, когда около 4000 лет до н. э. здесь появились первые земледельцы (они приплыли сюда на лодках, поскольку за тысячу лет до этого прибывшие морские воды захлестнули перешейки, позволявшие попасть в Британию и Ирландию по суше). Эти скотоводы ввели пастбищную систему, которая была прямо противоположна традиционному перегону скота с зимних пастбищ на летние, как делали на их родине, в Европе. Летом они приводили скот вниз на травяные луга, а зимой – обратно на каменистые плоскогорья, где животные дожевывали остатки летней растительности и помогали расчищать землю для цветочного ковра на следующий год.
Лещина лучше всего растет и плодоносит на открытом, хорошо освещенном пространстве, однако прекрасно чувствует себя и в подлеске в густом лесу, так что и в Буррене она сохранилась в тени дубов и вязов. А потом у нее начался неожиданный расцвет. Около 3800 года до н. э. по всей Британии внезапно и загадочно вымерли вязы. Раньше так называемую «убыль вязов» объясняли тем, что земледельцы неолита пускали листья вязов на корм скоту (в некоторых частях Европы так поступают и по сей день). Из-за этого сокращалось количество пыльцы, падающей на землю. Зерна пыльцы – хороший идентификационный признак вида, который ее вырабатывает, и они долго сохраняются в бедной кислородом консервирующей среде – в торфе и иле. А поскольку слои этих почв можно датировать благодаря особым геологическим чертам, остатки пыльцы обеспечивают прекрасные данные для идентификации и датировки растительности в том или ином регионе в тот или иной исторический период. Пробы пыльцы, взятые в озере Дисс Мир буквально в двух милях от моего дома в Норфолке, показывают, что непосредственно перед «убылью» пыльца вяза составляла семь процентов всей пыльцы, а лещины – около 15 процентов. В слоях, датируемых несколькими десятилетиями позднее, лещина составляет уже почти 50 процентов пыльцы, а количество пыльцы вяза исчезающе мало. Пройдет еще несколько сотен лет, и вязовая пыльца понемногу вернется. Однако масштабы и скорость «убыли» заставляют сильно усомниться, что в ней виновата горстка земледельцев неолита. Более убедительное объяснение предлагает Оливер Рэкхем: все дело во внезапной вспышке какой-то болезни, поражавшей только вязы[51]51
Представления Рэкхема об «убыли вязов» см. в “Woodlands”, op. cit.
[Закрыть]. Так или иначе, аналогичная картина наблюдалась в Ирландии, только в Буррен большие деревья уже не вернулись. Поселенцам было нетрудно сдерживать их рост на скудных почвах, а не такая назойливая лещина по-прежнему играла свою роль основной древесной породы региона. И она продемонстрировала первым земледельцам – пожалуй, нагляднее других видов, – что такое естественная регенерация в понимании растений. Да, у деревьев массивные «туши», как у зверей, но они гораздо легче переносят раны и, похоже, сопротивляются самой смерти. Листья опадают каждую осень и возвращаются весной. На месте утраченных ветвей отрастают новые. Даже дерево, поваленное ветром, иногда отращивает новый ствол – параллельно вставшей стоймя корневой системе. Направление роста вверх и разветвленная структура дерева сохраняется независимо от ориентации. Даже когда целые деревья падают под упорными ударами каменных топоров, из узлов роста по периметру израненного пня вырастает кольцо свежих побегов. А когда они отрастут настолько, что их можно будет срезать, дерево просто даст новые. Этот процесс и получил название «вечная весна».
Способность деревьев отрастать заново, даже если их повредить, – одна из главных черт деревьев и вообще растений, которая отличает их от большинства животных, – вероятно, возникла как компенсация за неподвижность. Они ведь не могут убежать. Их часто едят, они ломаются от непогоды, а поэтому для них очень подходит модульный дизайн без незаменимых органов. Многие растения могут потерять до 90 процентов тканей и все равно отрасти снова из кусочка корня или побега. Эти способности развились у них еще со времен долгого сосуществования деревьев с огромными растительноядными животными. Предки деревьев с твердой древесиной, знакомых нам сегодня, эволюционировали в условиях, когда им постоянно грозили пасущиеся мамонты, бизоны, гиппопотамы: сокрушить древесную ткань этим гигантам проще простого. Если бы деревья не выработали механизмы регенерации, они бы исчезли с лица Земли.
Есть надежные данные, что люди начали эксплуатировать природную регенерацию, а затем и преднамеренно поощрять ее, как минимум в эпоху неолита. Жерди, на которых строились древние дороги через болотистые местности в Британии – некоторым почти шесть тысяч лет, – очень уж прямые и длинные, такие нельзя было просто нарезать в лесу. Правильность формы, как утверждает Рэкхем, говорит о том, что их нарочно растили с этой целью – это была древняя, но отнюдь не примитивная практика выращивания деревьев под вырубку. Чем чаще их срезали в рамках циклической программы, которая могла продолжаться неопределенно долго, тем прямее и ровнее они отрастали.
Именно так, вероятно, и растили некоторое время лещину – на плетни. Однако лещина ведет себя нетривиально: она сама отращивает прямые стволы, как будто по велению человека. Куст лещины представляет собой скопление толстых жердей, которые растут наподобие многоствольного дерева, однако из его основания постоянно отходят пучки прямых молодых побегов. Лещина растет так сама по себе, даже если ее не подрезать и не ощипывать. Наверняка это был любимый материал для первых резчиков неолита. Каким, наверное, было облегчением срезать ее тонкие ветви, из которых так удобно делать всякие мелочи, после того, как весь день валил большие деревья каменным топором. К тому же ее манера расти давала пищу для ума. В Европе больше нет небольших деревьев, которые росли бы так же. Куст лещины просторен, у него есть внутреннее пространство, в котором заключен потенциал. С возрастом лещина становится больше в ширину, чем в высоту. Относительно крупные внешние стволы мягко отклоняются в стороны. А спонтанные молодые побеги, проклюнувшиеся из корней и почек в самом низу толстых стволов, тянутся между ними вертикально вверх. Плотные пучки ветвей прямо-таки подсказывают и даже просят, чтобы люди делали из них вязанки дров и остовы для плетней. Они растут тесно, словно «помнят», каким должен быть эталонный ствол – неотъемлемая часть образа идеального дерева – и стремятся вернуться к нему.
Общий вид стволов также отличается у разных кустов и вдохновляет на создание орнаментов. Один современный резчик по ореховой древесине говорил мне, что цвет и фактура – прекрасный показатель качества древесины, так что генетическое разнообразие, в сущности, способствует человеческой изобретательности[52]52
Его зовут Марк Пауэлл; цит. по Richard Mabey, “Flora Britannica”, London: Sinclair Stevenson, 1996.
[Закрыть]. Некоторые кусты лещины имеют «почти металлический блеск и мелкозернистую чешуйчатую текстуру, похожую на ровный слой мельчайших отрубей». У лещины такого типа плотная древесина, которую легко аккуратно раскалывать, и она идеальна для плетней и оград. У другой разновидности кора гладкая, «совсем как покрытая оливково-зеленым лаком», но древесина ломкая, и расколоть ее сложно, «будто каменный брусок».
Реакция лещины на приходы и уходы людей за последние шесть тысяч лет – она отступала, когда ее жгли, пускали на корм и срезали в годы изобилия, и отрастала снова, когда ее оставляли в покое в голодные годы, – это словно текст, написанный кустарниками по просторам Буррена. Ее заросли, а иногда просто одинокие растрепанные кусты, – будто маяки на голом пространстве. Когда я брожу по известняку, меня всегда тянет к ним, и оказывается, что я следую повествованию обо всех перипетиях местной истории – о бурном начале и эфемерных надеждах на изобилие, о циклическом возвращении подобия послеледниковых ландшафтов. Чаще всего кусты – это знаки препинания, отмечающие крах общественных устоев, живые межевые знаки, памятники погибшим селениям и рухнувшим святилищам.
Растительность Буррена подчиняется не только историческим, но и экологическим закономерностям. У подножия низких холмов каменистая порода зачастую скрыта под карликовыми кустиками терна и шиповника, чьи кремовые цветы окрашивают ветерок ароматами теплого меда с ванилью. Все расщелинки, все выступы в скале разные – где скошенные, где пористые, где округлые, а иногда острые, словно обломок кости. В первый мой визит сюда я щеголял в модных тогда туристских ботинках марки “Kickers” – от слова “kick”, «пинать», – и допинался до того, что меньше чем за неделю проносил подметки насквозь. Под дождем известняк размывается и приобретает удивительные формы – то выгибается острыми хребтами, то напоминает толстеньких горгулий, то извивается, словно мавританские оросительные каналы, то похож на фантастических зверей, а потом снова откладывается на поверхности в виде подобия ископаемых окаменелостей или мелких конусов из туфа, похожих на норки дождевых червей. В глубоких расселинах буйно растет костенец сколопендровый, в поисках света иногда достигая необыкновенной высоты. Есть здесь и ясени – им, вероятно, сотни лет, и они ползут вдоль трещин горизонтально, а некоторых травоядные животные общипали почти до идеальных полусфер.
Холмы то и дело сглаживаются, образуют плато, мощенные известняком, откуда ледники содрали почти всю плодородную почву (кое-где на камнях до сих пор видны борозды, оставленные щебенкой, которую тащил за собой ледник), и именно на этих плитах флора Буррена, состоящая из несовместимых видов, особенно богата. В конце мая и июне все покрыто лоскутным одеялом из кроваво-красной герани, ладанника, дриады восьмилепестной и всевозможными видами и подвидами орхидных – их здесь целых двадцать пять (см. рис. 14 на цветной вклейке). Орхидные Буррена – яркий пример географического разнообразия здешней флоры. Близ Маллахмора растет Neotinea maculata – неотинея пятнистая со скучной окраской и скучным названием (по-ирландски она называется просто “magairlin glas”, «зеленая орхидея», за тонкий колосок из тусклых карликовых цветков), у которой есть и вторая родина на известняках Средиземноморья, а с ней соседствует во всем своем разнообразии пальчатокоренник мясо-красный, который обычно растет в Скандинавии и Швейцарских Альпах. Мне довелось наблюдать, как два маститых ботаника спорят о том, куда следует отнести это чудо – Dactylorhiza incarnata подвид cruenta, – и с тех пор я иначе отношусь к аскетической науке таксономии с ее упрощенческим подсчетом тычинок и оценкой степени ворсистости. В тот момент я понял, что этот спор открыл мне врата в прекрасное царство мельчайших деталей. Боб и Джон присели над растением и глядели на него неотрывно, словно горностаи, соперничающие за одного кролика, однако их дружеская беседа наводила на мысли о музыковедах, обсуждающих толкование древней нотной рукописи. Пальчатокоренник кровавый (именно так переводится слово “cruenta”) – эффектное растение с густым колосом из пышных лиловых цветков и ланцетными листьями, которые испещрены пятнами и полосами очень темного цвета, словно пропитаны креозотом. Однако есть и другие орхидные с пятнистыми листьями, поэтому пара ботаников, засевших в траве, была твердо намерена определить, какой именно вид перед ними. Они обложились профессиональными определителями орхидных, вооружились лупами и принялись исследовать важнейшие параметры листьев и цветков. Форма листа? От эллиптической до ланцетной, на конце башлычкообразно стянутые. Пятна? Точечные и петельные, обычно слегка трехдольчатые. Прицветники? Относительно короткие, лилового оттенка и действительно в пятнах. Да, это и вправду cruenta – что стало поводом для бурной радости.
Почему было так важно определить, что это за растение? Привязка к тому или иному имени не имеет отношения к жизни растений как таковых, ведь они постоянно порождают новые разновидности, а значит, и новые названия, в ответ на изменения в среде обитания. Особенно это характерно для орхидных: это племя неразборчиво в связях и то и дело поставляет новые формы и гибриды. Однако сам акт наименования почему-то успокаивает меня. Это словно знак дружбы, признания индивидуальности и происхождения растения – пусть это признание и временное. Cruenta растет в Британии всего в паре мест, далеко в горах Шотландии. Видеть ее в Буррене, этом архиве частных случаев, для меня, как ни странно, честь. Когда я узнал, что передо мной именно этот вид, загадочные знаки на известняке стали словно бы печатью, подтверждающей загадочные территориальные притязания здешних растений.
Неукротимо расширяющаяся и выразительная номенклатура растений – очередное проявление буйства воображения: так мы, люди, реагируем на изобилие пятен и долек в мире растений[53]53
Об ирландских названиях лещины см. Niall Mac Coitir, “Irish Trees: Myths, Legends and Folklore”, Wilton, Co. Cork: Collins Press, 2003.
[Закрыть]. Лещина, по-латыни Corylus avellana, по-ирландски называется “coll” или “airig fedo” – «лесная знать». Кусты лещины в святых местах или наделенные особой силой назывались “bile”. Согласно кельтской поэтической теории caill crínmón – это «лещина научного склада»: имеется в виду крепкий орешек, который надо расколоть и очистить от скорлупы, чтобы получить нечто новое. А тисы, которые на известняковых плато обычно вырастают скрюченными и карликовыми, называются iubhar: это имя связывает их с европейскими родичами – “iw” и “yw”.
Физический ландшафт Буррена еще и звучен, сам себя он описывает на языке сухого скрежета и отрывистых согласных. Шуршат под ногами высохшие лишайники и листья шиповника, выжженные солнцем до хруста. С дробным перестуком раскатываются в стороны камешки – костяная, звенящая, чистая нота. Как-то в июне до меня донеслось, как вещает экскурсовод группе туристов: «Четыреста лет назад в истории Буррена»… – остальное я не расслышал. Прошлое здесь похоже на густые, набрякшие облака пыльцы вроде тех, что испускают лютики и орхидные. Но при всех отголосках прошлого в этом краю витает ощущение ошеломляющего настоящего момента, все словно бы новенькое, с иголочки, и ослепительное солнце, отражающееся от белых скал, похоже на проступающую при проявке фотографию. Меня постоянно дергают в разные стороны миражи и всякая всячина в дрожащем воздухе, которую видишь краем глаза. Розовый шиповник. Далекое желтое пятно, которое оказывается распластавшимся по земле падубом с золотыми листьями. Обманка-тромплей – точь-в-точь могильник бронзового века, только высотой в пятнадцать сантиметров: должно быть, какой-то шутник-прохожий сложил это сооружение из камешков на плоском валуне. Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы остановиться и сесть, но даже тогда все кругом неустанно движется. Каменные хлопья, тончайшие, как слюда, оседают на каменные террасы, и получается будто известняковое пирожное-наполеон с посыпкой. Ветерок пускает рябь по мелким лужицам на плоских камнях – «лягушатникам», которые медленно, но неумолимо размывают известняк и делают новые расщелины. В сущности, это основа тенистых миниатюрных ущелий, подземных лесов, и там пустит корни новое поколение лесных цветов и папоротников – и лещины.
«Четыреста лет назад в истории Буррена настал один из периодов процветания», – сказал, наверное, тогда экскурсовод. Плодился и размножался скот, и лещина отступила, спряталась в вертикальных трещинах или, наоборот, пускала горизонтальные побеги со скальных уступов, куда животные не могли добраться. Два века спустя этот регион постиг великий ирландский голод, и лещина, должно быть, разрослась снова. На протяжении столетий мелкие крестьянские хозяйства и лещина попеременно наступали и отступали, завоевывали и теряли территории, и их судьба зависела от погоды, политики и упорства пастухов и кустов соответственно. Близ Пулбауна я нашел руины фермы, не поддающиеся датировке. Вертикальные камни, словно руки или кресты, торчали в расщелинах над остатками оград, которые теперь уже трудно отличить от естественных выступов известняка. Тим Робинсон, великий биограф и картограф Буррена, говорит о них как о «памятниках тяготам жизни скотовода»[54]54
Tim Robinson, “The Burren: A Map of the Uplands of North-west Clare, Eire”, Roundstone, Co. Galway: Folding Landscapes, 1977.
[Закрыть]. В нескольких милях дальше, к югу от Килнабоя, сохранились развалины форта Каэркомман с тройными стенами, построенного около 1000 года н. э., и вид у них едва ли более прочный. Лещиновые леса сползаются к нему по склонам холма, и каменные укрепления мало-помалу рассыпаются в щебень. За четыре тысячелетия здесь накопилось множество брошенных жилищ и монументов: дольмены, священные источники, 66 мегалитических могильников, 500 круглых фортов и бесчисленное множество сарайчиков и козьих хлевов. Под самым фортом Каэркомман сохранился зловещий полуразрушенный остов крестьянского домика, построенного около 1958 года из желто-розовых кирпичей, а еще в нескольких сотнях метров – сад, в котором нет никаких строений, а лещина отвоевала себе беседку, в которой прячется статуя Девы Марии. Территории здесь всегда были понятием нестрогим и сиюминутным. Люди селятся здесь во множестве, не проходят испытания камнем и голодом и просто уходят, оставляя свои усадьбы, добытые с таким трудом, в наследство лещине.
Неподалеку от другого круглого форта под названием Каэрмор я украдкой забираюсь в рощицу, которая на первый взгляд казалась нетронутой – словно бы на этом месте никогда не было полей и никогда не паслись овцы. Вероятно, я обманулся, ведь лещина способна вырасти густой и высокой за каких-то сто лет. Внутри просто потрясающе – тихо и влажно, но сразу чувствуешь витающую в воздухе физическую враждебность, так что становится понятно, почему здесь никогда и не могло быть ничего, кроме леса. Кусты лещины теснятся бок о бок, некоторые у основания достигают ширины метра в два. Кругом громоздятся огромные валуны, все завалено сухими ветками и затянуто покрывалом из мха – местами сантиметров в двадцать глубиной, и он наползает на стволы лещины плотными валиками, будто в тропических джунглях. Я пробираюсь по лесу осторожно-осторожно, стараюсь не наступить в предательские провалы между валунами и при этом не потоптать растения. Однако во мху после меня остаются глубокие вмятины – живой укор совести. На миг меня охватывает ощущение, будто прежде в этот лесной уголок не ступала нога человека. В самой чаще леса я обнаруживаю прогалину – и сразу чувствую, что очутился не в диком лесу, а в дачном садике. Все дело в атмосфере пещеры – уютного замкнутого пространства. Первоцветы, колокольчики и ятрышник мужской растут здесь не обильными скоплениями, как обычно в лесах, где почва не такая густонаселенная, – они деликатно пробиваются по одному – по два в тех местах, где накопилось достаточно мха. А в кружевной тени на опушке рощи я нахожу первый в моей жизни экземпляр ятрышника Фукса – чисто-белое соцветие с вычурным названием Dactylorhiza fuchsii var. okellyi в честь бурренского лесничего из Балливона, который его обнаружил.
Такие лещиновые рощицы бывают по-настоящему древними. Самая прославленная и самая эльфийски-волшебная, по словам ирландского ботаника Чарльза Нельсона, это
лесок, который словно бы свисает с сурового утеса Кинн-Эйль и покрывает каменистый склон лещиной, дремликом, папоротником и мхом. Среди орешника разбросаны ивы, ясени и рябины. В крошечной часовенке Св. Колмана Мак Дуаха, когда-то служившей укромным уголком для молитв, но давно заброшенной, тоже царит тишина. Ее замшелые камни ждет неизбежное для всего бурренского песчаника возвращение к истокам – их подмоет дождем, и они рухнут наземь, став деталью природного сада камней[55]55
E. Charles Nelson and Wendy F. Walsh, “The Burren: A Companion to the World of Flowers”, Kilkenny: Boethius Press, 1991.
[Закрыть].
Еще в детстве, когда я серьезно относился к поискам лесных лакомств, я понял, что если хочешь найти лесные орехи, нужно забраться именно в такое местечко – засесть в рощице или даже в гуще какого-то одного куста и смотреть оттуда наружу, и тогда орехи прекрасно видно на фоне участков неба. Лесные орехи часто фигурируют в ирландском фольклоре и «всегда служат эмблемой концентрированных знаний, чего-то сладкого, компактного и питательного, заключенного в небольшой прочной скорлупе – крепкий орешек знаний, так сказать»[56]56
Adrian Harris, цит. по Mabey, “Flora Britannica”, op. cit.
[Закрыть]. Среди историй о лещине одна наделена особенно отрадной симметричной и компактной структурой[57]57
О лещине в мифологии см. Coitir, “Irish Trees”, op. cit.
[Закрыть]: в ней говорится о священном источнике в окружении девяти лещин, символизирующих мудрость, вдохновение и поэзию. Листья, цветы и орехи на деревьях вырастают в один момент и разом падают в святую воду, взметая лиловый фонтан. В священном источнике обитают пять лососей, они едят орехи, и от каждого ореха на их чешуе проступает красное пятно. Если человек отведает этих лососей, ему откроется вся мудрость и поэзия. А еще от орехов в ручейках, истекающих из источника, появляются пузырьки, и эту пузыристую воду пьют всевозможные художники и мыслители. Это сложный миф, тут говорится и о древе знаний, и о различных метаморфозах, и он странным образом напоминает реальный жизненный цикл «плоды-река-рыба», благодаря которому существуют многие живые виды амазонских джунглей. Мифы о растениях, какими бы мистическими ни были они на первый взгляд, зачастую таят в себе глубокие экологические истины. Метафора ореха как символа концентрированной мудрости, из которой затем «проклюнется» какая-то новая форма, по-прежнему с нами. Однако образ лещины как пример способности к возрождению – зримый и мифологически мощный – по большей части забыт. Культурные, повседневные связи с деревьями у нас слабеют, и теперь, если мы и видим в них подобие людей, то это сходство прямое, плотское: ствол – это туловище дерева по аналогии с человеческим телом, поэтому дерево погибает, если обрубить его земные корни. Это неверно понятая метафора. Мы оплакиваем павшую фигуру, но не видим полных надежды побегов, которые поднимаются от корней, от основания дерева, гладкие, атласные, будто лосось.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?