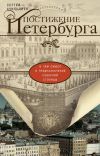Текст книги "Петербургский панегирик ХVIII века"

Автор книги: Риккардо Николози
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Топика, развернувшая в XVII в. весь свой потенциал как метод классификации действительности, продолжает и после отказа/отхода от риторики в XVIII в. активно влиять на коллективное подсознание. К. Видеманн [Wiedermann 1981: 248] говорит о «топических структурах действительности», то есть о том, что «у каждой эпохи и каждого общества есть бессчетное количество особых риторик и особых герменевтик, то есть предписаний для языкового производства и осмысления».

Спуск корабля на Неве в конце XVIII в. С рисунка Патерсона
Для аналитического описания топики, осмысляемой как орудие «общественного воображения», Л. Борншойер [Bornscheuer 1976: 91-108] выделил четыре структурных элемента: хабитуальность, потенциальность, интенциональность и символичность. Хабитуальность топоса Борншойер выводит (опираясь на понятие «хабитус» П. Бурдье[229]229
См.: [Bourdieu 1997: 143ff.].
[Закрыть]) из его принадлежности к endoxa, то есть к социокультурно обусловленному механизму «предвосхищающего суждения» (Vor-Urteils-Struktur):
Топос – это общепринятая норма интернализованного тем или иным обществом и проявляющегося в восприятии и (речевом) поведении габитуса, структурообразующий элемент лингво-социальной коммуникативной системы, детерминант господствующего в том или ином обществе самосознания и регенерирующей его традиции и конвенции системы образования [Bornscheuer 1976: 96].
Искусство топической аргументации представляет собой творческий процесс, который опирается на «принятые в обществе нормы мышления, языка и поведения» [Там же: 96] и функция которого состоит в «инновативном применении этого механизма «предвосхищающего суждения». Такая коллективно-габитуальная первоначальная форма топоса получает, как правило, лексико-символическую фиксацию, то есть «конкретную мнемоническую форму», являющуюся как предпосылкой «несомненного наличия» [Там же: 105], так и признаком, отличающим его от других топосов. Этот аспект Борншойер сводит к понятию символичности[230]230
Борншойер, однако, не объясняет, как следует определять материально-лексическую границу топоса. М. Беллер [Beller 1972], в продолжение дискуссии о понятии топоса у Курциуса, ввел ограничения, обеспечивающие литературоведческую оперативность этого понятия. Беллер различает между «структурным мотивом, описывающим основные идеи и «situation de base» <…>, и сущностно-формальным мотивом, выражающим основную топическую идею в поэтически выразительных картинах» [Там же: 179]. Эта «основная идея» (или «образ мышления» [Denkform]) является непременной составляющей литературного топоса, ибо не всякий риторический элемент можно считать топосом лишь вследствие его частого употребления в разные эпохи: «Если за поэтическими картинами не угадывается образ мышления, вряд ли мы имеем дело с топосом и его преемственностью в традиции. <.> Такие прослеживаемые в традиции комплексы смыслопорождающе-устойчивых и варьируемых в зависимости от ситуации деталей образуют собственное поле литературного топоса, каким он нам является в многочисленных взаимозависимых и взаимосплетенных, но никогда не повторяющих друг друга проявлениях идеограммы Золотого века» [Там же: 179]. В топосе золотого века, например, встречаются различные комбинации таких «мотивов» или «картин», как реки молока, меда и нектара; царство вечной весны и мира; постоянным остается, однако, их «общий знаменатель», лежащий в их основе образ мышления, мотив «αυτόματον»: человек наслаждается всеми дарами природы, не прикладывая к этому труда.
[Закрыть]:
Топосы могут быть сформулированы в виде сжатых правил, коротких фраз, сложных выражений или просто тезисов. При этом один и тот же топос может проявлять различные степени как вербальной, так и семантической концентрации. Мнемоническая формула внедряется в сознание индивида как члена определенной группы, отмеченной общим языком, системой образования и социальным самосознанием [Там же: 103].
Символическая фиксированность не предполагает, однако, одностороннего применения топоса; напротив, он является в высшей степени гибкой величиной, из которой можно добывать различные, подчас противоречивые аргументы. Этот очередной признак Борншойер называет потенциальностью:
Топос является сущностным или формальным критерием, применимым при анализе многих конкретных проблем и допускающим самые разнообразные аргументации или амплифицирующие пояснения. Каждый топос «сам по себе» носит неопределенно-обобщенный характер, тем не менее в определенном контексте создает возможности для конкретной аргументации в самых разнообразных целях [Там же: 99].

Новый Зимний дворец, построенный в конце царствования Елисаветы Петровны. С гравюры Бенуа
Тот факт, что многосторонность и поливалентная интерпретируемость топоса не распадаются произвольно, является результатом действия четвертого структурного момента понятия топоса у Борншойера: его интенциональность. Под этим подразумевается обязательная, обусловленная ситуацией актуализация топосов, поскольку эти последние «обладают силой убеждения лишь постольку, поскольку они оправдывают себя при решении насущных общественных проблем каждый раз в новых контекстах» [Там же: 101].
Лишь конкретная проблема и установка на конкретный результат преодолевают внутреннюю амбивалентность топики и открывают новые перспективные контексты. Вне актуального применения в рассмотрении насущных проблем топос либо «опускается» до штампа, в нерефлексивную габитуальность, либо рассеивается в чистом вымысле, то есть в ни к чему не обязывающей потенциальности [Там же: 102].
Считая все четыре функции обязательными, Борншойер выделяет в качестве «структурообразующего ядра топоса» [Там же: 107] признак габитуальности. Таким образом, топика является в первую очередь определенным мировоззрением, она несет в себе определенные, селектирующие и упорядочивающие действительность образцы рассмотрения. Эти основанные на endoxa коллективные критерии относятся к сфере того, что данная культура считает «своим», конструирующим ее идентичность; они могут, однако, усваиваться и другой, чужой культурой, например, через нормативную систему риторики. В этом случае «свое», являющееся содержанием топики, становится для усваивающей культуры «чужим», которое должно быть прилажено к «своему» культурному контексту, чтобы топика могла функционировать как механизм «предвосхищающего суждения».

Вид здания государственного банка в Петербурге в конце XVIII в. С гравюры Мальтона 1798 г.
Именно проблематика, связанная с перенятием чужой топики, играет решающую роль в петербургском панегирике. Когда авторы русских панегириков XVIII в., сообразно с действующей риторико-поэтической традицией, начали обращаться к топике, чтобы отыскивать аргументы для рассматриваемой res (Петербурга), они столкнулись с основоположными оперативными категориями для «именования» и «упорядочивания», в основном чуждыми русской панегирической традиции. Традиция laus urbium, заимствованная через посредство новолатинских риторических и поэтических метатекстов, предлагала им соответствующие мыслительные схемы для рационального анализа и описания нового города. Поэтому первоочередной задачей авторов панегириков в Петровскую эпоху становится внедрение этой нормативной традиции в панегирическое изображение Петербурга.

Петербург. Бронзовый барельеф 20-х гг. XVIII в.
На стыке перевода топики, исходящего из принципиальной эквивалентности импортирующей и импортированной культур, и ее адаптации, распознающей инаковость и пытающейся ее преодолеть, развивается панегирическое именование пока еще свободного от риторики города. Ниже будут описаны три этапа этой эволюции: «перевод» топики в сфере как городского панегирика (laus urbium), так и окказиональной лирики (приблизительно 1-я половина XVIII в.); развитие специфической петербургской топики (приблизительно до конца XVIII в.); и, наконец, имплозия топической системы, ставшей к тому времени (начало XIX в.) автореференциальной, предваряющая «растворение» этой системы в постпанегирической петербургской поэзии.
2. Проблемы перевода
Риторы (и теоретики риторики) Петровской эпохи, продолжавшие разрабатывать новолатинскую риторико-поэтическую нормативную традицию в великорусском пространстве (сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге), с самоочевидностью обращаются к выработанной этой традицией топике для восхваления новой царской резиденции. При этом обозначаются две главные линии эпидейктического изображения города, которые перенимаются петербургским панегириком и (на первых порах) разрабатываются в равной мере: собственно городской панегирик (laus urbium), в котором главным предметом прославления является город, и изображение города в окказиональной лирике (в торжественной оде), где Петербург выступает как «место события». Оба эти направления должны были быть сначала «переведены» в русский культурный контекст, поскольку ни то, ни другое не имело аналогов в русской жанровой традиции (см. ниже 2).
Процесс перевода с самого начала подразумевал принципиальную преодолимость разрыва между языковыми, культурными и жанровыми системами; или, иными словами, этот разрыв воспринимался как несущественный и потому особенно не проблематизировался. Вера в универсальность риторических и поэтических правил стала предпосылкой этого процесса перевода, заключавшегося в поиске эквивалентных топосов и предикатов для прославления Петербурга. Стремление точно скопировать всю латинскую топику, образующую основу петербургского панегирика, предполагало в том числе и необходимость начального разъяснения этой топики реципиенту, то есть присутствия нормативно-дескриптивного момента в самом тексте, как это происходит, например, в похвальной речи Гавриила Бужинского.
На этой фазе становления петербургского панегирика учитывалась не только универсальная применимость риторических правил, но и то, что эти правила были важнее действительности: именно соответствие топическим предикатам было условием достохвальности Петербурга. Это вело отчасти к затушевыванию специфического культурного контекста и специфической городской реальности, которые лишь ко времени «русификации» топики проявились во всей полноте. Однако и на этой первой фазе попытка адекватного перевода топики не смогла полностью вычеркнуть культурный контекст, что видно из примера того же Бужинского, который, при всем стремлении точно воспроизвести в своем «Слове…» топические критерии и предикаты, не избежал в итоге влияния русской жанровой традиции и особой коммуникативной системы.
Первый панегирический текст о Петербурге, первое литературное приближение к вновь основанному городу – цикл проповедей Стефана Яворского «Три сени» (1708 г.) – является показательным примером того, как система риторических топосов со своими категориями систематизации определяла первую интерпретацию города. Здесь рано еще говорить о проблемах жанра, касающихся laus urbis, или о специфических loci ab urbe – как в случае Бужинского, – здесь, скорее, пристало говорить об осмыслении города посредством общих loci a re.
2.1. Первая риторизация Петербурга: «Три сени» Стефана Яворского (1708)В упоминавшейся выше проповеди Стефана Яворского[231]231
См. выше главы I, 1.3, и II, 1.3.
[Закрыть] речь идет в первую очередь об «именовании» вновь основанного и пока еще свободного от риторики города, то есть о его интерпретации при помощи системы loci. Этот процесс выработки текста будет далее реконструирован, что не представляет трудности благодаря природе топики: «процесс интерпретации» текстов, порожденных топической системой, «обратен процессу выработки текста» [Beetz 1981: 593], поскольку топосы, направлявшие производящий «акт отбора» [Wiedemann 1981: 244], помогают реконструировать его.
Яворский анализирует предмет «Петербург» преимущественно посредством первого топоса в классификации Цицерона, locus ex definitione. Чтобы выявить «суть вещи», Яворский использует, следуя риторикопоэтической традиции XVII в., в основном метафорические конструкции[232]232
О роли метафорики в изображении вещей в XVII в. см.: [Dyck 1972: 129–132].
[Закрыть]. Сравнение методом tertium comparationis c вещами, относящимися к знакомому в одинаковой степени автору и аудитории/читателям миру опыта, помещает новую res «Петербург» в семантический контекст, который ее систематизирует и уточняет путем сопоставления с подобным[233]233
Одновременное применение locus definitionis и locus comparationis обязано своей особой ролью в практике поэтического inventio специфической функции определять сущность вещи как нечто общее и сверхиндивидуальное. Эта функция парадигматически отражает функцию всей топической аргументации (см.: [Segebrecht 1977: 130]).
[Закрыть].

Портрет Стефана Яворского. Гравюра А. Ф. Зубова. 1729 г.
Необходимость именования нового города выражается в тексте Яворского в постановке ряда риторических вопросов, как, например, «Что то есть?» [Стефан Яворский 1708: 513]. Его ответы вводят риторическую предикацию Петербурга. Как уже говорилось (см. главу II, 3.1), первым панегирическим эпитетом является обозначение «церковь» [Там же: 513; 518]. Первый предикат Петербурга указывает, таким образом, на присущие ему признаки сакрального пространства, которые закрепляются при помощи другого риторического места – locus circumstantiarum loci. Яворский тематизирует географическое положение города, особенно его близость к морю. Сначала выбор места для нового города толкуется им как «логическое» следствие того, что Бог любит воду. Затем, однако, он оставляет метафору города как воплощенной сени Христовой и конкретизирует восхваление географического положения Петербурга такими практическими мотивами, как неприступность окруженной водой крепости, или выгода его местоположения для торговли. В завершение Яворский подкрепляет свою аргументацию сравнением с другими известными городами, расположенными у воды.
В качестве следующего источника доказательства Яворский использует locus notationis, то есть раскрытие сути вещи через ее наименование (notatio). Изобретения ex loco notationis были в поэтической практике XVII в. крайне популярны, так что «следует говорить об исключении, если окказиональное стихотворение обходится без такого изобретения» [Segebrecht 1977: 115]. Вариантом locus notationis является locus etymologiae, вывод аргумента из этимологии самого имени[234]234
См., например, у Э. Тезауро [Tesauro 1968: 6]: «<…> dove l'Essenza degli Obietti tacitamente si annida; e l'Etimologia del proprio NOME» (Этимология имени собственного – это то место, в котором неслышно приютилась суть вещи).
[Закрыть], причем настоящая этимология имени часто не играла на практике большой роли[235]235
См.: [Segebrecht 1977: 115–116].
[Закрыть].
Путем comparatio (сопоставления) с другими большими городами Яворский показывает, что и название Петербурга кроет в себе имя его основателя:
Велию имут похвалу грады от своих создателей, – так Рома или Рим от своего создателя Ромула, Константинополь от Константина Великаго, Антиохия от Антиоха, Александрия от Александра Великаго и прочая. А о Петербурге что реку? Амин, амин глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда равную почесть, равную славу имети будет от великаго Петра, Санкт-Петербург с немецкаго языка, а с греческаго Петрополис, яко там от Константина Константинополис [Стефан Яворский 1708: 513–514].
Этимология названия указывает не только на происхождение (основателя) города, но и одновременно на источник его славы. При этом Яворский прибегает к явно ложной этимологии[236]236
Чтобы придать своей аргументации вескость, Яворский ставит Петербург в один ряд с городами, названными в честь своих основателей. Показательно, что в случае Рима он замалчивает другую, восходящую к античности этимологию, согласно которой название города связывалось с греческим словом priori (могущество).
[Закрыть], ведь, как известно, название Санкт-Петербург происходит не от Петра I, а от святого апостола Петра. Тот факт, что Яворский использует в своей аргументации искаженную этимологию, не случаен; мы сталкиваемся здесь, скорее всего, с ранним примером переосмысления Петербурга в «город Петра»[237]237
См.: [Лотман, Успенский 1982: 244–245].
[Закрыть], как результата топического отождествления Петра I с апостолом Петром, бывшего, вероятно, важнейшим и распространеннейшим проявлением сакрализации царя: как апостол Петр был камнем, на котором зиждилась церковь Христова (Мф. 16: 18), так Петр I был камнем, на котором предстояло подняться «новой» России[238]238
См.: [Там же].
[Закрыть]. Яворский расширяет и конкретизирует метафору, говоря о Петербурге: «О царский граде, на камени Петре силою Божиею недвижимо утверждающийся!» [Там же: 513].

Вид Гостиного двора в начале XIX в. С гравюры Патерсона. 1804 г.
Проповедь Стефана Яворского содержит первую репрезентацию Петербурга. Посредством отдельных заключений, образованных, в соответствии с эпистемой его времени, по форме subjectum inest praedicato, он называет вновь основанный город «сенью Христовой», «Святой церковью», «вратами водными российского царства» и т. д. Идентичность города конституируется схожестью и несхожестью с другими «вещами» (особенно с другими городами): наименовать Петербург таким образом – значит определить его место в порядке вещей.

Вид Михайловского замка со стороны Летнего сада. С гравюры Патерсона. 1801 г.
Такое топическое прочтение текста Стефана Яворского показывает, по каким общим риторическим принципам он построен. «Три сени» примыкает к традиции барочной проповеди, со времен Симеона Полоцкого дополняющей древнерусскую линию гомилетики. Тем не менее эту проповедь нельзя приурочить к традиции laus urbium в узком смысле, хотя она и позаимствовала некоторые топосы из этой традиции (например, топосы описания местоположения города). Ведь если система топосов в целом управляла предикацией вещей в риторике раннего Нового времени, то эпидейктическое изображение города, сообразно с традицией, становилось возможным благодаря применению специальных loci ab urbe. Ниже будет кратко очерчена роль этих loci в риторической традиции и их функции в поэтической практике. В заключение рассматривается проблема освоения этой чужой для России традиции на примере петербургского панегирика Гавриила Бужинского (1717 г.). При этом будет рассмотрено как перенятие русской литературной системой чужого метода inventio (и жанра), так и опирающейся на этот метод, происходящей из чужой лингво-социальной коммуникативной структуры endoxa.
2.2. Эпидейктические городские топосы (Loci ab urbe)Уже на ранней фазе его развития в genus demonstrativum довольно отчетливо проявляется тенденция топики к превращению в резерв каталогизированных формул и образцов. Риторические трактаты, посвящавшиеся в поздней античности исключительно панегирической речи, ограничивались, как правило, областью inventio, сводя при этом топику к классификации указаний по составлению энкомиев в различных коммуникативных ситуациях. Получавшиеся при этом диспозиционные схемы содержат не только возможные вопросные пункты, которые могут применяться к прославляемой res, но и соответствующие «ответы» – речевые образцы (топосы в смысле Курциуса), сформированные традицией.
Нормативная кодификация laus urbium происходила в греческом окружении второй софистики и питалась текстовой практикой, первым парадигматическим примером которой является «Панегирик» Исократа, посвященный Афинам (VI в. до н. э.)[239]239
См.: [Isokrates 1993: T. 1, 44–82].
[Закрыть]. Риторические предписания для laus urbis подробнейшим образом изложены в трактате «О торжественном красноречии» (Aioupeaic, xffiv ётпбегкхгксм) конца III в. н. э., приписываемом Менандру Лаодикейскому. Одну главу трактата Менандр посвящает форме городского панегирика: «Как следует хвалить города» (raoc ХРП побеге enaivetv)[240]240
См.: [Menander Rhetor 1981: 32–75].
[Закрыть]. Сначала он советует остановиться на географическом положении города, то есть на климатических условиях (мягкости климата, чистоте воздуха), близости к морю (условиях для торговли), кроме этого, на плодородности окрестностей и водоснабжении. При этом Менандр подчеркивает, что следует разобрать эти факторы на предмет пользы и удобства. Затем он переходит к основателю города, моменту и обстоятельствам основания, первым жителям. Далее следуют занятия жителей, их способности к науке и искусствам. Каждый из этих пунктов Менандр снабжает точными указаниями – в зависимости от того, какой тип города предстоит восхвалять.
Менандр не был первым теоретиком риторики, занимавшимся кодификацией правил прославления города: подобные руководства к сочинению laudes urbium можно найти (хотя и в более сжатой форме), например, у Квинтилиана («Воспитание оратора» III, 7, 26–27) или у Гермогена, трактат которого, восходящий ко II в. (Hermogenes 1913: 14ff) был переведен на латинскийязык Присцианом[241]241
См.: [Halm 1863: 557]. О преемственнсти греческой нормативной традиции laus urbium в латинском Средневековье свидетельствует в том числе подробное описание laus urbium в анонимном сочинении «Excerpta rhetorica e codice Parisino 7530 edita» [Там же: 587–588].
[Закрыть]. Но его сочинение преставляет собой теоретическую вершину традиции, которой, среди панегирических произведений, соответствуют восходящие к тому же времени панегирики Афинам и Риму Элия Аристида[242]242
К. Смит [Smith 1992: 178] даже утверждает, что традиция laus urbium возникла лишь во II в. н. э., то есть что она является порождением второй софистики, ссылаясь при этом в том числе на «Похвалу Антиохии» Либания.
[Закрыть]. Создается впечатление, что структура и формулировки его Panathenaikos[243]243
См.: [Aelius Aristides 1986].
[Закрыть] «часто воспроизводят терминологию [Менандра]» [Claasen 1980: 19], хотя панегирик Аристида написан раньше, чем трактат Менандра: вот тут-то отчетливо проявляется постоянное взаимовлияние риторических предписаний и выработки текста[244]244
Перу Аристида принадлежит также одно из известнейших сочинений античности «Панегирик Риму» (EyKCoUtov etc. Pcout)v) (Aelius Aristides 1981), ср.: [Claasen 1980: 18–19; Gernentz 1918: 6–7]; в этом панегирике laudatio адресована в одинаковой степени Риму – городу и Риму – империи. Кроме того, среди античных laudes urbium следует упомянуть исторический очерк Цицерона, посвященный Риму, во второй книге «De re publica» (4-11) (см. [Claasen 1980: 10–11]) и «Laudes Neapolis» Стация (см. [Curtius 1963: 166]).
[Закрыть].
Ключевые вопросные пункты для городского панегирика, разработанные в поздней античности, можно свести к следующей схеме: de natura et positione urbis (salubritas caeli, opportunitas positionis, de aquis et montibus); de genere urbis (conditor, antiquitas, origo incolarum); de forma urbis (amplitudo et pulchritudo urbis, magnitudo aedificorum, descriptio singulorum operum); laudes incolarum urbis[245]245
См.: [Gernentz 1918].
[Закрыть].
Эти краткие сведения о теории laus urbium ясно показывают, что подчас невозможно отграничить собственно энкомий (laus) от экфразиса (descriptio), поскольку прославление почти всегда включает более или менее точное, более или менее схематичное описание предмета[246]246
«Demonstrationes vero urbium locorumque iam non demonstrationes, sed topographiae a plurimis existimantur», – пишет, например, ритор Эмпорий в своем сочинении «Praeceptum Demonstrativae materiae» [Halm 1863: 569].
[Закрыть].

Осмотр великим князем Павлом Петровичем работ на набережной Невы в 1775 г. С гравюры Леба, сделанной с картины Лепренса
Именно неодинаковое осмысление экфразиса обусловливает различие между византийским и латинским городским панегириком в Средневековье. Если многочисленные «Laudes Constantinopolitanae»[247]247
Cм.: [Fenster 1968].
[Закрыть] целиком «оплодотворялись» традицией второй софистики, то латинским Средневековьем она была освоена лишь частично, что означало в том числе утрату досконально разработанной греческой теории экфразиса. Целью византийского жанра описания произведений архитектуры и искусства была непосредственность, то есть не столько верность деталям, сколько наглядность и выразительность изображения, которая должна была эмоционально воздействовать на реципиента. Описываемый объект (произведение искусства) должен был быть описан так живо, чтобы слушатель или читатель мог «увидеть» его наравне с оратором. Это касалось особенно сакральных произведений искусства; классическим примером тому может служить описание Святой Софии в «ITepi KXtoudxmv» («De aedificiis») Прокопия Кесарийского. Латинское же Средневековье понимает под экфразисом главным образом топографическое, строгое перечисление реалий, как, например, в традиции «мирабилий». Здесь приоритет отдается не визуальному впечатлению, обычно подразумевающему отбор и иерархизацию описываемых объектов, а полноте перечня. Поэтому к утверждению Курциуса [Curtius 1963: 166] о том, что laus urbium представляет собой «непосредственное связующее звено между античной эпидейктикой и средневековой поэзией», следует подходить с осторожностью[248]248
Точку зрения Курциуса разделяет и Классен [Classen 1980].
[Закрыть], поскольку лишь в эпоху Ренессанса латинская и позднелатинская (средневековая) традиции laudes urbium сливаются с заново открытой древнегреческой.
В многочисленных эпидейктических изображениях города XIV и XV вв. происходит неориторизация этого жанра. В сочинениях гуманистов declamatio замещает собой преобладавшую в Средние века descriptio, вследствие чего, с одной стороны, утрачивается интерес к простому перечислению городских реалий, с другой же стороны, интерпретируется их значение для истории города и их актуальная функция[249]249
«Автор-гуманист не довольствуется более простым перечислением реалий, как бы ни важны они были для облика города. Он подчиняет их требованиям композиционной гармонии речи» [Schmidt 1981: 123]. См. также: [Goldbrunner 1983, Smith 1992: 133–149]; ср., кроме того: [Klotz 1987: 443–462, Blaschka 1959].
[Закрыть].
«Laudatio Florentinae urbis» Леонардо Бруни (1403 или 1404 г.)[250]250
См. публикацию текста в: [Baron 1968: 219–263].
[Закрыть] стоит у истоков ренессансного городского панегирика, служа одновременно образцом для более поздних авторов. Этот текст представляет собой непосредственный результат новооткрытой греческой античности, и в частности педагогической деятельности византийского ученого Мануэля Хризолораса, работавшего во Флоренции в конце XVI в. Он познакомил своего ученика Бруни с laudes urbium Элия Аристида, что среди прочего объясняет сильные интертекстуальные связи между «Laudatio» и «Panathenaikos»[251]251
О «Laudatio» Бруни см.: [Baron 1968: 151–171; Rubinstein 1990; Smith 1992: 176–180].
[Закрыть].
В рамках кодификации классической риторики в эпоху Возрождения, образующей теоретическую основу литературной эволюции вплоть до XVIII в., laus urbium подвергается, в свою очередь, решительной систематизации. Новооткрытие греческой античности означало и открытие заново Менандра и его трактата, послужившего образцом для описания эпидейктических жанров в «Поэтике» Юлия Цезаря Скалигера (1561)[252]252
См. вступительное слово Л. Дейтца к третьей книге «Поэтики» [Scaliger 1991–1998, Т. 2 [1994]: 40–41] с указанием библиографии; см. об этом также: [Hardison 1973: 195–198].
[Закрыть]. Скалигер называет критерии рассмотрения для городского панегирика (кн. III, гл. CXX), опираясь на соответствующий пассаж из трактата Менандра «О торжественном красноречии», причем предпосылает перечислению отдельных loci свое собственное «Похвальное слово Вероне». Начав географическим положением, укреплением и постройками, он переходит далее к основателю и обстоятельствам основания города, к истории города, его жителям и кончает формой правления, не выпуская ни одного из предусмотренных традицией аспектов.
В Европе XVII столетия место классического городского панегирика, или описания города, занимает изображение города в окказиональной лирике (торжественной оде) как панегирического «места события», имеющее, в свою очередь, долгую традицию (см. ниже 2.6). Тем не менее в большинстве случаев город продолжает оставаться главным объектом прославления, как, например, в популярном и не раз переиздававшемся сборнике стихов и прозы «Urbes imperiales» Николауса Ройзнера (1605), в котором используются известные loci ab urbe как в панегирических стихах, так и в прозаических описаниях.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?