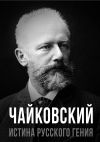Текст книги "Счастливый Петербург. Точные адреса прекрасных мгновений"

Автор книги: Роман Всеволодов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Солнечный свет возвращал гармонию пошатнувшейся душе. В детстве Евгений не выносил сказок, в которых кто-нибудь погибает. Мама часто пользовалась этим, шантажируя ребенка. Например, когда он ел суп, начинала рассказывать новую увлекательную сказку, а потом вдруг обрушивала на него грозное предупреждение: «Доедай, иначе все умрут». И маленький Евгений обязательно доедал даже самый невкусный суп, отчаянно боясь, что сказочные герои погибнут.
Мальчику с такой нежной ранимой душой предстояло служение в Добровольческой армии, участие в Ледяном походе, тремор рук после тяжелой контузии при штурме Екатеринодара…
Шварц побывал и продавцом книжного магазина, и журналистом, и даже секретарем Чуковского. А затем увлекся театром. Но родившемуся в Ростове маленькому театрику не удалось покорить Петербург. Поначалу он решительно занял пустующее театральное помещение на Владимирском проспекте, но вскоре исчез (на этот раз обошлось без всяких гонений).
Чуковский иронизировал: «Приехал Шварц вместе с труппой маленького ростовского театрика, которая вдруг, неизвестно почему, из смутных тяготений к культуре, покинула родной хлебный Ростов и, захватив свои убогие раскрашенные холсты, перекочевала навсегда в чужой голодный Питер. Театрик этот возник незадолго перед тем из лучших представителей ростовской интеллигентской молодежи. В годы Гражданской войны каждый город России превратился в маленькие Афины, где решались коренные философские вопросы, без конца писались и читались стихи, создавались театры – самые “передовые” и левые, ниспровергавшие все традиции и каноны. Театрик, где актером работал Шварц, до революции назвали бы любительским, а теперь самодеятельным, но в то время он сходил за настоящий профессиональный театр».
Впоследствии Чуковский изумлялся близкому знакомству Шварца с тем или иным экономистом, юрисконсультом или завклубом. «Это же бывший актер нашего театра», – каждый раз объяснял Шварц.
Сам он с головой ушел в литературную деятельность, близко познакомился со многими петербургскими литераторами, поначалу чуть ли не преклоняясь перед ними. Пришел он и к Маршаку со своей рукописью, гордо заявив, что уже печатался в газете «Всесоюзная кочегарка».
Маршак сравнил его впоследствии с пеной от шампанского, и слова эти произнес в качестве комплимента. Маршак помог Шварцу с первыми публикациями и даже с выходом первой детской книжки. Шварца наконец перестали воспринимать как малоизвестного актера или конферансье.
И все-таки он, обращаясь к драматургии, надеялся на какой-то реванш. Надо было оправдаться перед самим собой в собственных театральных неудачах. Пусть не актер, зато драматург!
16 июня 1928 года он прочел свою только что написанную пьесу на художественно-педагогическом совете ТЮЗа. Разгорелись жаркие споры. Пьеса вызвала целый ряд обвинений: в недостаточной глубине и современности сюжета, надуманности, вычурности речи персонажей. Сам Шварц очень бойко защищал свою пьесу, приводя в ответ критикам обоснованные аргументы и особо не церемонясь с ними.
Очевидно, недоброжелатели начинающего драматурга не знали, что он не так давно боролся с большевиками, а то бы обязательно припомнили ему и Ледяной поход.
Пьесу все-таки приняли к постановке большинством голосов, но вскоре был назначен новый худсовет, на который Евгений Шварц уже не явился. Сохранился протокол собрания.
Слова из выступления Анатолия Софронова на заседании правления Союза писателей СССР при рассмотрении дела Пастернака, которого обвиняли в публикации за границей «антисоветского» романа «Доктор Живаго», уже стали крылатой фразой: «Я роман не читал, но осуждаю».
Но некоторые выступления на художественно-педагогическом совете, посвященном шварцевской пьесе, мало чем отличаются от софроновского: «Пьесы не знаю. Опасаюсь похвал, ей расточенных. Плюсы, выдвигаемые защитниками, исчерпаются ее театральными и литературными качествами. Но ТЮЗ не должен ставить общественно-нулевую пьесу».
Впрочем были и те, кто пьесу внимательно прочел: «Пьеса по теме мало значительна, условно современна и вообще скорее анекдот. Театрально-интересный момент использования радио употреблен здесь по незначительному поводу… Спектакль будет только развлекательным, а посему я возражаю против включения в репертуар».
Протокол собрания – словно реплики героев абсурдистской пьесы.
Вот С. Дрейден сказал, что пьеса безвредна и не страшна, а ему ответил Г. Шевляков: «Так, значит, и не нужна».
То есть по логике выступающего, нужны детскому театру только вредные и страшные пьесы.
Далее Г. Шевляков продолжил: «…пьеса является пьесой без времени и простора, и посему как таковая не представляет ценности для ее включения в репертуар».
Однако, казалось бы, зарубленную пьесу впоследствии все-таки решили включить в тюзовский репертуар.
Зам. зав. ТЮЗа Дальский произнес такие слова: «В свое время я высказывался против этой пьесы по соображениям ее идеологической малоценности. И другие товарищи в Совете ее трактовали как мастерски сделанный анекдот. В настоящее время опыт нам показал, что пьесы с серьезной идеологически-ценной проблематикой темы превышают уровень понимания наших младших зрителей».
То есть наконец-то вспомнили о детях!
«По-видимому, вопрос о репертуаре следует разрешать в зависимости от конкретной обстановки. “Ундервуд” – единственная пьеса, которая при незначительных литературных изменениях может отвечать уровню понимания малышей. Из нее можно сделать занимательный спектакль».
Постановка «Ундервуда» была для постановщиков глотком свободы, и спектакль получился необыкновенно веселым, праздничным, воздушным…
«Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере “Ундервуда”, – вспоминал потом Шварц. – Я был ошеломлен, но запомнил особое послушное оживление зала, наслаждался им. Даже неумолимо строгие друзья мои хвалили. Житков, когда я вышел на вызовы, швырнул в общем шуме, особом, тюзовском, на сцену свою шапку. Я был счастлив».
Премьера спектакля, оглушительный успех был настоящим счастьем для Шварца. Теперь он не просто какой-то там начинающий литератор, он драматург, чья пьеса идет на сцене одного из ведущих театров города. Наконец-то и друзья смотрят на него по-настоящему уважительно, без всякого снисхождения, как на равного им. Счастье! Такое признание – счастье!
Правда, утром, придя в редакцию, Шварц услышал, как коллеги обсуждают текущие дела.
– Да вы с ума сошли! – с улыбкой произнес он, – обсуждайте лучше вчерашний спектакль!
А потом, вспоминал Шварц, «жизнь пошла так, будто никакой премьеры не было. И в моем опыте как будто ничего не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую – и так всю жизнь».
Но, в отличие от друзей, критики долго не забывали шварцевскую пьесу. Многие яростно обрушились на спектакль. «Мало идейности! Не показана жизнь пионерской организации! Зло здесь выступает куда ярче, чем Добро! Это дезориентирует маленького зрителя!»
Особо ополчились на спектакль «Ленинские искры». Спустя два с половиной года передовая детская газета, поздравляя ТЮЗ с десятилетним юбилеем, ехидно гордилась тем, что это она добилась исключения «Ундервуда» из репертуара театра.
«Автор и театр… искажали сущность пионерской организации. Только решительная критика со страниц газеты “Ленинские искры”, со стороны комсомольских и пионерских организаций и работников народного образования заставили ТЮЗ снять пьесу».
И эти слова прозвучали в праздничной юбилейной статье!
И все-таки Шварц избрал для себя путь советского драматурга. Слишком было велико счастье, пережитое им в стенах ТЮЗа в день премьеры «Ундервуда», чтобы не жаждать повторения тех блаженных минут.
Глава 6
Офицерская ул., 17/9, Английский проспект, 20 – Дмитрий Лихачев
Не много найдется среди наших современников имен, окруженных исключительным почтением, служащих своего рода нравственным ориентиром. Сам я неоднократно слышал, как в ответ на вопрос о том, что такое интеллигенция, те, кто не мог растолковать это не самое простое понятие, произносили в качестве примера имя Дмитрия Сергеевича Лихачева.
«Лихачев – вот что значит интеллигенция».
Валерий Попов, написавший книгу о Лихачеве, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей», предварил ее такими словами: «Много замечательных лиц мелькнуло в бурной истории последних десятилетий. Возникали и исчезали все новые “властители дум”, популярнейшие политики, которые, казалось, вот-вот создадут справедливое общество. Но бесспорная, безупречная истина, ясность идеала связаны в нашем сознании лишь с именем Лихачева. Любому обществу свойственна страстная тоска по человеку, которого можно бы взять за образец и – на этом успокоиться: вовсе не так уж и плохо у нас, есть же у нас… Лихачев! Совестливый, прямой, все понимающий – уж он никакую гадость не пропустит, не побоится и скажет вслух, а вслед за ним воспрянем и мы! В новой нашей истории много героев, но память оставляет из каждой эпохи одного, главного – остальные по разным причинам отпадают: кто оказался слабоват, упал на дистанции, другой, наоборот, слишком небескорыстно преуспел. Выстоял – Лихачев. Именно в нем собралось все лучшее, что ценится нами».
Далеко не все знакомы с трудами Д. С. Лихачева, но имя его остается символом и для тех, кто совершенно ничего не сможет сказать о его научной деятельности.
Ученик Дмитрия Сергеевича, теперь не только ученый, но и признанный писатель, Евгений Водолазкин, в интервью православному журналу «Фома», в обсуждении темы воспитания, вспомнил как раз своего наставника: «У Дмитрия Сергеевича Лихачева было счастливое детство, его очень любили родители, он получил “нежное” воспитание… Память о счастливом детстве укрывает от многих страшных событий. То, что мир бывает злым, жестоким, любой человек рано или поздно узнает (причем скорее рано, чем поздно – ведь помимо семьи есть же еще детский сад, школа, улица).
Но если у него не было запаса любви в детстве, то, столкнувшись со злом, он подумает, что вся жизнь такова, что ничего другого в ней нет, а значит, и жить незачем. Зачем этот мир, если он так скверно устроен? Но когда за спиной есть опыт счастливого детства, то понимаешь: есть ради чего жить и выживать, есть куда возвращаться».
Водолазкин уверен: именно счастливое детство помогло физически выжить и духовно выстоять Дмитрию Лихачеву, в 22 года оказавшемуся узником Соловецкого лагеря.
Самые теплые, нежные, счастливые воспоминания были связаны у Лихачева с доходным домом на углу Офицерской улицы (д. 17/9) и Прачечного переулка, недалеко от Львиного мостика. Здесь семья Лихачевых сняла пятикомнатную квартиру на втором этаже, когда маленькому Диме было всего несколько лет от роду.
«Мне было два или три года. Я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о Счастливом Гансе. Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих».
Одним из счастливейших воспоминаний в своей жизни назвал много лет спустя известный ученый один день: «Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. В одной из песен были такие слова:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой».
«Ясно помню, – говорил Д. С. Лихачев, – что слово “прощебечь” я пел как “прощебесь” и думал, что это кто-то кому-то приказывает “прочь с дороги”. Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки».
Очень многое довелось узнать и понять Лихачеву в Соловецком лагере. Он видел, как совсем рядом с ним рушатся жизни, ломаются судьбы. Но сам он был защищен – не знакомствами и связями, не могущественными покровителями или собственной физической силой – детством своим. «Ему, – говорит Е. Водолазкин, – удалось захватить с собой из Питера некоторые вещи, в том числе и детское одеяло. Им даже толком укрыться было невозможно, но оно согревало его не физически, а памятью».
Самое раннее детское воспоминание Д. Лихачева (семья его еще живет на Английском проспекте, в доме 20):
«Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка».
Счастливое детство – бесценный Дар, способный осветить всю жизнь, в какие бы темные бездны ни вела впоследствии судьба.
Так же и Владимир Набоков на чужбине не раз вспоминал свои счастливые детские годы и написал пронзительную книгу о жизни на родной земле. А в Берлине, где ему суждено было прожить долгие годы, вдалеке от дома детства, он создал рассказ-письмо, в котором ощущения героя тесно переплелись с его собственным чувствами:
«Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы – во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество».
Такому взгляду, способному различить отсвет небесной гармонии даже «в сыром, смазанном черным салом берлинском асфальте», может научить, пожалуй, только счастливое детство.
Глава 7
Малая Охта и Васильевский остров – Михаил Пришвин
Горький однажды сказал Михаилу Пришвину такие слова, какие никому кажется, еще не говорил: «Я счастлив, что живу с вами на одной планете». Ремизов, у которого Пришвин учился искусству слова, цитируя горьковские слова, восторженно воскликнул: «А как не восчувствовать и не полюбить Пришвина и всякому, для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, ямки, овражки, логи, кочки, хохолки – вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово – гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним это слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю».
Строчки его прозы – словно молитвенный шепот. Имя Михаила Пришвина стало едва ли не синонимом священного гимна природе.
Многие почитатели его творчества считают истоками чистой и прохладной, как река, прозы старинное имение Хрущево Орловской губернии Елецкого уезда. Там родился будущий писатель. В тех краях прошли его юные годы.
Биографы стали наперебой писать о поэтичности родовой усадьбы: «В тенистом парке липовая аллея ведет от террасы к пруду, другая, еловая – к усаженной розами горке с беседкой наверху. Замечательный вишенник и яблоневый сад»… Не иначе здесь, в этих райских кущах, на долгие годы обретал вдохновение будущий писатель!
Однако впоследствии Пришвин, готовя речь для юбилейного выступления, признался: оказывается, глубокое чувство природы его берет началом своим вовсе не родные края… Петербург! Петербург научил его особой зоркости.
Это в Петербурге он записал в дневнике: «Неведомо от чего – от блеснувшего на солнце накатанного кусочка тележной колеи, или от писка птички, пролетевшей над полями, или от облака, закрывшего солнце. Вдруг повеяло осенью, не той, которая придет к нам с новой нуждой и заботами, а всей осенью моей родины, с родными, и Пушкиным, и Некрасовым, с тетками, с бабами, с мужиками нашими, с дегтем, телегами, зайцами, и ярмаркой, и яблонями в саду нашем, и потом и с весной, и зимой, и летом, и со всеми надеждами и мечтами нераскрытого, полного любовью сердца».
Впервые он оказался в Петербурге в 1902 году. За плечами к этому времени – уже не только ребяческий побег в Америку и исключение из гимназии, но и долгое заключение в одиночной камере за революционную деятельность. В Петербурге Пришвин бывал еще не раз, порой задерживаясь очень надолго. Попробовал себя в роли секретаря крупного петербургского чиновника, в другой раз стал секретарем в министерстве торговли… Познакомился со множеством писателей, увидел своими глазами революционные события… Сменил ряд адресов.
Один из них в своих воспоминаниях упомянул Иван Соколов-Микитов: «Мы сблизились и очень часто встречались в семнадцатом году. В тот памятный год я приехал с фронта в залитый красными флагами, бурно и шумно кипевший Петроград. Время было необычайное. Помню, что жил я рядом с Ремизовым на Четырнадцатой линии Васильевского острова, в доме Семенова-Тян-Шанского, в одной из пустовавших квартир. Михаил Михайлович Пришвин – тогда еще кудрявый, подвижный, немного смахивавший на цыгана – обитал по соседству – на Тринадцатой линии, в крохотной однокомнатной квартире».
В недавно изданных дневниках Пришвина (пожалуй, самых масштабных в истории русской литературы) немало горьких наблюдений, тревожных предчувствий. Да и сам город далеко не всегда поминается с теплом, однажды он даже приравнен к тяжелому плену.
Но и в самые роковые дни, когда земля уходила из-под ног, когда, казалось, шатается все мироздание, Пришвин, живший в то время в Петербурге, записал в дневнике: «Сегодня утро сияющее и морозное и теплое на солнце – весна начинается, сколько свету». Многие писатели досадуют, негодуют, возмущаются, переживают из-за возникших вдруг сложностей с публикациями. Пришвин же и на бурлящий поток взирает так, словно это уютный камин…
«После дней революции я еще не напечатал ни одного своего слова, и мне радостно, что я еще ничего не сказал: как будто передо мною лежит огромное невспаханное поле девственной земли, и я, как многие пахари, теперь в марте осматриваю перед началом работ свою соху и потом выхожу на пригорок осмотреть поля», – записал он в дневнике.
Он оглядывается вокруг, и взгляд его не только цепко выхватывает подробности разразившихся социальных катастроф, но и бережно запечатлевает солнечной блеск, все еще отражающийся в осколках разбитого мироздания.
«Молоденькая парочка идет: казалось, что это давно-давно прошло, а вот она идет, и до того ясно, что это вечное. Вечная безумная попытка своим личным счастьем осчастливить весь мир».
Много лет спустя, готовя юбилейную речь, Михаил Пришвин написал, что только в Петербурге по-настоящему почувствовал родную землю.
«И потому этот город стал моей духовной родиной, и свою любовь к нему я так ревниво оберегал, что никто из самых внимательных моих читателей не догадался о происхождении моего чувства природы. Для множества людей чувство природы связано с чувством родины непосредственно, как это выразилось просто у Аксакова или у Мамина-Сибиряка. И только очень немногие понимают: бывает, как, например, у меня, чувство природы с особенной остротой зарождается в городе. Но я это свидетельствую, что мое чувство родины, и лучшие образы, и радость жизни, и признаваемое всеми здоровье моего словесного дела зародилось именно в “гнилой” природе Петербурга. И если я, изображая природу на Плещеевом озере близ Переславля-Залесского, ввел в календарь природы первое предчувствие весны и назвал ее “весной света”, то, конечно, я вывез эту весну из Петербурга».
Пришвин утверждал, что настоящая его литературная жизнь началась только в Петербурге, что именно этот город стал крестным отцом первых его творений. Вспоминая первое свое место долгого пребывания в Петербурге, он не жалел мрачных красок: «Я снял в 1905 году себе деревянное жилище в четыре комнаты за четырнадцать рублей в месяц на Киновийском проспекте Малой Охты. Этот проспект был крайней улицей города и выходил между вонючими свинарниками в пригородное болото. Грязь была на этом “проспекте” такая, что, помню, один редактор так и не доехал до меня: извозчик отказался ехать еще на Марьиной улице, и гость пришел ко мне, утопая по колено в грязи».
Но такие подробности писатель вспоминает не для того, чтобы упрекнуть город, а лишь затем, чтобы сказать: все это ничто по сравнению с теми счастливыми мгновениями, которые подарил ему Петербург.
Максим Горький, не просто симпатизировавший Пришвину, а преклонявшийся перед ним, не только признававший его талант масштабнее собственного, но и вовсе заявивший, что Пришвин стоит на ступень выше любого человека, в личном разговоре как-то сказал в ответ на рассказ Пришвина о своей жизни: «Да ведь у вас не жизнь, а житие». И посмотрел на писателя, как смотрят на явившегося чудесным образом святого блаженно верующие.
«Нет! – тут же горячо возразил Пришвин, – это совсем не так. Житие – это страданье, а я был счастлив, я был очарован мыслью о том, что мое прекраснейшее ремесло открывало мне путь к безграничной свободе. И о грязи Киновийского проспекта я рассказываю теперь только для того, чтобы знали: не порядок европейского города привлек меня в Петербург. Нет, я полюбил Петербург за свободу, за право творческой мечты. Везде во всей России, мне казалось тогда, за мною следят, глазеют мои родичи, везде я чувствую как бы родовое насилие над моей личностью, только в одном Петербурге мне было в России свободно. Начав свое любимое дело на Киновийском проспекте, я за него крепко уцепился, и оно стало мне делом жизни».
В Петербурге Пришвин сменил множество адресов. С Малой Охты перебрался на Песочную, с Песочной на Петербургскую сторону, а затем жил на Васильевском острове, который особенно полюбился ему.
«Удивительно, – восклицал Пришвин, – как много потрудились перья поэтов над изображением петербургских дождей, туманов, липкого мокрого снега и тревоги белых ночей».
Петербург виделся писателю совсем другим.
«Но почему, – спрашивал он, – мало кто обращает внимание на весну света в этом северном городе, когда первый небесный свет преображает чудесные, еще обеленные зимним снежком здания? Я не знаю ничего прекраснее весны света в Ленинграде, и всем своим роскошно-прекрасным бродяжничеством по нашей великой стране я обязан этой весне света».
Пришвин был убежден, что нигде весна не бывает так чиста и нежна, как в Петербурге.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?