Текст книги "Дом на берегу лагуны"
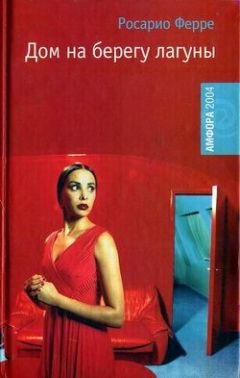
Автор книги: Росарио Ферре
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Росарио Ферре
Дом на берегу лагуны
Та из безжизненных теней, которой приблизиться <…>
Дашь ты, разумно с тобою начнет говорить, но безмолвно
Та от тебя удалится, которой <…> не пустишь,
Гомер. Одиссея, песнь XI Перевод В. А. Жуковского
Прежде чем я испытал подлинную страсть к женщине, сердцем моим управлял случай, и оно ожесточилось.
Хосе Эустасио Ривера. Пучина
Договор между Исабель и Кинтином
Моя бабушка всегда говорила: когда влюбляешься, надо внимательно присматриваться ко всем членам семьи, потому что обо всякую палку молено занозить себе палец, так что, как ни прискорбно, замуж выходишь не только за своего жениха, но и за его родителей, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек и за весь генетический клубок, который их породил, будь он неладен. Я. никак не хотела верить в это, даже после того, что случилось однажды, когда мы с Кинтином Мендисабалем были еще женихом и невестой.
Кинтин пришел с визитом в наш дом в Понсе. Мы сидели на террасе на плетеной софе и ощипывали индюшку, как это делали все женихи и невесты в те времена, как вдруг на другой стороне улицы какой-то юноша принялся петь любовные куплеты. Это был мальчик лет шестнадцати из одной известной в городе семьи – он был тайно влюблен в меня, но заговорить со мной не решался. Я несколько раз видела его издали на у лицах Понсе или во время праздников, но знакомы мы не были. Когда газеты поместили наши с Кинтином фотографии и сообщили о помолвке, бедняга узнал мое имя. Выяснить, где я живу, было не сложно, Понсе – город маленький, тут все знают друг друга
Прочитав эту новость, юноша впал в глубокую депрессию и утешался тем, что сидел под розовым дубом напротив нашего дома на улице Зари и пел «Полюби меня», да так красиво, что, казалось, его голос доносится из неземных миров. В тот вечер он пел в третий раз, и, к несчастью, Кинтин его услышал. Я сидела на софе, обтянутой кретоном, затканным алыми маками, и завороженно слушала, чувствуя, как прекрасная мелодия проникает сквозь начищенные завитки балконных решеток, будто угасающий серебристый луч, и думала о том, что, если существуют ангелы, голос у них должен быть именно такой.
Когда Кинтин услышал нежданную серенаду, им овладел приступ безудержной ярости, унаследованной от далеких предков. Он снял сафьяновый ремень и поднялся, неторопливо дошел до дверей и, пройдя через сад, где цвели пурпурные анютины глазки и клещевина, стал стегать ремнем незадачливого барда Я бросилась вслед за Кинтином умоляя, чтобы он перестал, но все было напрасно. Кинтин продолжал наносить удары бронзовой пряжкой, которая со свистом рассекала воздух, и методично, громким голосом считал удары. Я стала умолять мальчика чтобы он встал и попытался защищаться, но он этого не хотел. Он так и сидел на тротуаре, продолжая петь «Полюби меня», пока без чувств не упал на кирпичи, забрызгав их кровью. Пришлось вызывать «скорую помощь», чтобы отвезти его в больницу.
Вскоре после этого юноша перерезал себе вены навахой, но приблизиться ко мне он так и не попытался. Я чувствовала себя страшно виноватой и несколько недель сердилась на Кинтина за его страшную жестокость. Когда он приходил, я отказывалась его видеть, не отвечала на звонки, пока наконец он не появился в доме с огромным букетом белых орхидей.
– Скажите, что я молю ее о прощении столько раз, сколько здесь цветов, – сказал он моей матери, когда она открыла ему дверь, и попросил передать мне букет.
В конце концов я простила Кинтина, но моей семье понадобилось довольно много времени, чтобы прийти в себя после того случая с юношей.
Моя бабушка, донья Валентина Монфорт, теперь была против нашего брака
– Ты будешь горько раскаиваться, вот что я тебе скажу, – все повторяла она – На свете достаточно мужчин с добрым сердцем, необязательно бросаться в объятия первого попавшегося, кто носит штаны.
Бабушка которую я ласково называла Баби, не любила испанцев. После того случая с избиением она то и дело повторяла Кинтину, что он происходит из самого отсталого народа на земле и что если она когда-нибудь поедет в Испанию, то «лишь в случае крайней необходимости и тут же вернется обратно».
– В Испании никогда не было ни политической, ни промышленной революции, – говорила она мне сурово, – и твой дедушка, мир праху его, всегда считал трагедией, что именно испанцы завоевали Америку.
Этот эпизод надолго остался в моей памяти, хотя тогда я не склонна была рассматривать его как дурное предзнаменование. Но далее спустя годы, если я слышала ту самую песню, не могла удержаться от слез. Я вспоминала мальчика с чистым сердцем, который прекрасным пением хотел рассказать мне о своей любви. Мне следовало прислушаться к словам Баби и не забывать об ужасной истории семьи Мендисабаль, прежде чем мы с Кинтином предстали перед алтарем 4 июня 1955 года.
Тогда Кинтин был влюблен в меня всей душой После самоубийства юного барда с ним случился нервный срыв, он перестал спать. Он просыпался в поту, весь дрожа, с бьющимся сердцем. Однажды он пришел ко мне, сел рядом со мной на софу и расплакался как ребенок. Он умолял простить его за то, что он сделок Когда с ним случаются такие вещи, он чувствует себя так, будто внутри у него дьявол Он не хотел быть похожим на своего отца, деда и прадеда, которые унаследовали нрав первых конкистадоров, и, что хуже всего, еще и гордились этим. Если я не помогу ему спастись, этот ненавистный генетический изъян его погубит.
Об этом мы с Кинтином говорили в час сиесты, когда все в доме спали. После обеда домочадцы отправились по кроватям, не потрудившись даже раздеться. Жара, царившая в Понсе, улицы, пустынные в два часа дня, – все способствовало тому, чтобы среди кретоновых маков софы погрузиться в любовный дурман. Каждый поцелуй был лишь паузой, лишь отсрочкой на пути к разочарованию и смерти, которые, притаившись, караулили за дверью.
«Любовь – единственное средство против насилия, – сказал мне однажды Кинтин. – В семье Мендисабаль творились ужасные вещи, о которых мне нелегко забыть».
И тогда мы заключили договор. Мы внимательно обдумаем причины, порождавшие насилие в каждой из наших семей, и таким образом в своей совместной жизни постараемся избежать ошибок предков. В оставшиеся дни того лета мы с Кинтином провели много часов на софе в доме на улице Зари, держась за руки и шепотом рассказывая друг другу ужасные истории про наши семьи, пока бдительная Баби не начинала сновать туда-сюда по коридорам дома, принимаясь за свои повседневные дела.
Много лет спустя, когда мы уже жили в доме на берегу лагуны, я стала записывать некоторые из этих историй Моим первоначальным намерением было вплести воспоминания Кинтина в историю моей собственной семьи, однако в результате получилось нечто совсем иное.
Часть первая
Первоосновы
1. Источник Буэнавентуры
Когда Буэнавентура Мендисабаль появился на Острове, он смастерил себе на берегу лагуны Аламарес, на заброшенном участке земли, поросшем бурьяном, дощатую хижину с цинковой крышей и вознамерился там жить. Неподалеку был родник, из которого окрестные жители брали питьевую воду. Кто-то когда-то сделал для него каменное обрамление, и был человек, который заботился о его чистоте, поскольку родник считался общественной собственностью. Со временем, однако, люди перестали ходить к источнику, поскольку к Аламаресу протянули трубы городского водопровода. Хранитель источника, старик, больной артритом, хоть и жил рядом, совсем запустил его, и вскоре густые заросли высоченных сорняков окончательно его поглотили.
В полукилометре от того места начинались красавцы дома Аламареса, одного из самых элегантных пригородов Сан-Хуана. Аламарес занимал узкую полоску земли, которую из конца в конец пересекала авенида Понсе-де-Леон, и было у нее, как тогда говорили, два облика. Один, парадный и оживленный, был обращен на север, к Атлантическому океану и прекрасному пляжу с белым песком; другой, поскромнее и поспокойнее, смотрел на юг, на лагуну Аламарес, и пляжа там не было. Вблизи лагуны авенида граничила с бескрайними зарослями сорняка, глядя на которые было ясно, что в пределах видимости находится только их начало. Вот в этом-то укромном уголке, где лагуна погибала от бурьяна, и построил, появившись в Пуэрто-Рико, свою хижину Буэнавентура Мендисабаль.
В те времена на авениде Понсе-де-Леон с обеих сторон росли королевские пальмы. Дорога начиналась в Пуэнте-дель-Агуа, шла через квартал Дос-Эрманос, доходила до лагуны Аламарес и затем терялась у подножия синих гор в центральной части Острова. По ней в обоих направлениях двигались как открытые повозки, запряженные лошадьми, так и «штуцы», «паккарды» и «бентли», хозяева которых, похожие в черных автомобильных очках на филинов, внимательно наблюдавших за развитием цивилизации, вежливо приветствовали друг друга, сидя под широкими тентами из белого хлопка.
По вечерам няни с младенцами предпочитали прогуливаться именно там, по дорожке, которая шла вдоль авениды, невзирая на то что игривый ветер с Атлантики то и дело раздувал им чепцы и передники из органди. Чуть дальше океан яростно нападал на купальщиков, что отважно плавали, стараясь держать голову над водой. Но, когда в сумерках няньки возвращались домой по дороге, окаймлявшей лагуну, запах гниения, исходивший от низины, заросшей сорняком, внушал беспокойство. Они утверждали, что в час, когда солнце клонится к закату, они слышат, будто на болоте кто-то стонет, и что похоже это не то на стон умирающего, не то на плач новорожденного, и клялись, будто видели, как ближние заросли начинают таинственно светиться. По этой причине после наступления сумерек мало кто отваживался навещать полускрытую бурьяном хижину Буэнавентуры на краю лагуны.
Эти заросли представляли собой странное место, там произрастали самые экзотические образцы ботаники как водного, так и сухопутного происхождения. Среди буйной растительности обитали все известные науке виды птиц. Белые цапли водились там сотнями, и по вечерам верхушки зарослей казались сплошь покрытыми снегом. Частенько в поисках безопасного места для ночевки пролетали пеликаны, а иногда на самой высокой ветке можно было даже увидеть попугая гуарагуао с тигровыми глазами. Однако это была также и водная стихия с разбросанными на много миль вокруг узкими полосками и островками сухой земли. В лабиринте водорослей, под замшелыми обломками веток, плодилось множество ракообразных, моллюсков и рыб.
Место было малопригодно для навигации, несмотря на то что его из конца в конец пересекали многочисленные проливы. Если кому-то случалось заблудиться в чаще, выбраться было не просто. По самым широким проливам можно было в конце концов добраться до лагуны Приливов, названной так испанцами несколько веков назад. В XIX веке на берегах лагуны расположилось предприятие по перегонке рома, сентраль «Золотой мед», он сливал в лагуну зловонный осадок, превративший ее в болото. Сентраль вынужден был закрыться в начале XX века, но вода оставалась загаженной. Туда же впадали многие городские стоки; более экономично было сбрасывать сточные воды именно здесь, а не тянуть трубы до пляжей с белым песком, где уже начинали появляться туристы. На берегах лагуны Приливов вовсю разрасталось предместье Лас-Минас, одно из самых невзрачных мест города. Почти вся прислуга, работавшая в элегантных домах Аламареса, селилась в этих местах, нередко пробираясь к своим жилищам по лабиринту зарослей в резиновых ботах.
Однажды хранитель источника лагуны Аламарес был найден распростертым на земле рядом с каменным бордюром. Чья-то неизвестная рука проломила ему череп. Газеты поместили об этом маленькую заметку, на которую никто особенно не обратил внимания, и вскоре о происшествии забыли. Буэнавентура Мендисабаль перебрался в дом хранителя, и никто против этого не возражал. Он очистил источник от зарослей, и тот снова стал пригодным для использования; он вырубил также заросли вокруг дома. В это-то скромное бунгало и переехала жить Ребека Арриготия после того, как вышла замуж за Буэнавентуру, презрев роскошный дом своих родителей, – так она была влюблена в своего мужа.
Смерть хранителя источника обернулась везением для тех мест. В начале Первой мировой войны бухту Сан-Хуана заполнили торговые суда, а также военные суда морского флота Соединенных Штатов, которые курсировали вдоль стен крепости Сан-Фелипе-дель-Морро и бросали якорь совсем близко от лагуны Аламарес. Кораблей было столько, что городской водопровод не справлялся с поставками воды, так что очень скоро капитаны торговых испанских судов, таких, например, как «Пречистая Дева» или «Святая Дева Ковадонгская», появились в доме Буэнавентуры, чтобы договориться с ним о продаже воды из источника.
Буэнавентура счел своим долгом помочь им и сделал все возможное, к их полному удовольствию. На двадцать миль в округе другого источника питьевой воды не было, не говоря уже о том, что испанские торговые суда обеспечивались в последнюю очередь, поскольку городские власти в первую очередь беспокоились об обеспечении судов, ходивших под североамериканским флагом. Однако, несмотря на то что американское влияние все росло, никто не был заинтересован в том, чтобы портить отношения с Испанией. Население Острова, как и прежде, предпочитало безвкусной стряпне американцев паэлью из Валенсии, свиную колбасу с перцем из Сеговии, слоеные, вытянутые в длинную спираль булочки с Майорки и разные другие испанские кушанья.
Буэнавентура, считавший себя, прежде всего, преданным родине испанцем, не требовал от своих соотечественников, чтобы они платили наличными. Он предпочитал обменивать воду из источника, которая перетекала в деревянные бидоны, на ящики с вином из Риохи и Логроньо, которое он затем продавал в городе за приличную цену. Его расчетливая доброжелательность имела такой успех, что уже через несколько месяцев по прибытии на Остров он собрал достаточно денег, чтобы построить рядом со своим домом маленький магазинчик. В нем торговали тем самым вином, ветчиной, которую стали привозить из Вальдевердехи, его родной деревни, спаржей из Аранхуэса, марципаном и халвой из Аликанте и изысканными маслинами, приготовленными в Севилье, – с острым перцем, луком и миндалем, – чьи зеленые глазки с красными и белыми точечками, когда Буэнавентура смотрел на шеренги баночек на полках своего магазина, радовали его взор.
Почти все продукты Буэнавентура нелегально привозил на Остров на мелководных баркасах, которые загружались товаром у песчаной отмели Лукуми, где испанские суда бросали якорь на несколько часов, чтобы потом следовать в порт Сан-Хуана. Затем весь товар доставляли через заросли в Аламарес, где Буэнавентура разгружал его и бережно хранил у себя на складе.
2. Как Буэнавентура появился на Острове
Буэнавентура высадился с корабля «Святая Дева Ковадонгская», имея за плечами ровно двадцать три года и ни единого сентаво в кармане. Он был круглым сиротой с пятнадцати лет, и воспитывали его две пожилые тетушки, старые девы, которых он оставил в Испании. Он был видным юношей. Высокого роста – сто восемьдесят сантиметров, – с бронзовой от загара кожей и такими синими глазами, что так и хотелось нырнуть в их глубину всякий раз, когда он на вас смотрел. Кинтин, когда мы еще были женихом и невестой, рассказывал мне историю его появления на Острове и потом, через много лет, иногда повторял ее нашим детям, чтобы те знали, кто они такие и откуда родом.
Пересекая Атлантику, Буэнавентура все спрашивал себя, что же это за остров такой – Пуэрто-Рико? Кое-что об истории Карибских островов он прочитал еще до того, как снялся с якоря в Кадисе, но о многом узнал из первых рук – от тех, кто путешествовал по тамошним местам. К тому времени испано-американская война уже девятнадцать лет как закончилась, однако была еще свежа в памяти многих испанцев. Буэнавентура знал, что Испания не на жизнь, а на смерть дралась за Кубу, самую прекрасную жемчужину Короны. В 1763 году, после окончания Семилетней войны, Испания поменяла Кубу, которая была тогда в руках англичан, на Флориду. Столетие спустя тысячи испанцев сложили головы в Пунта-Брава, Дос-Риос и Камагуэе во время кровавой битвы с кубинцами, поднявшими революционный мятеж. Кубу Испания потеряла, так что оставалось плыть только в Пуэрто-Рико. «Может, остров такой невзрачный, что не было и смысла за него драться? – так думал Буэнавентура. – Или Испания к концу войны с американцами так выдохлась, что уже не было сил бороться?»
Буэнавентура прибыл в порт Сан-Хуана 4 июля 1917 года. Как раз в те дни президент Вильсон собирался подписать закон Джонса и для этого послал гонцов за золотым пером дона Луиса Муньоса Риверы, Чрезвычайного уполномоченного в Вашингтоне, – но тот только что скончался. Луис Муньос Ривера был любимым поэтом Острова и сумел с помощью разных сложных фокусов благорасположить к себе иностранцев в американском Конгрессе, а сам при этом пришпоривал кобылу островной независимости.
Как раз когда «Святая Дева Ковадонгская» приближалась к порту, начинались – и с большим шумом – празднества в честь этого великого события: принятия закона Джонса. Теперь каждый пуэрториканец имел право на американский паспорт, этот могущественный талисман, вызывавший зависть всех иностранцев, потому что он открывал двери в широкий мир. С момента высадки американцев в Гуанике в 1898 году мы знали, что можем передвигаться только внутри ограниченного сегмента. Испания предоставила нам автономию за полгода до своего поражения в испано-американской войне, однако пуэрториканцы не сумели воспользоваться своими гражданскими правами. До того мы путешествовали с испанскими паспортами, которые по окончании войны стали недействительными.
«Быть гражданами никакой страны – наверняка не слишком приятно, – размышлял Буэнавентура, разглядывая из-под палубного навеса окруженный внушительными стенами красивый город, который медленно приближался к нему. – И что самое плохое, еще и не поехать никуда». Он слышал, говорили, будто большая часть населения Острова – иммигранты, люди с Канарских и Балеарских островов, из Каталонии, а также французы и корсиканцы. Иные приехали из Венесуэлы и с близлежащих островов, гонимые очередной войной за независимость, неизбежно несущей разорение, если не смерть, нормальным людям. Пуэрториканцы привыкли перемещаться с острова на остров, с континента на континент, будто птицы, для которых естественная форма существования – перелет с одного места на другое. Теперь любое путешествие для них означало целый комплекс сложных уловок, чрезвычайно затратную коммерческую сделку, и то, что у них не было паспорта, становилось причиной быстрого обнищания.
Буэнавентура понаблюдал, как погружается в воду якорь, похожий на стрелу, пущенную в морские глубины. Жить пленником на территории в двести семьдесят квадратных километров – площадь Острова согласно атласу, с которым он сверился, отплывая из Испании, – это, должно быть, ужасно. Именно так и жили пуэрториканцы последние девятнадцать лет. Поэтому-то весть о том, что они получают американское гражданство, а также паспорт с золотым орлом на обложке вызвала такое невероятно шумное ликование. Отныне паспорт будет служить им волшебным щитом; они смогут поехать в любую страну мира, пусть даже в самую опасную или в самую экзотическую; они имеют право требовать политического убежища в посольстве Соединенных Штатах, и посол обязан им помогать в любой ситуации.
Буэнавентура сошел на берег с корабля «Святая Дева Ковадонгская», когда утро было уже в разгаре, и направился в Пунтилью, местечко, примыкавшее к порту Сан-Хуана на самом берегу бухты. Как раз там, где испанские торговцы держали свои магазины. Тетя Кончита написала ему адрес дона Мигеля Сантиэстебана на бумажке, которую Буэнавентура аккуратно сложил и спрятал в карман брюк. Донья Эстер, жена дона Мигеля, приходилась подругой тетушкам Анхелите и Кончите. Супружеская чета Сантиэстебанов эмигрировала из Эстремадуры тридцать лет назад, и дела у них шли неплохо. Дон Мигель занимался торговлей и, судя по его письму, мог предоставить юноше пристанище у себя в магазине на несколько дней, пока тот не найдет работу.
Буэнавентура нашел наконец дом дона Мигеля, но двери были закрыты. Он постучал кулаком в парадную дверь, но никто не отозвался. Тогда он подошел к жандарму, обходившему дозором квартал, и представился дальним родственником хозяина, приехавшим из Эстремадуры. Жандарм смерил его взглядом с головы до ног и убедился, что он говорит правду: пиджак из толстого серого габардина и грубые крестьянские башмаки были тому залогом – ни один житель Острова, будучи в здравом уме, такое не наденет. Он открыл дверь магазина и разрешил оставить там пожитки. Буэнавентура поблагодарил его, надел шляпу, купленную в Кордове, и бодро зашагал по улице туда, где празднование было в самом разгаре.
Стояла дьявольская жара, и обезумевшие пеликаны погибали, пикируя сверху в воды бухты, подобные расплавленному металлу. Буэнавентура прошел вдоль берега до самого порта, где полюбовался на «Миссисипи» и «Вирджинию», паровые суда ньюйоркско-пуэрториканской судостроительной компании, украшенные гирляндами флажков, которые весело развевались на ветру. Он дошел до здания Федерального почтамта и осмотрел розовый особняк, принадлежавший таможне. Это было роскошное здание с витиеватой лепниной цвета гуайабы, идущей вдоль крыши, и таким же лепным фризом из грейпфрутов и ананасов, которые гирляндами свисали с оконных рам.
Рядом с таможней располагалось здание Национального банка в стиле греческих храмов с коринфскими колоннами. Под сенью огромного индийского лавра, который рос посреди площади, прямо с разноцветных тележек торговали какими-то бутербродами, по-видимому очень вкусными, поскольку очередь за ними растянулась до самого здания почтамта. Буэнавентура спросил, что такое hot dog, и, когда ему сказали, что это означает «горячая собака», рассмеялся. Он купил один бутерброд и съел. Что-то между итальянской салями и немецкой колбасой; однако, с таким названием, кто знает, из чего это может быть. Несколько торговцев продавали пиво, привезенное в бочках, но Буэнавентуре оно не понравилось, потому что было тепловатым. Он бы что угодно дал за стаканчик красного вина из Вальдевердехи и в конце концов согласился на стакан вина из сахарного тростника, которое показалось ему очень вкусным.
Он шел вверх по улице Танка и чувствовал, что голубоватая брусчатка у него под ногами ходит ходуном, будто морской прибой. Он направился к ближайшему проспекту, по которому, как он слышал, пройдет парад в честь дня Четвертого июля. Огромная толпа собралась, чтобы не пропустить такое зрелище. Какая-то сеньора в накрахмаленном белоснежном головном уборе с вышитым красным крестом подошла к нему и протянула американский флажок.
– Машите флажком, когда мимо будет проезжать губернатор Ягер в открытом «студебеккере», и кричите: «God bless America!»[1]1
Господи, благослови Америку! (англ.)
[Закрыть] – сказала она Буэнавентуре с энтузиазмом. Тот взял флажок и поблагодарил сеньору, вежливо приподняв шляпу.
Совсем близко строилось новое здание Капитолия, купол которого, когда его закончат, будет «точной копией купола Монтичелло, что на доме президента Томаса Джефферсона», как с гордостью сообщил ему какой-то прохожий. Буэнавентура подошел к строящемуся зданию и даже поднялся на несколько ступенек. Оттуда ему были видны повозки, запряженные мулами и украшенные американскими флажками до самых колес; на каждой повозке сидела красивая девушка с голубой лентой через плечо, на которой глазурью было выведено название каждого из американских штатов. Тротуары по обеим сторонам проспекта были заполнены детьми, которые размахивали флажками всякий раз, когда проезжала новая повозка. Больше всего шума было, когда проходил Дядюшка Сэм – он был на ходулях, в красивых шелковых брюках в красно-белую полоску и в цилиндре, украшенном звездами. Он пригоршнями разбрасывал новенькие сентаво, и они блестели на мостовой будто золотые.
Буэнавентура с интересом разглядывал людей, толпившихся вокруг. Он собирался остаться жить на этом острове, и чем скорее он начнет знакомиться с окружающей обстановкой, тем для него будет полезнее. Напротив нового Капитолия начали строить большую деревянную церковь, но пока не закончили. Важные чиновники, расположившиеся на паперти церкви, так же как и солдаты на параде, были, несомненно, иностранцы: высокие крепкие блондины. А вот толпа на тротуарах состояла из людей среднего роста и худощавого телосложения. Те, что сидели в машинах и лаковых шарабанах с кожаными сиденьями и смотрели на парад из-под откидного верха, были одеты по последней европейской моде: мужчины в костюмах из черного сукна, женщины – в белых льняных платьях с кружевным воротничком и манжетами. Те же, кому оставалось только стоять на тротуаре, обращали на себя внимание худобой, как будто питались они мало и плохо, однако выглядели они при этом веселыми и счастливыми. Большинство было босиком и в соломенных шляпах с обтрепанными краями, загнутыми кверху.
На почетном месте перед церковью сидел губернатор – высокий сеньор во фраке, с цилиндром в руке и усами, похожими на велосипедные ручки, а с ним сеньора в широкополой соломенной шляпке, украшенной бутонами роз и вуалеткой, похожей на москитную сетку. Кадеты шагали за морскими гвардейцами, чеканя шаг в ритме «Всегда верны» Филипа Соусы, примкнув штыки к правому плечу и лаковому козырьку красной фуражки. Музыка была такая заводная, что буквально мурашки по коже бегали. Буэнавентуре захотелось пристроиться к кадетам и зашагать вместе с ними. Нестерпимая жара, солнце, от которого плавились мозги, пронзительные крики детей – все это было неважно, – так радостно звенели рожки, звучали трубы и гудели барабаны в едином порыве национального воодушевления.
Во всем этом было столько простодушной чистоты, веры в будущее, в скорое процветание, что это поразило Буэнавентуру. Испания была отживающей страной, где дома разрушались от старости вместе с их жителями. В его родной Вальдевердехе воду развозили по улицам в глиняных сосудах, перекинутых через спину осла, а транспортом служили повозки, запряженные мулами. В Испании уже никто не верил никому и ни во что: вера в Бога сохранялась лишь для поддержания внешних приличий, а всеобщее разочарование было написано на лбу у каждого из ее жителей с незапамятных времен. Здесь же, напротив, эти улыбающиеся молодые лица являли собой стремление все преодолеть, от них веяло такой же радостью, какую он слышал в словах сеньоры из Красного Креста: «God bless America, and America will bless you!»[2]2
Господи, благослови Америку, и пусть Америка благословит вас! (англ.)
[Закрыть]
Буэнавентура все еще стоял, разглядывая толпу, когда услышал сообщение по громкоговорителю – те, кто хочет записаться добровольцами в армию Соединенных Штатов, могут сделать это сегодня же. Пункты записи находятся в конце авениды Понсе-де-Леон, под огромным портретом Дяди Сэма, куда и надлежит явиться заинтересованным лицам по окончании парада. Буэнавентура подумал, что туда вряд ли кто явится, и, услышав подобное сообщение, рассмеялся про себя, приняв его за какую-то особенную шутку. Однако все было наоборот. Запись началась сразу же по окончании парада, и за три часа уже набралась квота, положенная для новых территорий.
«Видно, у них есть причины уезжать отсюда, – так объяснял это Буэнавентура на следующий день в письме своему другу. – Подозреваю, здесь поголоднее будет, чем в Вальдевердехе. Не захочешь – поверишь в это, когда увидишь, с каким рвением мужчины бросились строиться перед «Буфордом», военно-транспортным судном Соединенных Штатов, которое стояло на якоре у набережной. Случись такое в Эстремадуре, я бы не удивился, – что взять с выжженной степи, покрытой серой пылью? Но здесь, на Острове, голода быть не должно. Здесь растительность королевская, стоит только присесть в любом месте и высрать несколько семечек гуайабо, как на следующий день тут же раскинется целое дерево с цветами и фруктами. А уж сейчас тем более, когда американцы вкладывают в Остров тысячи долларов. Это настоящий рай для стяжателей; наверняка здесь не только земля в руках у буржуазии, но даже вода и воздух».
В Испании Буэнавентура получил удостоверение счетовода, но на Острове оно не имело силы, поскольку не отвечало федеральным требованиям. И все-таки этот документ означал, что чему-то Буэнавентура обучен, и потому на следующий день по прибытии он с удостоверением в кармане отправился искать работу. У причала он увидел судно, груженное бочками с ромом, которые матросы сбрасывали за борт, следуя указаниям многочисленных правительственных чиновников, наблюдавших за этой операцией с мола. Он поинтересовался, что они делают, и ему ответили, что хозяин судна выполняет «сухой закон», только что вступивший в силу на Острове. Буэнавентура подивился островитянам, выполняющим закон с таким усердием. Это было нелепо. Они привыкли пить ром с колыбели, и если теперь перестанут это делать, то не станут от этого лучшими американскими гражданами.
Он нанял повозку, чтобы объехать окрестности, и, когда тронулся в путь, различил вдали двухэтажное здание с круглым фасадом, выкрашенное в густо-зеленый цвет, откуда слышались громкие крики. Он спросил, что там такое.
– Там гальера, – ответил ему возница. – Вот-вот начнутся петушиные бои.
Буэнавентура слез с повозки. На гальере было полно мужчин, которые пили ром и кричали. Очевидно, на гальере сухой закон не действовал и здесь никого не интересовало, сочтут его законопослушным американским гражданином или нет.
Двое мужчин, сидя на корточках, держали каждый своего петуха, – один был золотистый, с красными и желтыми перьями, другой, наоборот, весь какой-то однотонный, серый, – и раздували им зоб, с силой дыша винными парами прямо в клюв, чтобы разозлить их еще сильнее. Оба петуха были облезлые, с ободранными гребешками, на шее и лапах перьев не было вообще, так что взорам открывалось живое мясо, красное, как ачиоте. Мужчины отпустили петухов, которые тут же взвились в воздух и сцепились друг с другом. В Вальдевердехе Буэнавентура был завсегдатаем корриды, однако тут у него подкосились ноги. Когда золотистый петух вспорол другому петуху брюхо и тот потащил свои кишки по опилкам, Буэнавентура почувствовал тошноту и вышел во двор. Там среди маков его вырвало, он вытер платком холодный пот со лба и снова забрался в повозку. Когда они отъехали на приличное расстояние, он услышал сирену и, обернувшись, увидел, как к гальере подъехала патрульная машина и из нее, расталкивая всех, вышли полицейские.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































