Текст книги "Пир в одиночку"
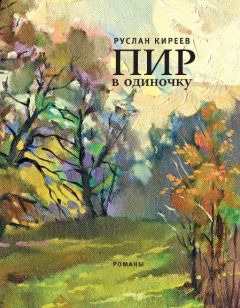
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Прежде они нередко обижали его. Почему-то им не давала покоя белая полотняная кепочка, какую надевал он, когда пекло солнце. Из предосторожности надевал: часто у него ни с того ни с сего начинала идти носом кровь. Запрокинув удлиненную, похожую на баклажан голову, одной рукой прижимал к лицу скомканный, не первой свежести платок, другой придерживал, чтоб не свалился, свой стариковский картузик.
На него-то и покушались однокашники. Срывали, подкидывали высоко, а он безропотно ловил и надевал снова. Но все это – пока не умерла мать. Она умерла, и его сразу же оставили в покое. Навсегда.
Был ли он рад этому? Прежде даже вопроса такого не возникало у К-ова, но потом, когда стал перебирать в памяти историю Лушина, когда в папке, на которой было выведено крупно «Лушин», поднакопилось множество записей, заподозрил, что было в новом отношении к Лушину однокашников и нечто для Лушина неприятное.
Так всегда. Лишь за письменным столом постигал всерьез всю глубину и многозначность жизни. Слышал запахи, которые в ту минуту, то есть минуту, хрупко воссоздаваемую им сейчас с помощью слов, от него ускользнули. Различал звуки, что прошли тогда мимо его сознания, – тот же легкий звон уголька, упавшего с печи на прибитый к полу лист жести. Да и всю головокружительную сладость путешествия, которое он совершал на бабушке, вымытый, облаченный в чистую рубашонку, беллетрист, собственно, тоже вкусил лишь впоследствии, когда, мучаясь от бессилия, пытался путешествие это запечатлеть…
Едва ли не всех своих близких описал мало-помалу в повестях и романах. И бабушку. И сестру ее Валентину Потаповну. И супруга Валентины Потаповны Дмитрия Филипповича, единственного мужчину в его тогдашнем окружении.
И свою мать-хабалку… Вот только собственная его персона если и появлялась иногда, то лишь на периферии повествования. На самом-самом краешке полотна. Неким карандашным наброском ощущал себя, в то время как в жизни, в реальной жизни, царствовали те, кто был очерчен сочно и грубо.
Он на эту полнокровную жизнь смотрел со стороны, как бы поверх ограды (или сквозь нее, прижавшись лбом к холодному металлу), а там, за оградой, играл разухабистый оркестр, смеялись девушки, кружились в вальсе влюбленные пары. Если угодно, то была танцевальная площадка, но он не чувствовал за собой права ступить на огороженную чугунной решеткой территорию.
Впрочем, если говорить о конкретной танцплощадке, о той, что располагалась в городском саду, возле которого Лушин и К-ов жили, то здесь никаких чугунных решеток не было. Кустарный забор, наполовину деревянный, наполовину металлический, настил из струганых досок, сменившийся позже цементным покрытием, невысокая эстрада в форме раковины. Ни микрофонов, ни усилителей, но они, кажется, и не требовались. Все всё слышали, хотя шарканье полустертых подошв и заглушало подчас нехитрую музыку.
Оба – и К-ов, и Лушин – мечтали, что когда-нибудь тоже будут там, на заветном пятачке, и не через забор махнут, не между прутьями продавят себя, обдираясь в кровь, а войдут, как люди, в калитку. А пока что… Пока что, устав от одурманивающего созерцания и доверчиво принимая эту усталость за пресыщение, со светлой печалью на душе – печалью отверженных – расходились в одиночку по своим углам. Лушин открытки перебирал – он коллекционировал открытки с видами старого города, а К-ов принимался за сочинительство. Ви-Ватов описывал. Не себя и не свои неправильные чувства, а Ви-Ватов.
Под разными именами действовали они – сперва в набросках и небольших рассказиках, потом, спустя годы, – в пространных опусах. К-ов поражался: какую легкость обретал вдруг его заплетающийся язык! Какую напористость! Ба, неужто это он говорит? Глаза его блестели, брызги чернил летели из-под пера. На первой парте сидел он – собственной персоной. Однако и сам он, и его отличники прекрасно понимали, что он тут – птица залетная. Что он, лицедействуя, лишь примеряет на себя их сверкающую одежку, по-настоящему же воплотиться в кого-нибудь из них ему заказано. Не по Сеньке шапка…
Между тем жавшаяся на краю полотна маленькая фигурка нет-нет да пошевеливалась. Озираясь, шажок делала, другой и снова замирала надолго.
Всякая автобиография, полагал К-ов, даже самая объективная, даже самая беспощадная, – это перемещение с некой условной периферии в столь же в общем-то условный, но центр. Не зря ведь, продолжал рассуждать беллетрист, Антон Чехов избегал подобных писаний. Не зря выдумал для себя болезнь автобиографофобию, и К-ов отнюдь не воспринимал это как шутку.
Сорок с лишним было ему, точнее, сорок четыре – чеховский возраст! – когда отправился паломником в Таганрог. Некогда самый ясный, самый прозрачный русский классик сделался для него к тому времени писателем наитаинственнейшим. Он не понимал, к примеру, отчего Чехов, уже известный литератор, приехав после долгого отсутствия в родной город, не удосужился за две недели хотя бы краем глаза взглянуть на дом, в котором двадцать семь лет назад появился на свет божий.
К-ов в доме этом был. Бродил по беленым комнатенкам с низкими потолками и припоминал в смятении другое свое паломничество – в среднеазиатский городок, где родился когда-то. Сколько слышал о нем будущий сочинитель – и от бабушки, и от Валентины Потаповны, и от матери, периодически возникающей в их доме! Сколько раз выводил в официальных бумагах неблагозвучное для русского слуха название! Однако неблагозвучие замечалось им лишь при посторонних, а так короткое слово это ассоциировалось с чем-то зеленым, журчащим, солнечным… Сродни другим замечательным словам было оно, таким, как кишмиш, кишлак, арык. Он мечтал, что когда-нибудь побывает там. И вот сбылось… Это была та самая поездка – первая его поездка в Среднюю Азию, – когда он лицезрел у мазара на окраине Бухары молящихся старцев.
Закончив дело, не в Москву купил он билет, а в свой город. Свой! Вот здесь-то уж, на этой земле, название его не звучало экзотично. Впервые видел его не у себя в паспорте, не в анкете рядом со своей фамилией, а отдельно от себя, в бесстрастном аэрофлотовском расписании. Кассирша-узбечка не удивилась, когда пассажир произнес его, не переспросила, не глянула удивленно. Нечто реальное означало оно (во что там, где жил он, не очень-то верили), и, стало быть, реальностью был он сам.
Летели в обществе овцы, которая вела себя так спокойно, будто всю жизнь путешествовала над облаками. Печальная морда ее мягко тыкалась в колени К-ова. Это не раздражало его. Не сетовал он и на медлительность самолетика, словно бы зависшего над хлопковыми плантациями.
Мудрая ли нерасточительность была это? Понимание, что лучше, чем сейчас, все равно не будет? Или, может быть, предчувствовал, что город, о котором он столько грезил, не то что разочарует его, нет, – хотя, конечно, и разочарует тоже, но как бы не совпадет с собственным названием?
Беллетрист давно заметил, что слова, причем не обязательно названия городов, вообще слова, волнуют его сильнее, нежели то, что слова эти обозначают. Они, как-никак призраки, исподволь оттесняли реальность, вынужденную проходить – и чем дальше, тем неотвратимей – жестокую цензуру языка. Пропускалось лишь то, чему находился фонетический эквивалент, словесный маленький кирпичик. Из таких вот микроскопических элементов и воссоздавался – заново! – разобранный, разрушенный, расщепленный мир. Разве что схваченное в детстве уцелело в неприкосновенности. Например, крупная, черная, зернисто поблескивающая ежевика, которую он собирал на откосе заброшенного шоссе. Не слово, не эфемерный звук – ягода. Он помнил ее вкус. Он помнил оскомину от несозревшего, розового, твердого кизила, гладенького и теплого: до самой косточки прогревало августовское солнце.
И на кизил, и на ежевику натыкался, предпринимая в одиночестве дальние вылазки – походы, как он торжественно именовал их с тех пор, когда его в наказание за разбитую в классе лампочку (с первого раза попал!) не взяли в пещерный городок.
Вот то был настоящий поход – с ночевкой под открытым небом, с костром, с печеной картошкой, – о ней почему-то говорили больше всего. Предвкушали, как будут выкатывать ее палочкой из жарких угольков, и подбрасывать на ладони, и дуть, и посыпать сольцой, хотя, доказывали некоторые, можно и без соли… К-ов делал вид, что не слушает, резиночкой играл, натянутой между большим и указательным пальцами. (Из нее-то и пальнул по лампочке.) И вдруг – голос Ви-Вата. Сперва не голос даже, сперва взгляд, тревожный, участливый взгляд, от которого опальному снайперу сделалось жарко. «Может, – услышал он, – к завучу сходить?»
Резиночка завибрировала, как струна. К-ов отпустил ее. «Зачем?» – усмехнулся, хотя прекрасно знал – зачем и даже сам подумывал, не сходить ли. «Борис Андрианович простит», – объяснил Витя Ватов.
Добрый, благородный Ви-Ват! Только бы не догадался он, как любит его хабалкин сын… Не оттого ли и не пошел к завучу, а вот в поход – пошел, один, украдкой сунув в карман бублик и что-то наврав бабушке.
Так это началось. Обычно в горы отправлялся, по лесистым лазил холмам, но когда гостили с бабушкой у ее младшей дочери (благополучной – в отличие от матери К-ова) в приморском курортном городке, куда после перебралась, поменяв квартиру, и бабушка, а следом за ней приехала и дочь-хабалка, то здесь уже маршрут был иным. Через лиман, по старой дамбе… Ни души вокруг, печет солнце, перенасыщенная солью вода мертва – ни рыбешки, ни головастика, мертво белесое небо, и лишь с далекого берега, на котором, как шатры, темнеют кусты дикой маслины, долетает, овевая лицо, жаркий ветер. Там степь, но ветер не несет ее ароматов: их убивает пряный запах рапы. Высоко подымая босые ноги, перешагивает он через ржавую проволоку, туго стягивающую покрытые солью деревянные борта дамбы. Когда-то она была до краев засыпана землей, но с годами земля ссохлась, потрескалась и осела. И вот уже он не перешагивает через проволоку, а скачет по ней, с одной перевязи на другую, очень быстро, потому что иначе не удержишь равновесия, да и горячая, скрученная, жесткая, слегка пружинящая проволока вопьется, чуть замешкаешь, в незащищенные ступни.
Удивительно: по прошествии лет эти ближние вылазки, эти, по сути дела, блуждания в окрестностях виделись ему как путешествия куда более дальние, нежели командировочные вояжи через всю страну.
Городок, куда его после нескольких часов лету доставил хрупкий самолетик с десятком молчаливых пассажиров на борту и печальной овцой, оказался не чем-то журчащим, зеленым, солнечным, а сухим и пыльным городом, оглушившим пилигрима треском мотоциклов. Пахло жареным мясом, луком пахло, уксусом: едва ли не на каждом углу дымился мангал, а то и два, рядом же непременно располагалась чайхана. Минул день, и поосмотревшийся беллетрист отважно вошел в одну. «Черный, зеленый?» – проронил хозяин, ошпаривая толстой струей заварочный чайник с наставленным жестяным носиком.
Уже сам вопрос давал понять, что он чужой здесь. Своих не спрашивали, своим молча наливали, лишь звякала привязанная к ручке щербатая крышка… «Зеленый», – твердо ответил К-ов. Скинув туфли (знаем, мол, обычаи! знаем и уважаем), расположился с ногами на потертом ковре. И зеленый чай пришелся по вкусу (с тех пор, работая, пил только зеленый), и ленивое спокойствие вокруг, и язык, которого он не понимал (почти не понимал, ибо мелькало вдруг русское слово), но который все же не казался ему чужим.
Рядом пристроился с чайником и бледной плоской лепешкой молодой узбек. Обычно К-ов не заговаривал первым, но тут всегдашняя застенчивость оставила его. Слово за слово, и скоро он, хвастун, упомянул будто невзначай, что родился здесь.
Узбек посмотрел на него с недоверием. Тогда К-ов достал паспорт, раскрыл где полагается и молча протянул земляку. Тот внимательно прочел из его рук, качнул головой и стал медленно рвать на части лепешку. Не ломать – рвать… Налив на донышко пиалы чаю, осведомился, где жил он. На какой улице.
Сокрушенно развел пилигрим руками. Маленький, дескать, был, не помнит… В тот же день послал телеграмму бабушке, и бабушка ответила: в районе мясокомбината. Не без труда разузнал, где это, поехал (грязный, с выбитыми стеклами автобус тащился что-то около часу), и здесь выяснилось, что мясокомбинат-то – новый, лет пять как пустили, а тот, прежний, дымил и вонял едва ли не в центре. К-ов туда отправился. Долго бродил по длинной широкой улице, застроенной одноэтажными, совсем как в средней полосе, домами, часто останавливался, переходил с одной стороны на другую – то прыгая, то просто перешагивая через канаву, что тянулась вдоль дороги. Это и был арык, но ничего, увы, не журчало в его пересохшем русле. Гнила прошлогодняя листва, обрывки газет желтели, посверкивали консервные банки со вспоротыми крышками. За саманным забором кричал осел. Завершив дневные труды, стояли у распахнутых калиток пожилые русские тетеньки, и сочинитель книг, у которого в этом городе чудесно развязался язык, легко заговаривал то с одной, то с другой. Жили ли они здесь, спрашивал, во время войны, и если жили, то не помнят ли случайно таких-то? Эвакуированная семья с восемнадцатилетней дочерью, у которой родился мальчик. «Да ведь здесь, – словоохотливо отвечали ему, – знаете сколько было эвакуированных!» Но уточняли все же, где именно жили (если б знал он!), фамилию переспрашивали. Щурили глаза, как бы вглядываясь сквозь дымку в то далекое время.
Ах, как хотелось К-ову, чтобы они вспомнили! Не его теперешнего, нет, а того, маленького… Как хотелось пробиться взором за тот красноводский предел, за пустынную ту дорогу, по которой тащилась в солнечный апрельский день подвода с некрашеным гробом!
Вообще-то кое-что о том времени он знал. Бабушка рассказывала… Рассказывала, как однажды вернулся с дедом из бани, молча к ведру с водой протопал, зачерпнул кружку и выпил не отрываясь. Крякнул, как мужичок, снова зачерпнул и снова выпил – до дна! Она часто вспоминала эту идиллическую картинку, часто и с удовольствием, но вот что вспоминала только ее и еще ну два, ну три, ну четыре эпизода, смутно настораживало стремительно взрослеющего внука. Сама бедность воспоминаний, их назойливая повторяемость свидетельствовали, по-видимому, о нежелании переводить взгляд на другое. Бабушка явно умалчивала о чем-то; К-ов рано почувствовал это, но любопытство, как ни странно, не подтачивало его, он не стремился узнать, инстинктивно оберегая взлелеянный в его душе счастливый докрасноводский мирок.
Центром этого мирка был дед. Добрый, умный, великодушный дед, ласковый и отважный. В двух толстенных альбомах хранилось множество его фотографий, которые будущий романист рассматривал с гордостью и восторгом. Вот молодой военный в глухо застегнутой шинели и высокой, с поблескивающим козырьком фуражке, на которой светится красноармейская звезда. Вот он же – во френче, также глухо застегнутом, перетянутом портупеей. А вот – на госпитальной койке, безволосая грудь обнажена и левая рука в гипсе. Восемнадцатый то был год, двадцатый или, скажем, двадцать второй – К-ов не знал, для него эти различия в датах не имели значения, но он знал, что именно тогда дед потерял здоровье. Туберкулезом обзавелся, который его в конце концов и свел в могилу. А еще знал К-ов, что дед был прекрасным семьянином. Любил жену, детей любил, а уж во внуке и вовсе души не чаял. О нем якобы были его последние слова. Береги, наказывал бабушке, внука…
В числе двух или трех неустанно прокручиваемых эпизодов был и такой. С работы приходит дед, громко спрашивает в дверях: а где мой внука (не внук – внука), и тот с щенячьим визгом выкатывается навстречу. В руках у деда то желтая, невероятной величины груша, то отборный урюк, а то и кусочек сахара, подлинный деликатес по тем временам. Хабалкин сын, разумеется, ничего этого не помнил, но, лежа в темноте у нагретой стены, за которой стучала конфорками бабушка, улыбался и сглатывал слюну…
То же, наверное, происходило с Лушиным. К-ов не сомневался, что именно в прошлое был устремлен взор осиротевшего мальчика, в чудесное прошлое, где жила, и разговаривала, и смеялась мама. Одна лишь мама, без отца – отец выскользнул из прошлого в настоящее и в этом настоящем сгинул, перестал существовать для сына, как только привел в дом пучеглазую рыжую толстуху с бородавкой на шее. По сути дела, не матери, а отца лишился Володя Лушин – мать осталась. Отца… У К-ва же его и не было никогда, не было даже в семейных альбомах, а если он, глупенький, пытался что-либо выведать у бабушки, та сердилась. «Отец! Только и умел, что на голове стоять!»
Это не иносказательно говорилось, это (что на голове стоял) говорилось в самом что ни на есть прямом смысле слова. Ибо акробатом был родитель К-ова. Профессиональным циркачом… Трюкачом профессиональным… Вот и заморочил голову несовершеннолетней девочке, тогда еще не хабалке, наобещал с три короба, а тут война. Классический, словом, разыгрался сюжет: с заезжим гастролером сбежала барышня… Так определила ситуацию начитанная Валентина Потаповна, бабушкина сестра, добавив при этом, что как было не сбежать, если в доме скандалы что ни день и пьяная ругань!
К-ов оцепенело молчал. Скандалы? Ругань? Нож, которым он размазывал масло, замер в руке, и тогда двоюродная бабушка отобрала его и намазала сама – щедро, толстым слоем, благо скуповатого, зорко следящего за своей расточительной супругой Дмитрия Филипповича не было рядом.
К-ов сосредоточенно взял бутерброд. «А кто скандалил?»– произнес, прежде чем откусить, – будто ему это было не так уж и важно. Вспугнуть боялся разоткровенничавшуюся Валентину Потаповну.
Валентина Потаповна объяснила. Он уже достаточно взрослый, сказала она, поэтому должен знать правду.
Скандалил дед… «Дед?» – хотел переспросить К-ов, но не мог. Проглотить тоже не мог – так и сидел с полным ртом, глядел ошеломленно в синие честные глаза старой женщины, которая, знал он, любит его. Своих детей у нее не было…
Да, дед, подтвердила она, и он, увидев, как трудно говорить ей, с усилием зажевал, задвигался – лишь бы не замолчала… Скандалил дед. Сцены ревности устраивал, швырял что под руку попадется и раз угодил тяжелой металлической пепельницей в двухгодовалого Стасика. «В дядю Стаею?» – испугался К-ов, но испугался не за дядю Стаею, которого в глаза пока что не видел (ничего, скоро объявится), испугался за деда. Чувствовал: дед уходит из его жизни. Растворяется, как призрак…
«Ешь! – сказала, вздохнув, Валентина Потаповна и показала глазами на царский бутерброд. – В школу пора».
Он откусил послушно, еще откусил, но в школу в тот день так и не попал. Слонялся с портфелем по городу… Проще всего, конечно, было не поверить услышанному, но на памяти его не было случая, чтобы добрая, справедливая тетя Валя сказала неправду. Притомившись, на какой-то ящик опустился (кажется, из-под помидоров), поставил у ног обшарпанный портфель с бечевой вместо ручки и долго сидел так. Дул ветер, по низкому небу неслись облака, неподалеку возилась и кудахтала курица. Он был один в мире, совершенно один, и ему почудилось вдруг, что он разучился говорить. Забыл человеческий язык… Отдельные слова помнил и понимал (например, пепельница: металлическая пепельница), а язык забыл и никогда уже не сумеет ни с кем объясниться.
Удивительно, но это не испугало его. Не ввергло в панику… Некоторое даже спокойствие снизошло на десятилетнего шкета, очутившегося, по сути дела, на необитаемом острове. Он открыл портфель, достал яблоко, которое сунула ему Валентина Потаповна, и медленно вонзил в него зубы. Такого вкусного яблока он, пожалуй, не едал больше никогда.
Один проницательный критик, из молодых, определил общую черту его героев как странное и пугающее одиночество. Ну, что пугающее – это понятно, а почему странное? Потому, видимо, что многие из них отличались потрясающей контактностью… Критик так и написал: потрясающей. Тут явно о Ви-Ватах шла речь, а вообще-то герои его (не Ви-Ваты, другие) были больше чем одиноки, поскольку одиночество – это все же наличие хотя бы одного человека. Это принятие хотя бы одного человека – например, самого себя, они же себя не принимали. Стеснялись себя. Подчас даже себя ненавидели – за неправильность свою. За ту позорную радость среди траурных шепотков… За чудовищную зависть к мальчику, у которого умерла мать. Не сбежала, не вильнула хвостом, а умерла и, значит, осталась с ним навсегда. Взяла его, мертвая, под свою защиту.
Все вдруг оставили его в покое. Разом! Никто больше не срывал с головы белой кепочки. Никто не приставал… Один – на перемене, один – за партой, один – из школы домой, хотя с тем же К-овым, например, им было по пути.
Реставрируя шаг за шагом жизнь своего героя, романист пришел к выводу, что и дома тоже он был один. Уже через два месяца после смерти жены (в первоначальных набросках – через пять) отец привел в свой подвальчик (вернее, полуподвальчик: Лушины жили в так называемом цокольном этаже) ту самую рыжую толстуху. Даже не сняв шляпки, по-хозяйски огляделась она, шмыгнула с неудовольствием носом и сказала: «Но здесь же темно!»
К выключателю бросился отец. В абажуре засветилась желтая лампочка. «Вот! Можно читать, можно играть».
Гостья удивленно поворочала круглыми глазами. «Во что играть?» – «Играть!» – И с гордостью простер руку в сторону пианино, единственного в квартире предмета роскоши.
Играть толстуха отказалась. Но пыль с пианино стерла. И с тумбочки тоже… И с этажерки… Она была поразительной чистюлей и, прежде чем сесть за стол, на который расторопный вдовец взгромоздил вскипевший на примусе закопченный чайник, просмотрела на свет один за одним все стаканы. Таз потребовала и, засучив рукава, принялась отмывать посуду. Всю воду извела, так что пришлось Лушину-младшему тащиться в соседний двор к колонке.
Это как раз был двор К-ова. Визг стоял на площадке, смех – играли в «охотников и зайцев». Черный мячик, отскочив от кого-то, подкатился к ногам будущего прототипа, но тот равнодушно обошел его. Точно не десятилетний мальчуган был это, не ровесник беснующейся детворы, а пресыщенный жизнью старец. Да еще эта белая кепочка…
За мячом К-ов побежал. «Привет!» – бросил на ходу, разгоряченный, счастливый, принятый в игру, а не принятый Лушин глянул на него из-под полуопущенных, как у птицы, век, сказал «здравствуй» и прошествовал дальше. Только звякнуло большое, залатанное свежей жестью ведро.
В тот же день – а может быть, не в тот, может быть, неделю или полторы спустя – Володя Лушин, но уже не реальный, уже персонаж, брел куда глаза глядят и очутился в конце концов на окраине. Среди мертвых колючек возилась, кудахтал, рыжая курица. Какие-то ящики валялись – видимо, из-под овощей (на шершавых планках, писал К-ов, розовела высохшая помидорная кожица), там и сям торчали из жухлой травы крупные обломки камня-ракушечника. Осторожно присел он, а рядом, на соседнем камне, дремала, сложив крылышки, блеклая бабочка. Он достал из кармана яблоко, медленно вытер о заштопанную рубашку и медленно, сосредоточенно съел. «Столь вкусного яблока…» – продолжал романист, но капризное перо дрогнуло и остановилось.
Что-то не так было здесь. Какая-то ложь, хотя писал он чистую правду.
Тридцать лет минуло, как принципиальная Валентина Потаповна открыла ему глаза на деда… больше, чем тридцать, но он отлично помнил все. Помнил, как блуждал в тот день по городу, помнил пустырь и обмякший портфель с бечевой вместо ручки. Помнил странное ощущение, будто он разучился говорить, однако – и это он тоже помнил! – не страшно было ему, а как-то тошно. (Незадолго перед смертью бабушка пожаловалась врачу: «Тошно мне…») А потом вдруг словно очнулся, словно проснулся и с радостной, звериной какой-то остротой ощутил брызжущий из-под зубов сок, прохладный и пенящийся (кандиль – называлось яблоко), различил запах пересохшей земли, по которой сновал, не ведая о нем, двуногом великане, юркий муравьиный народец, услышал озабоченное кудахтанье иного, чем он, рыжего существа…
К-ов медленно огляделся. Вверху неслись розовато-желтые облака, внизу сквозили высокие, причудливой формы колючки и все так же хлопотала о чем-то нарядная курица… Да, пускай он не такой, как все, да, пускай он родился в городе, которого нет на свете (тогда ему казалось, что нет), но все же он родился, он существует, он видит и слышит, он осязает – разве этого мало? В одиночку готов пировать он, коли они не хотят его, однако нелепые слова эти (про пир в одиночку) лишь мелькнули в голове беллетриста, но на бумагу не легли, как не легла перед этим фраза о вкусном яблоке. Все правдой было – все-все, но правдой его, а не Лушина. Лушин, почувствовал обескураженный сочинитель, без аппетита съел извлеченный из кармана кисловатый плод, поднялся, отряхнул штаны и отправился домой, где его ждала недовязанная авоська.
Эти большие, как рыболовная сеть, разноцветные авоськи плел в прежние времена отец и сам же продавал по воскресеньям на рынке. Среди инвалидов-колясочников отирался он, что торговали глиняными копилками, леденцами на палочке и школьными, вдесятеро дороже, тетрадями. Он и сам был инвалидом, хотя никаких внешних зазубрин война на нем не оставила… Но все это в прежние времена. После смерти жены он так ни разу и не взял в руки нити, начатую же и на половине брошенную авоську закончил сын, уже тогда не по возрасту педантичный. Случайно ее увидела соседка, купила за гроши и вскорости заказала еще одну, то ли на дешевизну польстившись, то ли просто из сострадания к сироте. Так и пошло… Прочны и красивы были изделия Володи Лушина, цену же сам не называл никогда. Что дадут, за то и спасибо. Мачеха, решил великодушно автор, не покушалась на деньги, которые зарабатывал его герой, так что все они уходили на открытки с видом старого города. Со временем их набралось штук триста, а началась эта уникальная коллекция с полдюжины карточек, случайно подаренных близкой подругой покойной матери…
Беллетрист знал эту женщину. В их дворе жила, в дальнем закутке, за мусорным ящиком. Дочерью Тортилы была она, высохшей старухи, широкоскулое лицо которой темнело по вечерам в глубине распахнутого настежь окна. Рядом восседал на подоконнике кот-красавец, холеный и мудрый. Время от времени он спрыгивал на травку, прогуливался, задрав пушистый хвост, а обеспокоенная хозяйка высовывала из окна голову. Ни дать ни взять черепаха.
Неизвестно, кто первым подметил сходство, во всяком случае, не будущий литератор, потому что вначале он не понимал даже, почему собственно Тортила, откуда сие заморское прозвище, и, лишь прочитав, с изрядным запозданием, «Золотой ключик», весело удивился, до чего же метко припечатали.
Вообще-то дочерей у Тортилы было две, но младшая вышла замуж и жила отдельно, а старшая прозябала с матерью в мрачном и темном, похожем на панцирь доме.
К-ов бывал в нем. Не один, в составе мальчишеской делегации, которая обходила соседей, выманивая денежки. То на мяч – большой, с камерой, как у настоящих спортсменов, то на волейбольную сетку… К иным, впрочем, не заглядывали, ибо знали: не дадут. Как ни растолковывай исключительность и важность мероприятия, как ни шурши деловито бумажками, придававшими их миссии (надеялись они!) официальный характер, скопидомы не желали раскошеливаться. Но были и другие дома – там не просто давали, а давали щедро.
К числу этих чадолюбивых домов относилось и угрюмое обиталище старой Тортилы. Сама она, правда, денег не давала – не отказывала, но и не давала, вообще не произносила ни звука, и, если была одна дома (кот, разумеется, не в счет), малолетние предприниматели уходили ни с чем.
Деньги давала Тортилова дочь. Торопливо как-то, виновато, будто не давала, а брала, и очень смущалась, когда, во исполнение все того же ритуала, ее просили расписаться. Зачем? Она им верит… Но они упорствовали, и добрая женщина, не умея отказать, брала у них разграфленный листок, книгу подкладывала – книги тут где только не лежали! – и ставила узкую, сжавшуюся от стыда закорючку.
Да, где только не лежали книги, причем некоторые были раскрыты и вдруг сами по себе с шелестом перелистывались. Как живые… Тортилова дочь и относилась к ним как к живым – начинающий сочинитель понял это, когда пристрастился ходить в читальный зал, где она работала. Бережно выносила из-за стеллажей разновеликие фолианты – по одному, по два, не больше, а если какого не оказывалось на месте, шептала простуженно: «В переплете. Скоро вернется». Будто в самоволку улизнул…
Однажды, совсем еще мальчишкой, К-ов с изумлением увидел ее на танцплощадке. (Той самой! В городском саду.) С изумлением, поскольку не раз слышал от бабушки: «Старая дева!» – а это для него было все равно что старуха. И вдруг – на танцах!
У самого забора стояла она, как-то отдельно от всех, в синем платье, которого он на ней прежде не замечал. Стояла и улыбалась – не так чтобы явно, не открыто, но все-таки улыбалась.
Сквозь нарядную толпу пробирался по направлению к ней мужчина – сейчас, сейчас пригласит… Юный разведчик даже на цыпочки привстал, так хотелось, чтобы пригласили (соседка как-никак!), но мужчина прошел мимо, словно не узнав ее… Потом еще один не узнал и еще, и для всех она как бы держала наготове улыбку. Как бы загодя прощала это их неузнавание, только все время, заметил наблюдательный К-ов, трогала зачем-то бусы. Бусы были самодельными, из белых ракушек.
Через несколько дней они перекочевали к племяннице. Маленькая модница разгуливала в них, чуть прихрамывая, по чужому двору (то есть двору К-ова), а рядом шествовал на веревочке флегматичный кот. «Бедная девчушка!» – переживала сердобольная Валентина Потаповна, но бедной внучка Тортилы отнюдь не выглядела. Кажется, она не замечала даже своей хромоты…
Наведывалась она к бабушке часто – или даже не столько к бабушке, которая как сидела в своем окне, так и сидела, сколько к тете, – поэтому открытки с видом старого города достались бы наверняка ей, не зайди однажды к Тортиловой дочери сын покойной подруги, неразговорчивый мальчик в белой стариковской кепочке. Увлекся, разглядывая их, вот ему и сказали: «Возьми, если хочешь».
Лушин взял. Подолгу изучал каждую, а после бродил в одиночестве по городу, отыскивая запечатленные на этих ветхих карточках дома и деревья. Дома за утекшие десятилетия сделались как бы меньше, вросли в землю, деревья, наоборот, выросли, но, если присмотреться и напрячь немного фантазию, то сквозь позднейшие наслоения проступал-таки прежний вид. Лушин узнавал его, узнавал в том самом смысле слова, какой вкладывал в него филолог К-ов, отмеченный, как и Тортилова дочь, клеймом неузнанности.









































