Текст книги "Пир в одиночку"
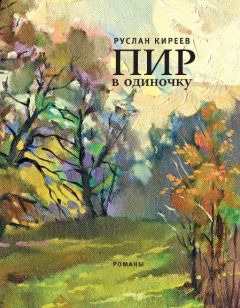
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Открытие это потрясло беллетриста. Если уж Толстой не сумел, то что с него взять? Почему-то вспоминалось вдруг, как, голенький и мокрый, топтал он, осторожно поворачиваясь под полотенцем, расстеленную на табуретке смятую рубашку, а тем временем другая, свежая, грелась у печи. Обхватив крепкую бабушкину шею, путешествовал по воздуху в уже разобранную постель. Рубашонка задиралась – та самая, нагретая, но он не стеснялся своей наготы. То была нагота легкая, радостная, веселая, нагота входящего в мир человека – полная противоположность тяжелой, насильственной наготе человека уходящего. Насильственной, потому что бабушка (а, думая о человеке уходящем, К-ов всякий раз представлял себе бабушку), потому что бабушка, чистюля и великая целомудренница, из последних сил старалась утаить от посторонних глаз свою изношенную плоть. Ей шевелиться-то не разрешали, а она порывалась встать и сама дотащиться до уборной. К-ов отчитывал ее, как ребенка, и она не оправдывалась, она молчала, но такая мука стояла в ее ввалившихся глазах, когда он ловко – и откуда только взялось! – подсовывал судно. Тонкая – вот-вот обломится, фиолетовая от уколов и капельниц рука придерживала, и поправляла, и натягивала одеяло. Стыдливость, как и любовь к нему, тоже пережила страх смерти…
Все домашнее отняли у нее, лишь ночную рубашку дозволили, и она, отдыхая после каждого слова, подробно объяснила, какую именно принести. «Голубую… с кружавчиками… В шкафу, слева…» Он без труда нашел (вещи слушались ее даже на расстоянии), сопалатннцы помогли облачиться, и бабушка, утомленная этой трудной процедурой, опустилась наконец на высокую подушку. Счастливая, отдохновенно прикрыла глаза.
Не было, кажется, в доме Свифта ни единой трапезы, чтобы сестры Пантелеевны, Елизавета и Марья, не завели разговора о сидящей в дальнем углу чете новобрачных. «Я-то перетрухнула нынче! – делилась одна с другой. – Мотоцикл, думала, а это голубочек наш. Трусцой… В шортах!» Уплетая кашу, сестра любопытствовала, почему мотоцикл. «А треск потому что… Как у мотоцикла!» Елизавета (а может, Марья) не слишком удивлялась, но все же уточняла, проглотив, чего это он трещать вздумал. «Он! Не он трещит – косточки его трещат».
К-ов помалкивал, глядя в тарелку. В тот же день он встретил голубочков на набережной. Семидесятилетний бегун гордо вышагивал под ноябрьским солнцем рядом с цветущей своей супругой, и оба… К-ов даже глазам своим не поверил, но, подойдя ближе, убедился, что нет, глаза не обманывают: молодожены держали в руках по петушку на палочке. Кустарные лакомства эти продавались тут же, на парапете, из грязноватой корзины, и кто, кроме детей, мог польститься на них, но вот могли, оказывается. Могли! Оба так аппетитно облизывали уже утратившие форму леденцы, в которых янтарно горело холодное солнце, что К-ов, не выдержав, тоже купил себе. Нетерпеливо целлофан развернул, коснулся языком гладкой поверхности. Было приторно и липко. Невкусно… Он дошел до ближайшей урны и незаметно опустил в нее целехонький петушок.
Набережная упиралась в гору, вплотную подступавшую здесь к морю. Можно было сойти по лестнице вниз, на узкий, пустынный сейчас пляж, а можно было, наоборот, вверх подняться, где беспорядочно лепились среди поредевшей зелени беленые домики. К-ов вверх пошел. Море опускалось, и синева его становилась все гуще, волны распрямлялись, а белый катерок как бы подтягивался к берегу. Досужий пансионер остановился, чтобы перевести дух, и долго смотрел сверху…
Накануне к нему пожаловала в гости мать, которой он послал из дома Свифта вежливую открыточку. Несколько приветливых слов: я здесь, мол, на обратном пути, быть может, заскочу, но у него и в мыслях не было, что приедет она. Как-никак пять часов на автобусе.
Но она приехала. Возвращаясь с утренней прогулки, он увидел у фонтана – того самого, в виде лягушки – сидящую на скамейке среди золотых и багряных листьев грузную женщину. Просто женщину, не мать, и то, что он не сразу узнал ее, устыдило К-ова. «Богатая будешь!» – и чмокнул холодную, напудренную, чуть вздувшуюся (ела что-то) щеку.
Мать торопливо смяла бумагу с остатками еды, стряхнула крошки. «Не позавтракала… В половине шестого…» Он мягко перебил ее: «Ты прекрасно выглядишь, мама! Совсем молодая…»
Она польщенно улыбнулась. Молодым, однако, было только ее одеяние: светлая, с блестками, шляпа, кремовое пальто, огненный, как листья, шарф. «Какая ты умница, что приехала!» Он правда был рад ей и лелеял эту радость, не отпускал от себя, как бы компенсируя давешнее свое неузнавание. «Прошу вас!» – и, галантный кавалер, взял со скамейки тяжелую, спортивного покроя сумку.
Наверх поднялись, он усадил даму в кресло, вскипятил чай и принялся с преувеличенным аппетитом уплетать привезенное ею черешневое варенье. «Твое любимое», – напомнила она. (Вот! И она, как настоящая мать, знает, что любит, а чего не любит ее чадо.) Тут же устыдилась своего хвастовства, посетовала, что жидковатым вышло.
Сын уверил, что вовсе не жидкое – в самый раз. Их взгляды встретились и поспешно разошлись, разбежались, но он успел заметить расплывшуюся в морщинах у виска черную косметическую краску. Розеткой служила полиэтиленовая крышка, он подчистую выскреб ее и положил еще. Его не покидало ощущение, что все это уже было когда-то: и пансионат, где орали по ночам коты и шушукались старухи, и сиротливое это чаепитие, и тяжело сидящая в казенном кресле старая женщина, от которой ушел ее последний поклонник, капитан Ляль, и которой очень хотелось почувствовать себя, хоть ненадолго, матерью. Было все это, было, вот разве что не в реальной жизни, а в его сочинениях. Нет, он нигде не описывал – пока что! – дома Свифта с его злоязычными обитательницами, не выстраивал – тоже пока что! – хитроумного диалога о варенье, где в каждом слове таилась маленькая ложь, хотя и он, и ока говорили вроде бы правду, но, прокладывая в будущее судьбы своих героинь, прообразом которых стала его матушка, уготавливал им всякий раз такую вот печальную старость. К-ов напряженно поднялся, подошел к раковине и, открыв кран, отчего вздрогнул и завибрировал весь дом, тщательно прополоскал стакан. Не первый раз сбывалось его пророчество, но к тайной авторской гордости примешивалось – и чем дальше, тем отчетливей – сознание странной своей причастности к уже не воображаемой, не сочиненной, а реальной вполне судьбе.
Прототипы его, мать в том числе, редко узнавали себя, а если и узнавали, то не сердились, хотя склонный к шаржированию летописец отнюдь не льстил им. Читая, они улыбались. (Так улыбается человек, когда видит себя, нелепо дергающегося, с обеззвученным ртом, на любительском киноэкране.) Главное-то в них, не без оснований полагали они, осталось незамеченным. Посмеивались над простодушным сочинителем, но он не обижался. Ему казалось, они сошли со страниц его сочинений. Не потому ли и был с ними как-то особенно добр и особенно терпим? Словно заглаживал невольную вину свою перед ними… Чуял: вина есть. Нельзя, грех писать о дышащих, ходящих по земле людях…
Или, может быть, не с ними вовсе был он добр и терпим, не с реальными людьми, а со своими наполовину списанными, наполовину выдуманными героями? Лишь их и жалел по-настоящему. Лишь им сострадал, даже виноватым. Любил их – и мать тоже! – но любил необременительно, на безопасном расстоянии, в книгах своих, и при случае книги эти как бы инсценировал. «Варенье замечательное, мама! Я еще ложечку… Как там капитан Ляль?»
Мама отвечала, что дала капитану отставку. К другой ушел, обливаясь слезами, но сердце, разумеется, осталось с нею. И еще осталась – что мама подчеркивала особо – морская офицерская форма, которую он, щеголь, натягивал, бывало, по праздничным дням.
Теперь не натянул бы… Растолстел с новой супружницей. Обрюзг… «В мятых штанах ходит!» – с презрением бросала мать, и сын, которому капитан Ляль утюжил когда-то брюки, понимающе качал головой.
Весь техникум потешался, наблюдая, как перемещается по жердочке-мосточку бледный юноша. Весь техникум жужжал, что Лушинек, дескать, втюрился в Людочку Попову. И только сама Людочка, выманившая его, неуклюжего, на опасный мосток, делала вид, что ничегошеньки не замечает.
В громоздком и скучном расписании уроков не значилось так называемой практической езды, но был ли хоть кто-то, кто не ждал бы с нетерпением, когда придет его черед сесть за руль учебного автомобиля? Был. Такой учащийся был. Обреченно устраивался в кабину рядом с инструктором, обреченно обводил взглядом щиток приборов. А инструктор, златозубый мужик по кличке Шалопай, вопрошал с улыбочкой: «Ну-с, молодой человек! Лихачить будем?»
Подтрунивал над Лушиным. (Ибо то был, конечно же, Лушин.) Подтрунивал, поскольку так вяло, так медленно, так осторожно не ездил больше никто. Даже на совершенно прямой и совершенно пустой трассе не выжимал больше сорока километров. И вдруг – о чудо! Не взгромоздился с неохотой, а взлетел – прямо-таки взлетел! – на высокое сиденье, расположился по-хозяйски, решительно на стартер нажал, и задребезжавший автомобиль рванул с места. Шалопай раскрыл от удивления рот. («В кабине, – писал романист, – так и полыхнуло золотом…»)
К-ов думал об этой сцене с вожделением. Как бы тяжек и монотонен ни был путь, по которому в одиночестве тащится наугад усталый сочинитель, где-то на горизонте ему обязательно светит пусть слабый, но огонек. Вот там-то уж он переведет дух! Вот там-то уж погреет окоченелые руки… В нарождающемся романе, заведомо скучном (как и название его; как и герой), таким волшебным огоньком была для автора внезапная, бурная, нелепая в своей наивности, смешная, безнадежная лушинская любовь…
Выпучив глаза, инструктор до отказа утопил дублирующие педали. «Шалопай! Того, что ли?» – и яростно постучал по лбу костяшками пальцев.
Черное рулевое колесо под сжимавшими его тонкими пальцами стало еще чернее. (Или это пальцы побелели?) «Я прошу вас… – выговорил бессловесный, безответный Володя Лушин. – Я прошу вас не называть меня шалопаем».
Изумленный инструктор медленно надел очки. Карточку достал, проверил, тот ли это учащийся. Тот… Лушин Владимир Семенович, четвертый курс.
Тот, да не тот… Сроду не курил (ни в школе, ни во дворе – уж К-ов-то знал), а тут достает вдруг на перемене пачку «Беломора», небрежно вытаскивает двумя пальцами папироску, небрежно в рот сует. Прикуривает (тоже небрежно) и тотчас возвращает левую руку обратно в карман, где она с некоторых пор сидела у него постоянно. Точь-в-точь как у Пиджачка. И так же голову набок склоняет. И так же ходит… Даже одно веко стало как бы ниже другого.
От былой застенчивости не осталось и следа. Громко смеялся, пробовал сам шутить (тут уж не смеялся никто) и раз даже набрался духу пригласить даму своего сердца на танец.
То есть уверенным шагом вошел в центр того самого круга, на который прежде тихо и печально взирал вместе с К-овым со стороны. Правда, не в парке случилось это, не на городской танцплощадке, куда они, было время, приходили порознь, порознь стояли и порознь потом возвращались домой, к стишкам своим и своим открыточкам, – не на танцплощадке, а в техникумовском клубе, в самый разгар вечера, когда, ко всеобщему ликованию, на крохотной сцене появился – впервые! – еще не сыгравшийся, с новенькими инструментами, квартет. Мечта Сергея Сергеевича сбылась-таки…
Он тоже был здесь – маэстро, кудесник, вождь. Скромно у двери стоял со склоненной набок умной (гениальной, по мнению его питомцев) головой. Одна рука покоилась, как всегда, в кармане брюк, другая время от времени прикрывала триумфально поблескивающий из-под века глаз.
Кто в техникуме не знал этого торжествующего блеска! Кто не помнил его!
Жизнь баловала Пиджачка. То девочка с первого курса, косоглазенькая замухрышка, которую он уговорил поучаствовать в хореографической сценке, нежданно-негаданно исполняет в паузе между репетициями итальянскую песню; лысина Сергея Сергеевича багровеет, он дважды звучно хлопает в ладоши и провозглашает в наступившей тишине: «Блестяще!» (Людочка Попова, чья слава в самом зените, ослепительно и неподвижно улыбается.) То разворачивает утром газету, а в ней стихи, под которыми значится: учащийся автомобильного техникума. Десять экземпляров покупает на радостях преподаватель литературы, целую пачку, и, войдя в аудиторию, бухает ее на стол, за которым сидит именинник. А затем без запиночки декламирует его опус, все двенадцать строк, и декламирует так, что хоть слово «блестяще» и не звучит на сей раз, незримое присутствие его стихотворец угадывает…
Впоследствии он посылал Сергею Сергеевичу все свои книги. Или посылал, или, наезжая, сам заносил в техникум, где постаревший Пиджачок все так же выискивал среди будущих автомехаников великих певцов, великих чтецов и великих музыкантов. (Этих особенно: квартет мало-помалу разросся до небольшого оркестра.) Голова его еще ниже клонилась к плечу, больное веко совсем отяжелело, но иногда все же подымалось, и пиратский глаз вдохновенно и светло выстреливал в собеседника. По-прежнему на ты звал бывшего ученика, ныне уважаемого столичного литератора, и К-ову, вообще-то не жалующему панибратство, это бесцеремонное обращение ласкало слух.
Последний раз не застал учителя. На больничном был – в тяжелом (очень тяжелом, уточнили значительно и скорбно) состоянии. К-ов, поколебавшись, взял адрес.
Жил Сергей Сергеевич в районе старого города, который понемногу, начиная с центра, сносили. Вот и двор, куда, сверившись с бумажкой, вошел непрошеный гость, явно доживал последние дни. Это чувствовалось по ветхим, с обвалившейся штукатуркой домам, по куче мусора возле водопроводной колонки, по запущенным палисадникам, где вперемешку с мелкими выродившимися георгинами запоздало – близился октябрь! – цвели подсолнухи. На провисшем электрическом проводе болталась, как флаг, тряпка.
Из одной квартиры, судя по огромной трещине в стене и распахнутой настежь двери, уже выехали. К-ов скользнул взглядом по голым окнам (на одном, впрочем, висела за стеклом такая же, как на проводах, розовая тряпица) и двинулся дальше. К мусорной куче подошла толстуха в джинсах, с размаху зашвырнула наверх останки стула: сиденье и гнутую, под старину, спинку. Все тут же сползло вниз, увлекая за собой дребезжащие консервные банки.
К-ов спросил, где живет Пиджаченко, – спросил негромко и строго, как подобает говорить о безнадежно больном человеке, но женщина, к его удивлению (и встрепенувшейся надежде!), ответила легко, почти весело: «Да вон!» – и кивнула на распахнутую дверь.
Беллетрист, удивленный, еще раз обвел взглядом мертвые окна. Нет, в доме пока что жили. То, что он принял за тряпье, оказалось занавеской, а под ней восседал на подоконнике хомячок. Минуту назад его не было.
Не верящий в чудеса бывший фокусник поднялся на крыльцо – оно тоже было в выбоинах и трещинах (К-ов покосился на ту, страшную, в стене), и тут из дому выскочил мальчуган. С разгону ткнулся головой в живот беллетриста, задрал головенку, крикнул, блестя глазами: «А Зуб – чемпион мира!» – и был таков.
Изнутри доносились детские голоса. Щепетильный гость, сызмальства познавший, что такое быть гостем незваным, внимательно огляделся в поисках звонка, но никакого звонка, разумеется, не было. Тогда он постучал – не очень громко и, не дождавшись ответа, осторожно вошел.
Маленький коридорчик был завален связками журналов – музыкальных, театральных, эстрадных… Воспитанник Сергея Сергеевича понял, что попал туда.
Дверь в комнату, как и входная, была распахнута, а за ней сгрудились вокруг стола мальчишки. К-ов снова постучал, на сей раз в дверную раму с облупившейся краской, и ему снова никто не ответил, так все там увлечены были. Чем? Он сделал два деликатных шага и увидел: шашками. В шашки играли…
Собственно, играли лишь двое, остальные болели, в том числе и примостившийся на табуретке, облаченный в халат Пиджачок. Больной глаз прятался за приспущенным веком, зато здоровый следил за битвой жадно и цепко.
Жить между тем оставалось два месяца, два с небольшим, до первого снега… Два месяца оставалось жить, а он сзывает к одру мальчишек со всей округи. А он организовывает – на краю-то пропасти! – шашечные турниры. «Запомните! – было приказано К-ову, едва вошел. – Это Боря Зубов. – И корсаровский глаз стрельнул в наголо остриженного мальца. – Будущий чемпион мира».
Откуда-то появилась женщина со стаканом воды и таблетками на ладони. Не глядя Пиджачок бросил их в рот, запил не глядя, а женщина тем временем поправляла на нем халат.
Дочь аттракционы поманили, поманила ледяная пузырящаяся фанта, а К-ов надолго застрял в глубине парка между вековыми липами.
На толстом корявом стволе висел динамик – невысоко, рукой достать, внизу, прямо на земле, стоял проигрыватель, крутилась пластинка, и под мелодию, которую беллетрист столько раз слышал в детстве, танцевали на асфальтированном пятачке старые люди. На скамейках аккуратно лежали потертые плащи, шляпы, лежали и пузатые, давно вышедшие из моды сумочки. А еще – хотя совсем чистым было августовское небо – лежали наготове зонты. Не складные зонты и не зонтики-тросточки, что со свистом распускаются, стоит кнопку нажать, а зонты тяжелые, неуклюжие, которые ни за что не открыть одной рукой… Под стать им были и их хозяева: и тяжелы, и неуклюжи, но смеялись – блестело серебро зубов, но задорно встряхивали головами. Из-за лип выкатил на коротких роликовых лыжах парень в шортах, остановился на миг, потом дальше двинул – ни дать ни взять заправский лыжник, вот только не между деревьями лавировал, а между людьми…
Рядом неслышно выросла дочь. «Пойдем! – шепнула. – Ужасно грустно здесь». Но это ей было грустно, молодой, это она не понимала, как можно веселиться, когда тебе шестьдесят или семьдесят, как вообще можно жить, если отсутствует перспектива (геометрическое словцо это уже просочилось в ее полудетский лексикон), однако перспектива – и К-ов отлично видел это! – была, разве что не в будущее устремлялась, а спокойно и надежно уходила в прошлое.
В прошлое…
Так вот зачем прокрадывались в его книгу, в лушинский его роман, который непостижимо и самоуправно превращался в странноватое сочинение о нем самом (к центру, к центру смещалась фигура повествователя) – вот, оказывается, зачем пробирались сюда старики и старухи! Вот, значит, какова была их потаенная цель! Смотри, говорили они, смотри в оба! Видишь: у нас есть судьба, какая-никакая, но есть, а у вас? Да, у вас?..
Бессудебье – так, презрев благозвучие, окрестил словотворец К-ов свой недуг. Бессудебье – с ударением на втором слоге…
Дочь тронула его за плечо. «Пора, папа!» Ссутулившись, он пошел, но долго еще слышал спиной звуки чужой музыки.
Когда, уже после смерти бабушки, он снова приехал в свой город, то на месте двора, в котором некогда жил Пиджачок, раскинулась детская площадка. Качели, песочница, разноцветные, причудливой формы лесенки… Галдела малышня.
«А вы кто, дядя? – услышал К-ов. – Турист?» Рядом два мальчугана стояли, с уважением рассматривали висящий на плече у него фотоаппарат.
Турист… Это в родном-то городе! Он кивнул, улыбнулся с усилием, пошел прочь. Его двор пока еще был цел, цела была улица, по которой он ходил сперва в школу, потом в техникум, и все это он снимал, снимал, не жалея пленки: по два, по три дубля. Немногочисленные прохожие поглядывали на него кто удивленно, кто с подозрением: какие такие достопримечательности выискал здесь этот тип?
Он не обижался. Он узнавал это их подозрение, эту их тревогу и их бдительность – и тут, стало быть, срабатывал закон шелковичного дерева. (Шелковичное дерево, с его палубами и мостиком, он тоже снял.) Все повторялось, даже сами эти съемки, в которых, смутно угадывал он, было что-то нечестное по отношению к городу, – повторялось, хотя он твердо знал, что никогда прежде не фотографировал ни своего двора (с чего вдруг!), ни лушинского полуподвала, ни лестницы, по которой пробирались на чердак малолетние распутники… Или, может быть, это не съемки повторялись, а повторялось чувство, которое он при этом испытывал? Вот так же компактно и ярко, точно в рамочке видоискателя, видел он бабушку в свои последние приезды к ней. Она еще жива была, еще вязала свои коврики, те самые, что лежали сейчас под его пишущей машинкой, еще телевизор смотрела – по-детски увлеченно, то вскрикивая и прижимая к груди кулачки, то звонко смеясь, а внук наблюдал за ней украдкой, и этот его умиленный, этот запоминающий, этот как бы пришедший из будущего взгляд был, в сущности, предательством бабушки. Он, взрослый мужчина, оставлял ее здесь, совсем одну оставлял, с бижутерными сережками в ушах, а сам уходил на цыпочках вдаль, в то самое будущее, где ее уже не было.
Теперь, вооруженный фотоаппаратом, он переносился еще дальше. Там, куда переносился он, не было не только бабушки (ее уже здесь не было, сейчас), но не было и улицы, на которой они жили когда-то, и шелковичного корабля, и длинного, одноэтажного, похожего на барак дома, два последних оконца которого и дверь с козырьком он щелкнул воровато раз десять. (Козырек после появился, когда уехали; бабушка лишь мечтала о нем, сметая после дождя воду с крыльца.) Фотограф он был никудышный и, получив наконец проявленную пленку, стал здесь же, у стойки приемщицы, нетерпеливо разворачивать рулон. Получилось ли? Хоть что-нибудь?.. Пленка выскакивала из дрожащих пальцев, скручивалась стыдливо, но он растянул-таки ее, распял, и в тот же миг город, ожив на ярких слайдах, в реальном мире как бы перестал существовать. К-ов разрушил его раньше, чем сделал это шальной бульдозер. (Бульдозер пока что медлил.) И так, пришло в голову, было уже не раз. Бабушка еще смотрела телевизор, еще смеялась, еще смаргивала прозрачные слезинки, а он уже вспоминал ее. Еще мать, красивая женщина, бесстрашная в своем эгоизме, вовсю кружила голову мужчинам, а он уже приволок ее в дом Свифта – толстую, старую, брошенную даже капитаном Лялем, с баночкой черешневого варенья, которое она сотворила впервые в жизни. Он приволок ее сюда, хотя тогда еще понятия не имел ни о каком доме Свифта…
Она спросила, заедет ли он все же на обратном пути, спросила небрежно, как о чем-то не очень существенном, и он так же небрежно ответил, что, разумеется, заедет, вот только надолго ли – неизвестно, это не от него зависит, хотя все, конечно же, зависело от него. «Тополек у бабушки посадили», – сказала мать. «Да?!» – встрепенулся он, невольно преувеличивая свою радость, как только что преувеличивал аппетит, с которым уплетал варенье.
О топольке, конечно, она обмолвилась не случайно. Не к себе, дескать, зовет, не только к себе (на это, понимала, у нее нет права) – к бабушке, хотя сама, знал он, редко ходит на кладбище… А он уже опять был далеко отсюда, уже вспоминал эту грузную старуху с крашеными волосами, которая, встав ни свет ни заря, тряслась в автобусе две сотни километров, чтобы повидать сына. «Пожалуй, – сказал он, – поживу у тебя пару деньков».
Она взяла стакан, с трудом глоток сделала – он видел, как глоток этот прошел в горле. Будто не жидкость была, не остывший безвкусный чай, а корка хлеба. «Еще вскипятить?» – с готовностью предложил он. Мать отрицательно качнула головой. Осторожно, словно драгоценность какую, поставила стакан.
Снимал он и техникум, но, оказывается, не он первый: в лушинской коллекции была открытка с видом этого импозантного здания, в котором обитала некогда чета знаменитых графов. Никаких пристроек (ныне пристройки с трех сторон облепили графский особняк), колонны безукоризненно белы, и парадный подъезд – действительно парадный подъезд, а не мертвое архитектурное украшение… На памяти К-ова сии дубовые, с медной ручкой двери не открывались ни разу; внутрь можно было попасть лишь со двора, через кирпичный флигелек, который учащиеся по сигналу звонка брали штурмом.
Взглянуть на уникальную коллекцию беллетрист напросился сам, встретив случайно бывшего соученика своего и соседа. Обрадовался: «Володя!» – причем обрадовался бескорыстно: тогда еще и не помышлял писать о нем.
Герой будущего романа удивился, что подавшийся в литераторы автомеханик помнит о его хобби. Столько лет прошло, давно в Москве живет, а помнит и даже хотел бы посмотреть, если можно.
«Можно», – сказал Лушин, подумав.
Коллекция оказалась и впрямь уникальной. Романист просидел над ней весь вечер: когда он откланялся, было уже одиннадцать.
В гостиницу не пошел, бродил в раздумчивости по безлюдному городу… Как же рано почувствовал малолетний мудрец в белой кепочке, что не только в будущее продолжает себя судьба, в ту подернутую дымкой голубую даль, куда его сверстники, К-ов в том числе, ломились с веселым азартом (точь-в-точь как ломились они, подгоняемые звонком, в кирпичный флигелек), – не только в будущее, но и в прошлое! Перед Лушиным, во всяком случае, дверь эта распахнулась. Дубовая, искусной работы дверь с медной ручкой…
К-ову захотелось проверить, действительно ли с медной, и он не поленился пройти несколько кварталов.
Во мрак был погружен техникум, лишь у кирпичного флигелька горела желтая лампочка да светилось, не очень ярко, единственное окно в длинном низком строении. Это был клуб. Именно здесь впервые заиграл созданный Пиджачком квартет. Он заиграл, и пианист Володя Лушин, не подозревая, какой страшный конкурент появился у него (бедняге изменила вдруг его ранняя мудрость), – Володя Лушин поднялся, пересек зал и глухо произнес, околдованный юноша: «Разрешите?»
Еще не закончил, а на губах близорукой прелестницы уже трепетала улыбка. Полные руки с готовностью поднялись было навстречу кавалеру, пока еще неведомому, но застыли на полпути. Людочка сощурилась.
Никогда не щурилась, предпочитая лучше не разглядеть собеседника, чем испортить гримаской личико, а тут сощурилась.
На нем был старомодный клетчатый костюм, прежде не виданный ею. (Все в этот вечер было впервые.) «Ты приглашаешь меня?» – ласково удивилась она.
Совершенно ошалев, он ткнул в нее пальцем. Приглашаю! Тебя! То был сугубо пиджаченковский жест; именно он когда-то вызволил из неизвестности затаившегося музыканта. Его и еще двоих. «Ты, ты и ты! Сегодня в пять, в клубе. Не опаздывать!»
Лушин не опоздал. Беспрекословно подчинился Лушин, и Людочка сейчас подчинилась тоже, тем более что кавалер ее, совсем как Сергей Сергеевич, прижал ладонь к левому глазу. Да и как могла она отказать ему, столь преданному ей, столь самоотверженно работающему во имя ее молодой славы!
Стоявший у двери Пиджачок энергично двигал рукой в такт музыке. Восторг и упоение были на лице, но вдруг рука замерла, а больное веко изумленно поднялось. Это он Лушина увидел. Танцующего Лушина… Мы прыскали и многозначительно толкали друг друга, лицо Людочки окаменело, как маска, и только ее невероятный Лушинек в клетчатом, явно с отцовского плеча костюме ничего не замечал.
Вечер кончился, в раздевалке, как всегда, было столпотворение, но пианист протиснулся-таки к своей даме и, не говоря ни слова, стал тянуть из ее рук шубку. Людочка испуганно сощурилась – вторично за какие-то полтора часа. Перед ней опять был он, вислоносый урод, которого она уже начинала ненавидеть. «Зачем?» – пролепетала.
Он молчал. Тянул и молчал, и тогда она сообразила, что вовсе не грабить собираются ее, а галантно за нею поухаживать. «Не надо, – произнесла робко. – Я сама».
Оскалив зубы, помотал он из стороны в сторону головой. Надо, дескать! Надо! И шубка вдруг оказалась на полу. На мокром, в окурках и семечной скорлупе полу. В тот же миг Владимир Семенович был на корточках и, расталкивая чьи-то колени, отбрасывая чьи-то пальто, спасал драгоценный мех. (Кроличий; но это неважно.)
В конце концов, писал романист, он напялил на несчастную Людочку, выдернув из-под ног, ее полуистоптанную шубенку, после чего объявил, что проводит ее. И опять взмолилась бедняжка: не надо, и опять он отрезал: надо! Делать нечего, на улицу вышли вместе.
Автор «Зануды» понятия не имел, о чем говорили по пути герой и героиня, лирический диалог этот еще предстояло воссоздать, но в одном был убежден твердо: длиннее обычного показалась ей дорога домой.
Наконец пришли. «Все! – с облегчением объявила она своим серебристым голоском. – Это мой дом».
Горел фонарь (или не горел), шел снег (или не шел) – все, словом, было в руках беллетриста. К собственному опыту, как всегда, отсылала память, к давнему эпизоду с Таней Варковской. Тоже уличному, хотя без фонаря и без снега… Зато с двумя подозрительными типами, которые, выросши из-под земли, преградили Татьяне путь. Четырнадцатилетний рыцарь, следовавший поодаль с портфелем в руке, был тут как тут. Спешил он, однако, напрасно. Напрасно хрипел, как дядя Стася, и, как дядя Стася, прихрамывал: один из неизвестных, как выяснилось, был родной ее братец.
Поэт шмыгнул носом. Поэт переложил портфель из одной руки в другую и беспечно засвистел… Вот и пусть, решил он, сделает то же самое его герой. Пусть сложит губы и старательно дунет. А Людочка? Людочка засмеется. Вовсе не смешно будет ей, пожалуй даже ей станет чуточку страшно, но она засмеется. «Ты чего?» – спросит.
Герой сунет руку в карман, наклонит, как Пиджачок, голову и снова дунет, уже сильнее. Сроду ведь не умел свистеть – ни свистеть, ни лазить по деревьям, ни гонять футбол… Ах, как хорошо видел сочинитель книг эту сцену! Ночь, угрюмый подъезд, девушка в шубке, а перед ней с франтоватым видом стоит тощий безумец и громко дует на нее…
Она решила, он сошел с ума. «Лушинек-то наш, – вздыхала, – того». Но – за глаза, с ним же была по-прежнему ласкова, ибо, хотя кое-что и пела уже в сопровождении квартета, аккомпанировал ей в основном пока что Лушин.
Сомневался ли он сколько-нибудь в Людочке Поповой? Нет. В ней – нет, а вот в себе – сомневался. Так ли он ухаживает за ней? Те ли говорит слова?
К-ов знал это чувство. Когда, откинув легкую занавесочку, в дверях возникла квартирантка Варфоломеевской Ночи – возникла, и неслышно приблизилась, и улыбнулась загадочно, и спросила, скользнув взглядом по исписанным листкам: «Стихи?» – у него и в мыслях не было, что она ведет себя как-то не так. Не так он вел… Надо было, сообразил он потом, уже ночью, в тысячный раз прокручивая в памяти ее фантастическое явление, – надо было ответить с легкой усмешечкой: «А вы проницательны, мадам!» – или что-нибудь в этом духе, как поступил бы на его месте Ви-Ват, а он? Он, как школьник, прикрыл листочки ладонью. «Не бойся, – успокоила она и подошла ближе. – Я не любопытная». И опять он не нашелся, что ответить (Ви-Ват нашелся бы!). Покраснел, заерзал, убрал со стола руки…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































