Текст книги "Пир в одиночку"
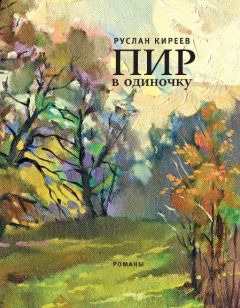
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Зимой на платформе А поезда не ходят
Помимо К-ова, еще один человек написал, оказывается, о Леше по имени Константин, модная и жесткая писательница (жесткость, даже жестокость стала с некоторых пор в моде), – газета с этой новеллой попала в руки беллетриста через два месяца после выхода, как раз в день Лешиного рождения – К-ов прочел ее в электричке (именно для дорожного чтения и откладывал газеты), и, узнавая покойного друга, которому нынче исполнилось бы пятьдесят пять – да, ровно пятьдесят пять! – завороженно думал об удивительном совпадении. Точно ниточка протянулась из прошлого в настоящее, тонюсенький нерв, осуществляющий, по терминологии Шекспира, связь времен – ту самую, что нет-нет да обрывается.
А может, вовсе не совпадением было это? Знаком, символом, иероглифом неведомого языка, не без насмешливости предлагаемого полуграмотным слепцам…
С юных лет бился сочинитель книг над этой таинственной письменностью. То был изнурительный и бесполезный труд, смысл текста, дразняще мелькающего перед глазами (или под пальцами, коль скоро о слепцах речь), бесшумно ускользал, и единственное что оставалось – это уверенность: смысл есть. Собственно, в погоне за ним прошла большая часть жизни, а уж лучшая – наверняка, но как бы ни изощрял доморощенный метафизик свой дешифровальный аппарат, как бы ни подключал его к источникам вековечной мудрости, мрак не рассеивался, а вспыхивающие там и сям зарницы – вроде сегодняшней, с газетным рассказиком о Леше – только оттеняли его вязкую толщь.
До часа пик было еще далеко, и К-ов с комфортом устроился в полупустом вагоне, заняв едва ли не полскамьи в своем широченном, на «молниях» и застежках, китайском пальто, в которое могли бы влезть два таких, как он. Полдня простояла жена в очереди, но выбросили только большие размеры, и она схватила, благодарная, что хоть это досталось. «Ничего… Сейчас чем просторней, тем моднее», – и супруг покорно облачился в сей шуршащий балахон, весьма, впрочем, удобный и теплый, с огромными накладными карманами, в одном из которых и лежала, ожидая своего часа, старая газета с повествованием о Леше по имени Константин.
Раза два или три ездил с Лешей по этой дороге: тесть К-ова смастерил бильярдный стол, а Леша считал себя специалистом в бильярде, что не мешало ему с треском проигрывать, сердясь и глотая с досады самодельное яблочное вино, чистейший яд для бедного его желудка… Нынешняя поездка, в отличие от тех, развлекательных, носила сугубо деловой и даже рабочий характер: вышел из строя насос, что подавал из скважины воду, и предстояло вытаскивать наверх двадцатиметровую трубу. Сам тесть в свои без малого восемьдесят с работой этой не справился б, и К-ов, сунув в один карман новенького пальто газету (ту самую), а в другой – шоколадного зайца для внучки, отправился на подмогу.
Внучка – а для тестя с тещей, стало быть, правнучка – гостила у них куда чаще, нежели в доме К-ова, который видел ее последний раз месяца три назад. Дедом, разумеется, он был никудышным, вообще не чувствовал себя дедом, что тоже рассматривалось им как иероглиф – тревожный иероглиф – потаенного текста.
Выйдя из электрички, не стал подыматься по обледенелой лестнице, а сиганул с платформы в снег. Короткий сухой треск, за пальто хватается – большой, в форме правильного четырехугольника синий кус трепещет на ветру, выпустив белые волокна развороченных внутренностей. И трех дней не проносил, какая досада! А мысленный взор уже метался в потемках, отслеживая фосфоресцирующий пунктир дурного ли, хорошего ли (скорей, дурного) предзнаменования.
Прямо-таки наваждением была эта вечная охота. Пунктиком его. Слабостью. А может быть… Может быть, и сильной стороной, кто знает! Ибо на что еще опереться смертному человеку, как не на подспудную веру, что нет на свете ничего бессмысленного? Все вписано в некий общий закон – в том числе и его, человека, краткое пребывание здесь, – напрягшись, закон этот можно если не постичь, то хотя бы почувствовать лицом его мерное, медленное дыхание.
В снегу ползли две автомобильные колеи, довольно широкие, – по одной из них и шагал К-ов. Тесть ждал его, уже в ватнике и рукавицах, с инструментом наготове. Ждала и внучка. Вскочив в деревянной кроватке, куда ее уложили для дневного припоздавшего сна, кричала звонко: «Дедушка! Мой дедушка!» В первый момент он решил, что это тестю она, но нет, не тестю, ему, и, растроганно-удивленный, что-то говорил в ответ неуверенным, как бы позаимствованным у настоящего деда голосом, а она доверчиво тянула руки, такие горячие, что он, вручив зайца, тотчас отдернул свои холодные с улицы, темные лапищи, то ли обжечься боясь, то ли, напротив, заморозить малышку… Теща нервничала: спать пора, спать! – но тещины слова не воспринимались ею, только его, и тогда он, взрослый и мудрый, пообещал прийти сразу же как она проснется. «А ты не уедешь?» – осведомились строго. «Куда ж я уеду! Надо сначала отремонтировать воду».
Он сказал именно так: отремонтировать воду – а как еще, не станешь же вдаваться с трехлетним ребенком в технические тонкости, которые и для него-то лес темный, – но в этих как бы спущенных со взрослой высоты, упрощающих словах уже таился обман (хотя уверен был: дождется, не уедет), начало обмана, и, убегая от этой невольной фальши, торопливо переоделся в брезентовую куртку, сунул ноги в валенки и поспешно вышел из печного уютного тепла на морозный воздух, к загадочным трубам и муфтам, с которыми ему, однако, было все-таки проще, нежели с внучкой.
Не доверяя ему, тесть самолично затянул на уходящей в земную твердь крашеной трубе гайки страховочного зажима, и сочинитель книг принялся энергично работать облаченными в рукавицы дилетантскими руками. Провисшая цепь раскачивалась и звякала, бесконечная в своей закольцованности, ошалело вертелся на вершине треножника погнутый блок, и голая труба, теперь уже не прикрытая кожицей краски, медленно ползла вверх.
Если сложить все часы и минуты, что провел он с внучкой за три года, то не набежит, наверное, и недели. Откуда же в ней… нет, не привязанность, привязанности, разумеется, никакой нет, любви тоже нет – К-ов ничуть не обольщался на этот счет, – откуда готовность любви? Вот-вот, готовность, зароненная неведомо кем и когда, быть может, в тот самый миг, когда существо это появилось на свет, о чем он узнал однажды утром, чистя зубы. Затрезвонил телефон, жена на первом же звонке сорвала трубку – еще бы, дочь в роддоме! – а он с щеткой во рту вышел из ванной. Не слышал, разумеется, что говорили на том конце провода, но видел по лицу жены: все в порядке. «Девочка!» – шепнула, прикрыв трубку ладонью, и то, как это было произнесено, подтвердило: в порядке! С щетки капало, он растер ногой белые пятна на полу и вернулся заканчивать туалет. Вернулся другим совсем человеком, нежели вышел минуту назад, новым, в новом статусе, который напряженно и честно пытался осознать, дабы жить отныне в соответствии с ним – в ином каком-то ритме и с иным отношением к людям и событиям. Строго говоря, перед ним был тот же фосфоресцирующий пунктир, разве что поярче и подлиннее, и вот сейчас, сейчас он наконец-таки поймет все. Черта с два! Свет не вспыхнул и на сей раз, мрак не расступился, а лукавая истина если и выглянула на мгновение, то в маске банальности.
Брезентовые рукавицы липли к цепи, но К-ов не сбавлял темпа, и труба мало-помалу подползла к вершине треножника. Поднявшись по шаткой лестнице, подмастерье закрепил ее веревкой – и снова за цепь.
Наконец показалась соединительная муфта: одна из трех уходящих в земное чрево труб была извлечена. Ее аккуратно опустили на заблаговременно подложенный – чтобы снег не набился – кирпич и взялись за вторую.
И тут тесть забеспокоился. То пальцем мазнет по округло поблескивающему металлу, то постучит, тревожно вслушиваясь. «Воды нет… Без воды идет, зараза!» Отстранив подручного, сам взялся за цепь, чтобы определить, сколь тяжелы подымаемые трубы. «Ушла… Ушла вода! Или клапан сорвало, или…» И по свирепому, полному отчаянья взгляду К-ов понял, что это второе «или» чревато крупными неприятностями.
Ушла вода… Позже, коченея на платформе в ожидании электрички, которая опаздывала на десять, на пятнадцать, на двадцать минут, на полчаса, – а он, чтобы поспеть именно к этой электричке, сбежал, так и не дождавшись, когда проснется внучка, – позже эти слова – ушла вода – покажутся ему исполненными особого смысла, на сей раз не мерцающего пунктиром, а ясного и четкого, как всякое сравнение. (Рассудочный беллетрист обожал сравнения.) Пустой шла вторая труба, теперь уже тесть не сомневался в этом, но ждал с опаской еще чего-то, самого, по-видимому, худшего, и предчувствие не обмануло: нижний конец вылез свободным, без соединительной муфты и третьей трубы. Обрыв! Это был обрыв, неожиданный и коварный, оставивший третью трубу в узкой скважине на глубине двенадцати метров. К-ов не представлял, каким чудом можно извлечь ее оттуда. И можно ли…
Стянув с головы вязаную шапочку, старик вытер свое большое мокрое то ли от пота, то ли от растаявшего снега лицо. «Обрыв!» – повторил в третий или четвертый раз, явно подозревая, что зять не понимает до конца, что означает сие. Это зять-то не понимает! Прохаживаясь по темной платформе – фонари не горели, – твердил мысленно: обрыв, обрыв – в метафизическом, разумеется, смысле, вечном и универсальном, далеком от той грубой реальности, что подразумевал тесть. И вдруг остановился, осененный. Света нет, электричек нет, ни туда, ни обратно, хотя торчит здесь минут сорок, не меньше – тоже обрыв? Но уже не в метафизическом, уже в самом что ни на есть прямом смысле слова: лопнули провода. Назад возвращаться? Но его ждут дома, а здесь не ждут. Больше не ждут… «Может, разбудить ее? – предложил перед тем, как уйти. – А то ночью не заснет».
Теща на цыпочках вошла в комнату, побыла там недолго, потом так же на цыпочках вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Жалко…» А рядом что-то возбужденно говорил тесть, размахивал туго скрученной, изображающей насос газетой, схему рисовал – разрабатывал операцию по извлечению застрявшей трубы. Но для этого потребуются кое-какие приспособления, он изготовит к субботе, и если в субботу у него будет помощник… «Постараюсь, – сказал К-ов, – приехать».
Но сначала надо было уехать, а обеззвученные рельсы поблескивали в лунном свете тускло и мертво, как тот заманивающий в пустыню холода и мрака обманный пунктир. Нет никаких общих законов, понял К-ов, мираж все это, происки дьявола. Дьявола, впрочем, тоже нет…
То ли мороз усилился, то ли раненое пальто не держало тепла, но в ледяной торос превращался мало-помалу человек на заснеженной платформе. Не здесь и не сейчас началось это, давно, с тех самых пор, как пустился, слепец, в изнурительную погоню за убегающим смыслом. Не здесь и не сейчас… Как же опасен безжизненный его холод для крохотного существа с горячими руками! Огонек только занимается – только-только! – и неужели лучшее, что может сделать К-ов, это держаться от него как можно дальше?
Теория красного смещения
На ходу подстерегло, подбило влет, хотя в первое мгновенье не понял, что подбило, не почувствовал боли, да и жена не походила на охотника, пусть даже и караулила момент, чтобы сказать, выжидала, – он успел скинуть туфли, выложить газеты на журнальный столик и задать пустячный какой-то вопрос, на который она ответила, причем голос не выдал ее, только внимательно следили глаза. И вот произнесла. Он остановился посреди комнаты (влет! именно влет!), не сразу уяснив, а что, собственно, такого, ушла и ушла, мало ли куда уходит молодая девчонка: в магазин, к подружке, на свидание, но через секунду догадался по тону, по отяжелевшему телу на тахте, что дочь не просто ушла, а ушла так, как никогда прежде не уходила. Не в магазин… Не к подружке… Жена не издала больше ни звука, только смотрела, и во взгляде ее, в глубине обреченных глаз, таилась надежда, будто он, еще не осознавший до конца происшедшего, то есть еще остающийся на тверди прежней жизни, которая для нее уже кончилась, – бедняжка барахталась и тонула, – способен каким-то чудом вытащить и ее. «Куда ушла?» – буркнул он и перевел взгляд на газеты. Поворошил, пошуршал – только б не видеть этой обращенной к нему надежды, женской этой веры в мужчину, которому якобы подвластно все. «К нему», – ответила жена с видимым усилием, но спокойно и тихо.
К-ов засопел, снова тронул газеты – искал какую-то, но искал зря, не попадалась, и тогда он оставил газеты, ушел к себе и начал переодеваться, погрузневший враз, постаревший (влет! именно влет!), с вздымающимся глухо раздражением, которого он не подавлял, – нет, не подавлял, ибо чувствовал: пусть лучше раздражение, чем то, другое, что придет на смену ему.
Был август, сухая духота морила полуопустевший, без детей и собак – на дачи поувозили! – город, люди разгуливали по улицам в легкой комнатной одежке, а она, подумал отец… В чем она ушла? Праздный вопрос этот (а впрочем, не такой уж и праздный) вертелся в мозгу, разрастаясь, и он пестовал его, не отпускал, как не отпускал раздражения, но потом все-таки не вытерпел, проворчал, направляясь в ванную: в чем ушла? – и придержал в ожидании шаг. Жена, сидящая на тахте все в той же подстреленной позе, смотрела на него с усталым недоумением, но не мог же он растолковывать сейчас, как это существенно: в чем ушла, много ли прихватила вещей и какие сказала на прощанье слова. Вот-вот, слова, это главное.
Слов жена не помнила. Да их и не было, никаких особенных слов, не было сцен и уж тем более истерик. Просто поскладывала вещички в большую спортивного покроя сумку с похожим на кота олимпийским медведем (спустя семь месяцев К-ов с этой же сумкой привезет ее на такси обратно), накинула ремень на хрупко прогнувшееся плечо, взяла в руку электрический прозрачный чайник, подарок сокурсниц к девятнадцатилетию («А чайник-то где?» – усмешливо спросит он в ночном, мчавшемся среди мартовских сугробов такси), подошла к матери, которая сидела обессиленно на тахте, поцеловала холодными губами, холодными и накрашенными, сильно накрашенными, следы помады розовели до вечера, пока К-ов не бросил с досадой: вытрись! – поцеловала и вышла, заперев за собой дверь.
Заперев! Точно тяжелобольную оставила в доме… Или даже не больную, а покойницу – да-да, покойницу, но этого супруг не сказал, лишь язвительно осведомился, зачем ключи взяла, они ведь ей теперь ни к чему. У нее нет больше дома, этого дома, она предала его, мать предала, отца – ну отца ладно, он не в претензии, но мать, мать – да как смела она, мерзавка, шлюха этакая, променявшая на кобеля самого близкого человека! Пусть немедленно, завтра же, вернет ключи. Слышишь, немедленно! «Хорошо, – сказала жена. – Я скажу ей».
Эта тихая покорность обезоружила К-ова, но в то же время слова ее вселили надежду: раз есть возможность сказать, значит, какая-то да осталась связь, – он поймал себя на этой мысли и раздосадовал еще больше, теперь уже на себя, на свою непоследовательность и беспринципность, на неумение обуздать обстоятельства, которые всегда – или почти всегда – оказывались сильней его. Разве не чувствовал он, что добром это не кончится, что дочь на опасной дорожке: эти гулянья допоздна, эти нервные ожидания звонков, эти мужские голоса в трубке, то притворно-вежливые, то бесцеремонные, но в тех и в других сквозила одинаковая уверенность, что та, кого спрашивают они, подойдет, не откажет, будет кокетливо болтать, такая вдруг веселая (а только что ходила с хмурым лицом – не подступись!), такая щедрая на время, которого для родителей хронически не хватало. Неужто это то самое существо, которое двадцать лет назад появилось, нежданное, на свет? Нежданное, потому что на месяц раньше положенного срока произошло это, что вызвало переполох в доме, почти панику и породило опасливые, не произносимые вслух прогнозы.
В первые часы лета родилась она, в грозовой ливень, застигнувший молодого отца, который возвращался из больницы и еще не знал, что отец, на темной поселковой улице возле спящего барака, к бревенчатой стене которого он прижался изо всех сил мокрой спиной. Барак этот стоял с довоенных времен и был обречен на снос, как, поговаривали, и весь поселок, на который зубьями высотных зданий надвигалась столица. В Москву «Скорая» везти отказалась, там, сказала врачиха, из области не принимают, и старенький «ЗИМ» долго кружил по темным разбитым дорогам. К-ов пристроился возле носилок, но выпрямиться не мог и прямо-таки нависал над распростертой, с закрытыми глазами женщиной, какой-то вдруг пугающе чужой, непонятной, с полоской зубов, неровно белеющих при свете плафона, который зажигался, когда врачиха оборачивалась на стон.
Родильное отделение ютилось на третьем этаже кирпичного здания, освещенного снаружи яркой лампочкой под козырьком. Зато внутри ничего не горело, и по крутой каменной лестнице пробирались почти на ощупь. Раза два или три жену прихватывало, и она, скрючившись, пережидала боль, а врачиха уже барабанила наверху. Долго не отзывались, потом дверь наконец распахнулась и отчетливо потянуло жареной картошкой: у эскулапов, видимо, пришло время ужина. В этом кухонном чаду и исчезла жена, куда-то делась врачиха, и пропала машина внизу, хотя шофер, отчетливо помнил К-ов, тащил вслед за ними ударяющиеся о перила пустые носилки.
Будущий отец задрал голову. Светились белые окошки, но попробуй-ка угадай, за каким из них роженица, и он побрел прочь, странно легкий, свободный, – легкий последней какой-то легкостью, свободный последней какой-то свободой, которую не омрачала ни близкая гроза, ни предстоящее возвращение домой. Как будет добираться, чем? – ни машин на улице, ни прохожих, не у кого спросить даже, в какую двигаться сторону. Не сходное ли чувство – вот только не последнюю легкость, а первую, и первую полную свободу – испытала дочь, выйдя из родительского дома с олимпийской сумкой на плече и раскачивающимся в руке стеклянным чайником.
Тот, к кому шла она, ждал ее (воровски!) за углом или, может быть, у станции метро, – этого К-ов так и не узнает. Он вообще мало что ведал о внезапном своем зяте, тридцатилетием детине, которого застал однажды у себя дома сидящим на корточках перед магнитофоном. Хозяин поздоровался, и гость стал медленно вырастать, раздаваться, заполнять собой всю комнату – волосатый, с низким, как у питекантропа, лбом и маленькими глазками, а дочь уже щебетала: «Это Сережа, папа!» – и тревожно вглядывалась в отца, выхватывая первое – самое первое! – впечатление, которое он и сам-то не успел осознать, а она уже поняла все и запротестовала, отодвинула его, не нужного больше, опасного, отгородилась, прильнула к своему (хотя и не сдвинулась с места), закрыла его, бугая, тоненьким своим телом.
Когда-то, еще ребенком (К-ов не мог простить, что взрослая дочь отняла у него ту, маленькую), приволокла щенка с улицы, все заботы о котором легли, конечно же, на него – прогулки, прививки, – и вот теперь выпалил в сердцах, что это ее собака, а потому пусть думает, что делать с ней, едва таскающей ноги, в кровавых язвах на брюхе. Дочь слушала, опустив глаза, худющая, бледные веки подергивались, а когда на другой день пришел с работы, пса не было. «Где собака?» Она смотрела в книгу – именно смотрела, не читала, уж он-то знал свое чадо! С заколотившимся сердцем вернулся в прихожую – ни поводка, ни миски. «Я спрашиваю, где собака?» Так произнес, таким тоном, что теперь уже не могла не ответить. «Я отвела ее». Сама же продолжала глядеть в книгу. «Куда отвела?» В трех шагах находились друг от друга, но казалось, огромное пространство разделяет их, почти космическое. «В ветлечебницу». Почти космическое, а там, в космосе, вычитал он, галактики, согласно теории красного смещения, разбегаются. «И что?» – вымолвил он. «Ничего… Умертвили». Зазвонил телефон, но она не сорвалась с места, по своему обыкновению (как раздражало его это круглосуточное ожидание звонков, это нетерпеливое, жадное хватание трубки!), поднялась и, с потупленным взглядом обойдя отца, направилась к телефону… Пройдет много дней, но перед мысленным взором его будет вновь и вновь проплывать, как дочь ловит такси, с трудом втаскивает на сиденье тяжелого, скребущего лапами – пытается помочь ей! – пса, как ветеринар бросает беглый взгляд на язвы и произносит короткий, не оставляющий надежды приговор, как дочь, закусив губу, торопливо гладит собаку – в последний раз! – и та доверчиво заглядывает в глаза, ничегошеньки не чувствуя, верит хозяйке, никогда не обманывавшей ее, никогда не предававшей, – гладит быстро, не оглядываясь, выходит, как за тщательно прикрытой дверью раздается короткий, детский какой-то писк… А ведь на ее месте должен был быть он – мужчина, отец, еще недавно готовый взять на себя любую ношу, лишь бы ей полегчало. Готовый умереть ради нее, точнее вместо нее, он молил об этом, как о благодати, только б несуществующий Бог, в которого он почти верил в те страшные минуты, пощадил его ребенка. Столько людей вокруг сваливал грипп, и ничего, подымались, она тоже почти вызодоровела, в школу собралась, и вдруг… «Надежда есть», – сказала врач – успокаивала, а он почувствовал, что летит в пропасть. Всю ночь промыкался в полутемном больничном холле, среди тараканов, которые, обнаглев, ползали по его затекшим ногам. По-женски брезгливый, не отгонял их – пусть ползают, пусть, словно бы эта глупая жертва могла непостижимым образом облегчить участь дочери. Ужасала несправедливость: он жив, ему ничто не угрожает, кроме усатых тварей, даже неядовитых, к сожалению, а у его дитя – всего-навсего есть надежда. Это была дикость, попрание закона, который (поймет впоследствии К-ов) он безотчетно пытался соблюсти, то есть умереть первым, и под властью которого он пребывал с той июньской грозовой ночи.
До поселка его подбросил тогда шалый мотоциклист, которого будущий отец даже не останавливал, сам притормозил, похожий в маске и шлеме на посланца иного какого-то мира, кивнул на заднее сиденье, и К-ов, не раздумывая, взгромоздился. Легонько обхватил холодное, негнущееся, точно неживое туловище, и они с оглушительным треском помчались сквозь ночь. На перекрестке пассажира ссадили, тот прокричал слова благодарности, но они потонули в раскате грома.
Дождь настиг возле барака, ливанул как из ведра, и произошло это в тот самый момент, когда жена неожиданно быстро и без особых мук разрешилась от бремени. Яркие вспышки озаряли безглазые – хоть бы одно окошко светилось! – дома и белые вишни, а неподалеку томились в ожидании тесть с тещей – у них-то как раз свет горел. Каким неуютным и чужим казалось им опустевшее жилище! К-ов поймет это, когда уйдет – с чайником и спортивной сумкой на плече – его собственная дочь. Замолкнет наконец телефон («Хоть отдохнем без звонков!»), не будет на час утром и час вечером запираться изнутри ванна, что всегда так злило его, прекратятся поздние, за полночь, возвращения, когда он лежал, вслушиваясь в гудение лифта и безошибочно угадывая, на каком этаже остановилась кабина, исчезнут, словом, все раздражители, но покоя не наступит, и он, ходя вокруг да около, станет исподволь выпытывать у жены, как там она (имя преступницы будет под запретом в доме), и понимать по уклончивым ответам: плохо… Плохо! А ведь он предупреждал! Он знал, что ничего путного не выйдет из этого скоропалительного брака.
Тогда же ему привиделся сон, совсем вроде бы не страшный, даже безмятежный: взявшись за руки, бегут к нему дочери, старшая и младшая, в платьицах, освещенные солнцем, смеются беззвучно, – совсем, совсем не страшный, но проснулся в холодном поту. Почему? И вдруг понял: так снятся те, кого больше нет с нами, ушли, и ушли навсегда. (Слово «умерли» не смел произнести даже мысленно.)
Знал: дочь регулярно звонит, иногда даже на него напарывалась, но он, услышав ее голос, без единого слова передавал трубку жене. И вдруг вылетело: как ты там?
Долгая недоверчивая пауза протянулась на том конце провода. Что-то залепетала в ответ, невразумительно и напряженно, со страхом, с надеждой, и тогда он сказал: «Домой не думаешь возвращаться?» И снова – пауза, а потом, чуть слышно: «Когда?» – «Сейчас, – сказал он твердо. – Ты где? Я еду за тобой», – и не прошло получаса, как мчался в такси по вечерним пустынным, как в ту грозовую ночь, улицам, – к грешной дочери грешный отец.
Она ждала, как условились, на троллейбусной остановке, в белой шубенке, с сумкой через плечо. На заднее сиденье села, он сунул ей ириску (откуда-то ириска взялась), спросил весело: «А чайник-то где?» – совсем как встарь, по-домашнему, и она ответила простуженным голосом, что он продал чайник. После чего зашелестела, сладкоежка, фантиком. Все, как встарь, но отец знал, что она – другая, чужая, и что впереди – новый уход, теперь уже окончательный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































