Текст книги "Пир в одиночку"
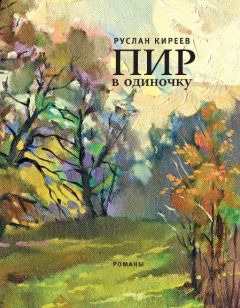
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сколь ни различались между собой техникумовский конферансье и конферансье столичный, манеры у них были одни и те же и одни и те же примерно шуточки. «Она не сдала экзамен, она его спела». Верхом остроумия казалось это косноязычному фантасту, который если и бывал остроумен, то лишь наедине с собой.
Сознавал ли он, что существует иной совсем смех, для простого глаза невидимый? (Как, нашел он потом сравнение, невидим вирус.) Догадывался ли, что он, будущий сочинитель иронических текстов, вирусом этим уже заражен? «Теперь это, господа, не горсад, теперь это парк культуры и отдыха».
Тогда помогло. Тогда, на берегу речушки, столь ловко и неожиданно форсированной им, он почувствовал облегчение. Таня Варковская? А что, собственно, Таня Варковская? Волосы женщины, только и всего…
«Волосы женщины, только и всего». Но если бы лишь это написал Джонатан Свифт! Если бы ограничился конвертом с локоном! Оскорбительную книгу швырнул в лицо человечеству бывший подкидыш, за что поплатился прижизненной могилой. Слишком много, видать, знал автор «Гулливера» про существо, именуемое homo sapiens, – мудрено ли, что память в конце концов отказала? Ни друзей не узнавал, ни слуг – даже слуг! – а это значило, что перед взором старика являлись что ни день новые лица. Мыслимо ли более страшное одиночество? Вот разве что в детстве, когда мать бросила, любвеобильная вдова английского клерка… Завязка судьбы уже ведала финал ее, готовила его и вела к нему неукоснительно, отсекая все лишнее: любовь, семью, отцовские радости… Чистота жанра была соблюдена, форма, которая, по мнению К-ова, играет в жизни гораздо большую роль, чем это принято думать, – форма продемонстрировала всю свою вкрадчивую власть и сумела возвысить себя до совершенства.
Самокритичный К-ов отдавал себе отчет в том, сколь жестока в своей холодной объективности эта мысль – мысль об эстетическом совершенстве судьбы, в которой не было, кажется, ничего, кроме страданий, однако он угадывал за собой право думать так. Ибо не как ценитель прекрасного всматривался он в эту чужую судьбу, а как человек, который хочет знать, что ждет его в будущем. Тождество исходных точек сулило тождество пути (за исключением, разумеется, гениальной книги), и путь этот, впервые открывшийся ему в доме Свифта под полуночный вой котов, под треск насекомого на потолке и хихиканье семидесятилетних чревоугодниц, путь этот, особенно финал его, страшил К-ова. Он ведь знал уже, что такое бессилие памяти. Молодой паломник, прибывший в среднеазиатский городок, где родился когда-то, как жаждал он пробиться за тот незримый рубеж, за ту демаркационную линию, что прочертила по пыльной красноводской дороге тащившая гроб старая кляча! Увы… Ни арык, в котором гнила прошлогодняя листва и сверкали жестянки, ни тутовые, с обрубленными ветвями деревья, ни кричащий за забором ишак – ничто не отозвалось в нем. Но это тогда… А спустя двадцать лет он вспоминал все это с душевным волнением. Память наработала пусть небольшой, но капитал, и он, старея, приноравливался мало-помалу капитал этот тратить. Перечитывая свои первые, еще детские (полудетские) дневники, где Таня Варковская фигурировала как Т. В., а Володя Лушин, ради которого, собственно, и затеял чтение, не фигурировал вовсе, он вспоминал давно отзвучавшие слова, вспоминал краски, запахи и существовал не только сегодня, сейчас, в данный конкретный миг, к которому обычно и сводится жизнь, а существовал протяженно. И вот уже он листает выцветшие записи не ради Лушина, не ради будущего романа о нем – в тщетной надежде сдвинуть наконец с места застопорившуюся рукопись, а ради собственного удовольствия…
Живя в доме Свифта и трижды в день встречаясь за столом с прожорливыми насмешницами, К-ов обратил внимание, что они в отличие от большинства стариков, с которыми ему приводилось сталкиваться, не говорили о прошлом. Всё злословили, всё хихикали – резвились на краю пропасти, и нипочем, кажется, была им ни эта пропасть, ни шорох осыпающейся из-под ног земли.
Из-под их ног. Из-под их… Неужто не слышали, глухие тетери?
Слышали. Еще как слышали! Выйдя однажды ночью в коридор, чтобы турнуть разбушевавшихся котов, любознательный пансионер увидел, что дверь в комнату его сотрапезниц распахнута настежь. Как раз накануне Елизавета (а может, Марья) уехала на сутки домой, поэтому одна кровать пустовала, а на другой неподвижно лежала с разинутым черным ртом оставшаяся сестра. Неподвижно и, почудилось К-ову, бездыханно. Испуганно замер он, но в следующий миг раздался сырой дребезжащий храп. С облегчением переведя дух, к себе вернулся на цыпочках автор иронических текстов. Не о старухе, однако, думал он в эту ночь, не о двери, которую она оставила открытой, а о декане дублинского собора святого Патрика. О многолетнем молчании его перед смертью и о том, как однажды утром он нарушил-таки его. «Какой я глупец!» – произнес с трудом (это один из умнейших людей, когда-либо живших на свете!) и снова замолк, теперь уже навсегда, конец же не через день наступил и не через месяц, а через год с лишним.
И опять тревожно подивился склонный к аналогиям и обобщениям сочинитель: какого мрачного совершенства исполнена судьба этого человека! Своего рода эталоном была она, прообразом других, родственных ей судеб. Их, если угодно, замыслом. Уклониться от него, уже отчасти воплощенного, значило погрешить против формы, которая имела над литератором К-овым едва ли не безграничную власть. Так, например, ритм фразы играл для него роль столь существенную, что в угоду ему он готов был пожертвовать если не смыслом, то оттенком смысла, а значит, в конечном счете и смыслом тоже. К-ов расценивал это как профессиональную суетность, как малодушие, как предательство высших интересов ради в общем-то пустяков. Однако деспотизм формы, против которого восставал литератор К-ов, был втайне желателен ему, но уже не как литератору, а как человеку. Упиваясь разрушительной мощью Толстого в его сочинениях, слыша, как трещат и ломаются под его пером рамки классических жанров, К-ов одновременно восхищался тем, сколь безукоризненно выстроил Толстой сюжет собственной жизни. Каким грандиозным финалом увенчал ее… И вообще, заметил он, жизнетворчество великих писателей не только не уступает творчеству их как таковому, но часто превосходит его по силе воплощения сокровенной идеи. Она, идея эта – будь то идея Толстого, Чехова или Свифта, – всякий раз находила в их жизни адекватную форму (именно в жизни; писательство было лишь составной частью ее), аморфность же формы, а то и полное отсутствие таковой свидетельствовали об аморфности или отсутствии центральной идеи…
Аморфной на первый взгляд казалась и судьба Лушина – судьба тихая, ровная, незамысловатая, но чем внимательней всматривался в нее К-ов, тем отчетливей различал контуры почти безупречные. Он так и записал в своей тетрадке: почти, потому что одна неправильность, одно возмущение все же было.
Спровоцировала его Людочка Попова. Вообще-то она всем улыбалась, всех обласкивала близорукими своими глазами, которые не всегда различали, кого именно обласкивают они, но с ним и впрямь была особенно нежна. К-ов собственными ушами слышал, как звенел ее серебристый голосок: «Лушинек – прелесть! Что бы я делала без него?» Или – на вечере отдыха, когда спеть просили: «Это не от меня зависит. – И выразительно смотрела на своего безотказного аккомпаниатора. – Как Владимир Семенович».
Она звала его то Лушиньком, то Владимиром Семеновичем, и он, доверчивое дитя, на которое ни одна женщина до сих пор не обращала внимания, усматривал в этом знак особого к нему отношения. Голова его кружилась. Узкие плечи нерешительно распрямлялись, а полуприкрытые, как у птицы, печальные глаза начинали тревожно золотиться. То были первые, пока что отдаленные всполохи огня, который вскорости охватил беднягу с головы до пят.
Обычно Людочка завершала концерт. Улыбаясь, выходила на сцену, выходила так, будто знала: ее ждут, ей рады, и она тоже рада: здравствуйте, вот и я!.. – а Лушин тем временем усаживался за пианино, наличие которого было непременным и, пожалуй, единственным условием гастрольной поездки.
О скромном помощнике своем солистка не забывала. Едва ли не после каждой песенки – а все ее песенки встречали на бис – подымала Владимира Семеновича. Уходя же со сцены – не насовсем, ее снова и снова возвращали аплодисментами, – по-царски подавала ему свою обнаженную ручку. Не скупилась… А однажды ее мягкие, ее белые пальчики коснулись не длани его, как выразился насмешливый Ви-Ват, а целомудренного чела.
В деревенском клубе случилось это, за несколько минут до Людочкиного выступления. Рецидив детской болезни настиг семнадцатилетнего пианиста: пошла носом кровь. На лавку уложили его, вверх лицом, и кто же хлопотал больше всех и больше всех беспокоился? Конечно, Людочка. Носовой платок смочила – тонкий, кружевной, безукоризненной чистоты платочек – и аккуратно пристроила на кровоточащий нос.
Блаженно опустил он веки. А она стояла над ним в своем белом платье, как ангел – ангел-хранитель! – и тревожно вопрошала серебристым голоском: «Ну что, Лушинек? Тебе не лучше?» Горела керосиновая лампа, язычок пламени трепетал и изгибался, и так же трепетала и изгибалась, склоняясь над занемогшим аккомпаниатором, юная певица. Поскрипывая туфлями, ходил из угла в угол насупленный Пиджачок. Одна рука его сидела, как всегда, в кармане брюк – глубоко и надежно сидела, прочно, другой прикрывал зловещий глаз, словно тот мог выстрелить ненароком в расхворавшегося – так некстати! – музыканта. Лушин, однако, не сорвал концерта. Перевернув платок, тихонько носа коснулся, посмотрел, нет ли крови, и, убедившись, что нет, медленно сел.
Сергей Сергеевич остановился. «Может, не будем лучше?» – проворковала Людочка. Так нежно сказала она это, так ласково, с такой трогательной готовностью пожертвовать, если надо, очередным триумфом, что Лушинек тут же поднялся, постоял секунды две-три и осторожно двинулся к сцене. Словно по мосточку шел он. По мокрым досточкам, брошенным поперек реки. К-ов же, глядя на него, вспомнил вдруг реальную вполне речку, через которую Володя Лушин, еще не влюбленный, еще школьник, перебирался когда-то на другой берег. Весна была, вода поднялась, и камни, по которым осенью скакал с портфелем в руке отвергнутый спаситель Тани Варковской, почти все затопило…
То ли с экскурсии возвращались всем классом, то ли с общественных каких работ и, спрямляя дорогу, через парк пошли. К-ов, человек опытный, один из первых форсировал разлившуюся речушку. Во всяком случае, раньше Ви-Вата… Тот не спешил. Пропустив вперед Таню Варковскую, двинулся следом, готовый в любую минуту прийти на помощь. Но помощь не понадобилась. Спокойно, как-то даже задумчиво шла Татьяна, точно не шаткие досточки были под ногами, а твердый настил. Другие девочки повизгивали и пугливо замирали, но все в конце концов благополучно перебрались. Плюхнулся Лушин. Уже возле самого берега, шажка два или три осталось… На бок упал, вскинув руку, кепочка же – та самая, стариковская! – слетела с баклажановидной головы и медленно поплыла среди весеннего сора. Проворно поднявшись, он шагнул было за ней, но поскользнулся и шлепнулся вновь – на глазах всего класса, под дружный хохот, причем будущий биограф его – и апологет! – смеялся если не громче других, то уж и не тише. Этим своим смехом он как бы отделял себя от опозорившегося соседа: видите, видите, ничего общего нет между нами! – и даже брызги, которые попали на руки его и лицо, весело и небрежно скидывал щелчками.
Домой, разумеется, возвращались порознь. Одно дело – вышагивать рядом с Ви-Ватом – по солнечной улице, обмениваясь неторопливо умными мыслями (несбывшийся сон!), а другое – сопровождать мокрого Лушина, на которого оборачивались, хихикая, девушки… И вдруг – Тортилова дочь навстречу. Замедлила удивленно шаг, встала – К-ов, обходя ее, близко увидел тревожные внимательные глаза. Во двор свернул, а следом – он еще и дверь не успел отпереть – они…
В глубине распахнутого окна желтело лицо Тортилы. Кота не было рядом, внизу разгуливал по весенней травке, на голубой длинной ленте, которую крепко держала хроменькая Тортилова внучка.
При виде Лушина она ленту выпустила – такой у него был видец. «Ты утонул, да?» – спросила испуганно. Забыв о коте, поспешила – с тетей и гостем – в дом, кот же, дурачок, не воспользовался свободой, не удрал, а запрыгнул на подоконник и воссел рядом с хозяйкой. Так и красовались в оконной раме, точно нарисованные, и лишь свисающая до земли голубая лента слегка раскачивалась на весеннем ветру… Именно она и запомнилась почему-то К-ову, а вот что в доме делалось, беллетрист довообразил. Довообразил, как заставили раздеться его героя, как согрели на примусе воду и приказали ноги парить, а тем временем брюки его, уже выстиранные, сушились горячим утюгом. Сцена эта, по замыслу автора, перекликалась (рифмовалась) с эпизодом в тесном и темном деревенском клубе, когда у переутомившегося аккомпаниатора пошла носом кровь.
И там и здесь сирота, пасынок, изгой был в центре внимания. И там и здесь хлопотали вокруг него, нянчились, но в клубе, пожалуй, обошлись даже поласковее. Собственными глазами видел фокусник (не вообразил – видел!), как нежные пальчики опустились на побледневшее чело, которого вот уже столько лет не касалась женская рука. (Шесть! Шесть или семь: мать умерла, когда ему было десять.) Лушин прикрыл глаза. Слабый ток пробежал по его субтильному телу, точно его, до сих пор существовавшего как некая суверенная система, подключили ненадолго в электрическую цепь. В первоначальных набросках сцена эта фигурировала как «Спортзал» – в память о том уроке физкультуры, когда гордячка Варковская нечаянно дотронулась до руки К-ова, но жизнь диктовала иной сюжет, и не посмевший перечить ей автор перенес эпизод в сельский очаг культуры.
Воскресший целительным прикосновением, Лушин поднялся и сомнамбулически прошествовал на сцену. Ах, как пела в этот вечер Людочка Попова! Как жарко аплодировали ей! Как растроганно подымала она своего помощника, вперед выводила (за руку!) и хлопала ему вместе со всеми! А он? Он стоял, как истукан, не кланялся и не улыбался и, кажется, лишь в кузове учебной машины, которая торопливо везла их в город, пришел мало-помалу в себя.
Проселочная дорога была пуста – ни встречных фар, ни огонька в степи, только густо горели над головой звезды, уже по-осеннему холодные. Прижавшись друг к дружке, подняв воротнички (девушки – те прикрывались трепещущими на ветру платками и шалями), горланили мы песни. Подпевал и Лушин – благо никто не видел в темноте, а безголосый К-ов воображал себя едва ли не солистом.
Что, неужто и его тоже коснулись в тот вечер ласковые девичьи пальцы? Нет, не коснулись, пока еще не коснулись, но впереди была ночь, и ночь эта обещала многое… К благополучной дочери уехала бабушка, один остался он, но тем не менее знал, что его ждут – ждут, несмотря на поздний час, и явятся без стука.
Так уже было вчера. С распахнутой настежь дверью сидел он в кухоньке и, пользуясь бабушкиным отсутствием (запрет на писанину все еще не был снят), творил вдохновенно. И вдруг чувствует: он не один.
Семнадцатилетний пиит (тогда еще К-ов числил себя пиитом) поднял голову. Прямо перед ним, на фоне колеблющейся от ночного ветерка занавески стояла… Не прекрасная незнакомка, нет – стихотворец уже видел ее и даже знал, как ее зовут (Ольга), знал, что живет она на квартире у Варфоломеевской Ночи, а работает на автостанции в кафе (дворовая служба информации действовала безупречно), но официально, так сказать, знакомы не были. Встречаясь с ней – во дворе ли, на улице, упорно смотрел он в сторону, однако особого волнения при этом не испытывал. Слишком красива была она. Слишком уверена в себе. Слишком – Таня Варковская… Одна из Тань, ослепительный ряд которых уходил в бесконечность – как и ряд Ви-Ватов, и ряд Лушиных. (А также, убедился он с годами, одиноких Тортиловых дочерей…)
Эта женщина, знал К-ов, не для него. Он понял это давно, еще школьником понял, когда с портфелем в руке сиганул через речушку и, повернувшись к бывшему горсаду, теперь торжественно именуемому парком культуры и отдыха, увидел вдруг все так ясно-ясно. И сочную осоку, на острие которой балансировали, слетев с тополей, желтые листья. И полуобломанный куст на том берегу. И осклизлый булыжник, что служил постаментам для окаменевшей лягушки, – прообраз фонтана, явленного ему много лет спустя в доме Свифта.
Итак, на фоне колеблющейся занавесочки стояла квартирантка Варфоломеевской Ночи. Не спросив, можно ли, не извинившись за вторжение, не поздоровавшись, медленно приблизилась к кухонному столу. Высока и крупна была она, но двигалась бесшумно, как Таня Варковская.
На этом, пожалуй, сходство заканчивалось. А вот различий много было, главное же заключалось в том, как смотрели – та и другая – на К-ова. Собственно, Варковская никак не смотрела, вернее, смотрела, но не видела, не замечала, эта же глядела прямо в глаза и загадочно улыбалась. «Стихи?» – произнесла глуховато (это было первое ее слово), и взгляд насмешливо скользнул по вырванным из школьной тетради исписанным листкам.
К-ов, ошеломленный, инстинктивно прикрыл их рукой. Ни одна живая душа не знала о писанине – кроме, разумеется, бабушки, которая не одобряла ее, и Валентины Потаповны – та, наоборот, относилась сочувственно. (Сестры редко в чем сходились.)
«Не бойся, – успокоила поздняя гостья. – Я не любопытная».
Она села, и теперь лицо ее было совсем близко. Темные сросшиеся брови слегка шевелились. «Ты ведь знаешь, как зовут меня?» – «Знаю», – признался он и убрал наконец руки, а стихи остались.
Она засмеялась – уже не про себя, уже открыто. «Я знаю, что ты знаешь».
Он почувствовал, что краснеет. А стихи, между прочим, были о любви, но о любви не к кому-то конкретно, а о любви вообще.
«Ты не куришь?» – вдруг спросила она. К-ов оскорбился. «Чего это не курю!» – «Куришь? – подняла она свои великолепные брови. (В глаза смотреть он не решался.) – И вино пьешь?»
Пиит молчал. Образ Стасика призывал он на помощь: уж Стасик бы нашелся сейчас, что ответить, но он был далеко, находчивый Стасик. (Хотя бабушка уже считала деньки до очередного его возвращения.) Пиит молчал, и тогда Ольга, загоревшая, с серьгами в ушах, поднялась, взяла обеими руками его звонкую голову и поцеловала в губы.
К-ов задохнулся. Задохнулся и смолк, выпал из песни, которую рвал и уносил в ночь степной ветер, по-осеннему холодный. Нет, не от ветра задохнулся-он – от поцелуя, от вчерашнего, в кухоньке, поцелуя, который вот только теперь, спустя сутки, настиг его в кузове мчащегося к городу автомобиля.
На горизонте уже мерцали огоньки – фокусник оборачивался и, щурясь, всматривался в них. Да, с опозданием настиг его поцелуй, но важно, что настиг, не затерялся, не пропал бесследно, а мог ведь и пропасть, поскольку в ту минуту – минуту, когда случилось это, – он его не почувствовал.
Ольга поняла это. С улыбкой достала из-за пазухи носовой платок и осторожно, как ребенку, вытерла губы.
Платочек, разумеется, был надушен, но аромат его, как и поцелуй, догнал К-ова лишь сутки спустя, оттеснив овевающие грузовик запахи осенней земли. Однако и они тоже не сгинули навсегда, пришел и их черед, хоть и нескоро: лет этак через семь или даже десять. В самолете летел беллетрист, высоко над облаками, причем летел не в родной город (тогда хотя б понятно было, почему вспомнилось вдруг), а куда-то на север. Быть может, струйка вентилятора коснулась лба, напомнив ту ночную поездку?.. Вот так и жил он – как сурок, как крот какой-нибудь, таща все в нору – нору памяти, разветвленную, с бесконечными ходами и кладовками, с темными углами, куда предпочитал не заглядывать. Жил, по сути дела, впрок, для другой, будущей жизни, настоящее же доходило с запозданием, подобно свету звезд, иногда уже и погасших. Не оттого ли и зяб постоянно? Не оттого ли и любил так солнце? И час, и два мог бездумно пролежать под припекающими лучами, хотя врачи запрещали да и чувствовал себя потом скверно, бессонницей мучался, но встать и уйти не хватало воли. По сути, то была единственная радость, которую он, сурок, не тащил в нору, не припрятывал на потом, а весь, до конца – или почти до конца – растворялся в ней. Оставались лишь нагретые солнцем глазные яблоки под тонкими багровыми веками… Да горячее солнечное пятно на плече, которым лень было шевельнуть… Да узенькая полоска кожи где-то на далекой-далекой ноге, щекотно оживающая под проворной и назойливой мушкой. Ее бы смахнуть – пусть летит! – но приказы дремлющего мозга не достигали конечностей, гасли, и насекомое беспрепятственно разгуливало по его словно бы отдельно живущему телу. Бессмертно было оно – снова бессмертно! – как солнце над головой, как земля, бегущая под ногами ребенка, как лошадь, везущая гроб, как человек в гробу… В сущности, совсем недалеко ушел он от красноводской той дороги – дороги на кладбище, а жизнь между тем давно одолела половинный рубеж и летела, не оглядываясь, к своему завершению.
К-ов чувствовал, что не поспевает за ней. Спохватываясь, делал вид, что ему за сорок (хотя ему и впрямь было за сорок), и эта имитация собственного возраста порой смешила его, порой угнетала. Опять на Лушина оглядывался – вот кто жил в полном соответствии со своим паспортом! А когда-то даже опережал – конечно, опережал (чего стоила одна только белая кепочка!), – но кудесница Людочка Попова коснулась его, навзничь лежащего на лавке с побледневшим лицом, и он ожил, он помолодел, он встал и, балансируя, прошествовал по досточке к инструменту… Да, он помолодел и на обратном пути пел вместе со всеми – неслыханно!
Людочка рядом сидела. Наклонившись к самому уху его, шепнула: «У тебя замечательный голос, Лушинек», – хотя как, спрашивается, могла она распознать его голос? «А ушко – холодное!» – прибавила она засмеявшись.
Бедный Лушинек! Бедный счастливый Лушинек – он сжался весь, он втянул голову в плечи, и никакой ветер не в силах был сорвать и унести тепло ее быстрых губ.
В ту ночь он не мог уснуть, ворочался и, не выдержав, тихонько поднялся. Из соседней комнаты доносился храп мачехи; там же отец спал, но спал неслышно, точно и во сне боялся лишний раз подать голос. Жмурясь от света, сын подошел к зеркалу и долго стоял перед ним в черных сатиновых трусах на молочно-белом теле. В отличие от К-ова он не переносил солнца…
К-ов тоже не спал в эту ночь. Когда он, с чемоданчиком, в котором лежал его немудреный реквизит, вошел торопливым шагом во двор, света в окнах Варфоломеевской Ночи уже не было. Легли обе – и хозяйка, и квартирантка? Нет, лечь Ольга не могла – иначе зачем выпытывала вчера, во сколько закончится завтрашний концерт, и как далеко деревня, и долго ли еще прогостит у дочери бабушка, которую она сама посадила в автобус? Об этом, собственно, и зашла проинформировать внука…
Аккуратно поставив на крыльцо гастрольный свой чемоданчик, перетянутый на всякий случай веревкой, долго шарил в брюках, хотя отлично помнил, что ключ в пиджаке. Наконец отпер дверь, широко распахнул, вошел, откинув занавесочку, – точь-в-точь, как вчера откинула ее Ольга, и зажег в кухоньке свет. Дверь за собой, однако, не прикрыл.
Не бабушка ли и проболталась о стихах, растаяв от нежданной помощи молодой соседки? В кассу на автостанции была очередь, она даже подумывала, не вернуться ли домой, как вдруг – тук-тук по плечу. В сторонку отзывают, спрашивают ласково, куда ехать собрались, и через три минуты выносят билет. «Ая-то и как звать ее не знаю!» К-ов слушал с отрешенным видом и имени не назвал, хотя про себя твердил его постоянно.
«Ольга! – радостно сообщила вскорости бабушка. – Ее Ольгой зовут… Какая замечательная!»
Для нее, привыкшей надеяться лишь на себя, замечательны были все, кто проявлял о ней хоть какую-то заботу. Благодарила растроганно, едва ли не со слезами на глазах, и даже в последние свои дни (и часы!), уже обреченная, произносила чуть слышно: «Спасибо, доктор!» Не жаловалась ни на что, ни о чем не спрашивала врачей, но, кажется, понимала все.
Едва К-ов, прилетев из Москвы, вошел в палату, собственными руками (они дрожали, старенькие, словно боялись не успеть) надела на него крестик. Он запротестовал было, но очень слабо. Не надо, понял, протестовать. Нельзя… Руки ее обессиленно упали на казенную койку – тонкие, сухие, с исколотыми синими венами. Она прикрыла глаза и лежала так, отдыхая. Внук не мешал ей. Она лежала, легкая, готовая, успевшая все…
Не все… Ночью вспомнила вдруг, что не забрала белье из прачечной. Внук успокоил ее: завтра же возьмет, хотя знал, разумеется, что не до прачечной сейчас. Бабушка посмотрела на него и ничего не сказала, не разомкнула спекшихся губ, но он понял, о чем подумала она.
Утром, придя из больницы, сразу же взялся за поиски квитанции. Не тут-то, однако, было. Отовсюду лезли какие-то лоскуты, коробочки какие-то и конверты, пожелтевшие бумаги с записями, в которых, мелькнуло вдруг, ему вскорости предстоит разбираться. В отчаянье опустился он на тахту. Медленно, будто впервые здесь, обвел взглядом комнату. Вот гардероб – К-ов помнил его столько же, сколько помнил себя. Гардероб этот пережил оккупацию, был ранен (на боковине шрам остался) и одиноко встретил их в разграбленной квартире, когда они, уже без деда, вернулись в сорок четвертом. (Бабушка рассказывала, что нашли в нем велосипедное седло и присыпанные землей луковицы георгинов.) Вот сервант – светлый, новый, но новый по сравнению со стариком гардеробом, а вообще-то давно уже вышедший из моды. Вот «Неизвестная» Крамского – одна она только и смотрела открыто, не таясь, все же остальное следило за ним исподтишка, недоверчиво и почти враждебно, как за чужим, хотя он-то здесь чужим не был. Но вещи не верили ему. Чувствовали: предаст их, сбежит, скроется, едва без хозяйки останутся. Но пока они были еще под ее защитой и молчаливо корили за бесцеремонность, с какой он, самозванец, командовал тут.
Квитанцию он все же нашел. На телевизоре лежала, на самом видном месте…
Девушка в прачечной покопалась недолго (ему, впрочем, казалось, что долго) и вынесла тонкую пачечку. У него горло сдавило, когда взял, – такой легкой была она, почти невесомой. Простынка, наволочка, два полотенца… Одно из них, хотя не было в этом никакой надобности, в тот же день принес в больницу. «Вот! – молвил браво. – Чистенькое. У вас тут хорошо стирают». Бабушке нравилось, когда хвалят ее город, улицу ее, двор… Сейчас, однако, глянула тускло и отвернулась.
И все-таки не в больнице было ему хуже всего – дома. В ее таком пустом вдруг, таком неуютном без хозяйки жилище. Места себе не находил и все рвался, рвался назад, в восьмую, на втором этаже, палату.
Еще с лестницы, с последних ступенек, быстрым тревожным взглядом окидывал коридор. И если видел, что сестра буднично перебирает что-то у своего поста, если видел спокойно гуляющих больных, причем кое-кто приветливо кивал ему, то страх, нехороший, предательский по отношению к бабушке страх отпускал его, и он, переведя дух (как будто запыхался, подымаясь), твердым шагом направлялся к палате.
Ночью все спали – и врач в дежурке, и сестра, и сопалатницы, он же пристраивался в коридоре на твердой, короткой, обитой холодным дерматином скамье. Но это даже хорошо, что твердым и холодным было его ложе – не разоспишься. Дверь в палату оставалась открытой, и он напряженно прислушивался – как когда-то, в другой совсем жизни, прислушивался, лежа у горячей стены, к звону кастрюль на плите, шипению воды или стуку упавшего на жесть уголечка. Только теперь они с бабушкой поменялись местами. Он был взрослым и сильным, а она – слабой, точно уменьшившейся (из головы не выходила та жалкая пачечка белья), и никого, кроме их двоих, не было на свете.
Стоило шевельнуться ей, как он тотчас подкрадывался на цыпочках. Давал воды, судно давал, поправлял одеяло. Она, несмотря на полумрак и забытье, сразу же узнавала его, и это внушало ему наивную (он понимал это) надежду. «Ты не спишь…» – переживала бабушка. Он бодро успокаивал ее: еще как сплю! Эта забота о нем – поспал ли он, поел ли («А ты? – произносила она, когда он, точно ребенка, кормил ее из ложечки. – Ты кушал?») – эта забота не угасла в ней до последнего ее мига. Все пережила, даже страх смерти.
Да и был ли он, этот страх? Малограмотная, не склонная к отвлеченным рассуждениям старая женщина, панически боявшаяся всю жизнь врачей, она умерла спокойно и тихо, как мудрец. Смерть не застала ее врасплох – бабушка успела подготовиться к ней, и бессознательная подготовка эта, постигал мало-помалу образованный ее внук, началась не с раздачи вещей, не со страха перед закрытыми дверьми и не с потрепанного машинописного сонника, который он нашел у нее под подушкой; она началась с той красноводской дороги, по которой тащилась подвода с некрашеным гробом, а рядом сидел, болтая ножками, так некстати явившийся в мир, не нужный никому ребенок.
Никому – кроме нее…
Незадолго до лушинского романа К-ов написал и напечатал статью, которая называлась «Другая жизнь людей». Слова эти он взял в кавычки, поскольку у Толстого позаимствовал их, причем у Толстого молодого, автора «Отрочества». Именно там прозвучали они в первый раз, прозвучали, как озарение: не все интересы, оказывается, вертятся вокруг нас, существует другая жизнь людей, но это – в первый раз, а когда – в последний? В последний – на станции Астапово, за шестнадцать часов до смерти. «Кроме Льва Толстого, есть еще много людей, а вы смотрите на одного Льва». Больше полувека, стало быть, шел от себя к другим людям, но вот дошел ли, сомневался К-ов. Ведь даже на смертном одре, говоря и думая об этих других, одновременно говорил и думал о Льве Толстом. Не выпускал его, единственного в се-таки Льва, из поля своего меркнущего зрения – как не выпускал, как внимательно следил, фиксируя каждый шаг, каждое движение души, на протяжении всей своей жизни.
Это трезвое и жесткое отношение к себе, это нарастающее неприятие себя, несовершенного, долго служили примером для литератора К-ова, однако с некоторых пор в сердце его закралось подозрение, что прийти к другим людям можно лишь через себя. Коли не принимаешь (не любишь) себя, то обязательно – или почти обязательно – не принимаешь (не любишь) других.
Толстой, все больше убеждался К-ов, себя не любил. Не любил за чрезмерную как раз любовь к себе, за сосредоточенность на себе, за не отпускающий ни на миг страх смерти… Удивительно ли, что и других людей он в конце концов полюбить не сумел, несмотря на пять десятилетий беспрерывных отчаянных усилий?









































