Текст книги "Пир в одиночку"
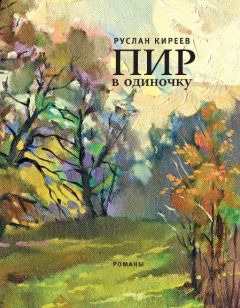
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Метаморфозы, или Золотой Апулей
(…) как между жвачным, о четырех ногах, длинноухим существом и юным греком по имени Луций.
Общее, однако, есть, хотя К-ов обнаружил его не сразу, – сперва мелькнула лишь смутная догадка, которой он не только не придал значения, но даже в некотором смятении постарался оную отогнать. Ну какая, в самом деле, связь между гимном любви – сам Рафаэль запечатлел на своих фресках героев апулеевской новеллы Амура и Психею! – и изощренно-холодными инвективами защитительной речи, первого дошедшего до нас документа подобного рода, пусть даже творец новеллы и автор защитительной речи суть одно и то же лицо!
Да, Апулея с его «Апологией» следует, безусловно, считать первым, ибо «Апология Сократа» написана не Сократом, а Платоном (разница здесь такая же, как между мемуарами человека и воспоминаниями о нем), и именно написана – не произнесена; Апулей же свою речь, как то и положено речи, произнес, произнес публично, в огромном театре, руины которого сохранились до сегодняшнего дня. Можно сказать, они только и сохранились, сам же город Сабрата, некогда богатая римская провинция, почти полностью занесен песком.
В чем обвиняли тридцатилетнего риторика? Разумеется, в магии, в чем же еще – преступлении, по тем временам, страшном, дело могло закончиться смертной казнью. Апулей защищался. Он защищался изобретательно и вдохновенно, ибо прекрасно отдавал себе отчет в том, что «невинность и красноречие одно и то же» А потому прямо объявил: «Никому в красноречии не уступлю».
С тем же правом мог бы сказать: никого не пощажу, однако придержал язычок, не ляпнул, но пощадить не пощадил, даже собственную жену Пудентиллу, в магическом обольщении которой его, собственно, и обвиняли, – не пощадил, нет, несмотря на то что с лукавым великодушием аттестовал ее как женщину «безупречно целомудеренную».
«Пудентилла провела, – уверял громогласно, – годы вдовства без единого проступка, и молва не коснулась ее. Но, отвыкнув от супружеской жизни, ослабев от долгой бездеятельности своих внутренних органов и страдая тяжелым расстройством матки, она часто оказывалась на краю гибели, изнемогая от страшных болей».
И этакое говорилось высокообразованным, щеголяющим эрудицией оратором принародно, на весь, по сути дела, мир, – К-ов, читая, глазам своим не верил… Тут-то и мелькнула впервые мысль о сходстве: нечто подобное, смутно припомнилось ему, есть и в «Метаморфозах», в той их части, где повествуется об Амуре и Психее. Переворошив страницы, благо обе вещи были напечатаны под одной обложкой, К-ов отыскал это место. «Психея, в девах вдовица, сидя дома, оплакивала пустынное свое одиночество, недомогая телом».
Но то было сходство внешнее, подобных совпадений он потом отыскал немало. Во-первых, герой «Метаморфоз» молодой Луций, не без пользы для себя побывавший ослом и вновь обретший человеческий облик, идет по стопам своего создателя и с упоением подвязается на поприще судебного ораторства. Во-вторых, выясняется, что он, как и Апулей, родом из африканского города Мадавра, хотя и упоминает вначале о своем греческом происхождении… Но все это сходство внешнее, была же, была, чувствовал К-ов, и некая внутренняя связь между циничными откровениями речи в свою защиту и поэтической сказкой, литературных и живописных версий которой не счесть, в том числе и на русском языке: беллетрист специально перечитал «Душеньку» Ипполита Богдановича, столь популярное в допушкинские времена стихотворное переложение апулеевского сюжета.
Любовь Амура, разумеется, бескорыстна, чего не скажешь об авторе «Апологии»; именно корысть Апулея была главным козырем истцов на судебном процессе, родственников первого мужа Пудентиллы, которая, овдовев, долгое время отказывала всем претендентам на ее руку (а следовательно, и ее богатство), и вдруг пошла за полунищего, много младше ее, юнца. Без колдовства, ясное дело, не обошлось, что и пытались доказать на суде противники Апулея. И рыбу, мол, потрошит, и некий талисман хранит в доме, а все это, как известно, атрибуты магических обрядов – с их-то помощью, дескать, и завладел бедной женщиной. (А заодно и ее деньгами.)
В качестве доказательства ворожбы приводились собственные письма Пудентиллы – в одном из них она прямо объявляет своего избранника магом. «Апулей – маг, я околдована им и влюблена. Приди же ко мне, пока я еще в здравом уме».
Это кого ж зовет на помощь влиятельная вдова? Старшего сына своего Понтиана, что некогда учился вместе с Апулеем и впоследствии уговорил мать выйти за него замуж. Теперь Понтиан мертв, письма же к нему фигурируют в качестве улики против злокозненного колдуна. Но Апулей не сдается. «Пудентилла назвала тебя в письме магом – стало быть, ты маг», – цитирует он одного из своих обвинителей и саркастически добавляет: – А если б она написала, что я консул, так я был бы консулом? А что, если б она назвала меня живописцем, а что, если врачом? Да и вообще, задает автор «Амура и Психеи» риторический вопрос, «неужели все те, кого любят, – маги?»
Амур, в которого так беззаветно, так преданно влюблена Психея, – более, чем маг, он бог («Психея воспылала любовью к богу любви») – юный бог, крылатый мальчик, как с нежностью называет его автор, но любовь-то прелестной царевны при всех ее волшебствах – более чем земная. И ведет себя эта молодая женщина, обратил внимание бытописатель К-ов, совсем по-земному, именно как женщина.
В загробное царство посылает ее коварная Венера, за снадобьем красоты, и Психея, послушно взяв в руки по ячменной лепешке, дабы заткнуть глотку злобному Церберу, а в рот сунув монетки для Харона, переправляется через реку мертвых Стикс. Беспрепятственно минув благодаря лепешкам трехголового пса, получает-таки заветную баночку, после чего беспрепятственно выбирается наверх. И вот тут-то происходит сцена, которую сочинитель книг читал с упоением и завистью.
Ни в коем случае, предупреждали Психею, «не вздумай открывать баночку, которая будет у тебя в руках, или заглядывать в нее, не проявляй любопытства к скрытым в ней сокровищам божественной красоты». Легко сказать: не проявляй! Это к сокровищам-то красоты, да еще божественной! Какая женщина удержится тут – сейчас ли живущая, две ли тысячи лет назад! «…хотя и торопилась она поскорее исполнить поручение, дерзкое любопытство овладело ею».
К-ов так и подпрыгнул на стуле: любопытство! Знал, знал женское сердце античный автор, так что вовсе ни к чему было прибегать к магическим заклинаниям. «Какая я глупая, – рассуждает Психея, – что не несу с собой божественную красоту и не беру от нее хоть немножечко для себя, чтобы понравиться прекрасному моему возлюбленному». После чего со спокойной совестью открывает заветную склянку.
В отличие от Рафаэля (и даже соотечественника своего Богдановича) К-ов видел, читая эти строки, не сказочную царевну, не бестелесную душу (Психея-то – душа по-гречески), а живую грешную женщину, возможно даже – Пудентиллу. Почему нет?
Еще он видел Апулееву жену в сцене, когда «ненасытная и к тому же любопытная Психея», нарушив клятвенное обращение ни в коем случае не смотреть на возлюбленного, прилетающего к ней под покровом ночи, зажигает украдкой светильник.
Зрелище, открывшееся ее глазам, потрясает бедняжку. «Разгораясь все большей и большей страстью к богу страсти, она, полная вожделения, наклонилась к нему и торопливо начала осыпать его жаркими и долгими поцелуями».
Психея, конечно, ведет себя неразумно – а что взять с несчастной, которая «околдована… и влюблена»! Но ведь это слова Пудентиллы: околдована и влюблена, сам же Апулей, с изумлением обнаружил К-ов, о любви к спутнице жизни, которой домогался с таким неистовством, не сказал во всей своей пространной, изощренной и пылкой речи ни разу. Ни единым не обмолвился словечком.
Что означает сие? Только одно: брак молодого и малообеспеченного интеллектуала с богатой вдовой был, разумеется, браком по расчету, и интеллектуал не скрывал этого. Он отдает должное супруге – «женщина безупречно целомудренная», – но про какие бы то ни было чувства умалчивает. И это человек, сложивший одну из самых прекрасных на земле поэм о любви, апологию любви, апологию не как защиту, а как возвеличивание! Подобное превращение делового и насмешливого софиста в нежнейшего лирика – метаморфоза, конечно, не менее удивительная, нежели все превращения Луция, но в ней, в чудесной этой метаморфозе, просматривается своя логика. Та самая внутренняя связь просматривается, то общее, что тайно соединяет эти две истории, на первый взгляд, столь же несхожие, как не схожи между собой изящный грек и вьючное животное. Без Пудентиллы, стало быть, не было б и Психеи… Без хладнокровного, откровенного до бесстыдства судебного оратора не существовало б возвышенного поэта. Чем расчетливей, рассуждал далее К-ов, чем трезвее и осмотрительней ведет себя человек, тем больше душа его, психея, воспламеняется «любовью к богу любви». Именно к богу, лицезреть которого, впрочем, способно лишь идеальное зрение, а когда это пытается (…)
Темный период в жизни По
(…) из которой он рано ли, поздно ли, но выныривает, как на яркий солнечный свет выныривает из туннеля поезд, а затем опять скрывается во тьме, иногда надолго, иногда нет, и эти-то исчезновения, эти таинственные провалы завораживают сильнее, нежели свершающееся на свету. Ибо там, в туннелях, догадываются прозорливые люди, и происходит самое главное. Всеми правдами и неправдами стремятся проникнуть туда прозорливцы, иногда получается – гордые, обнаро-дывают в биографиях да монографиях, что они там узрели.
Но кое-что все же остается недоступным для вездесущих глаз. Эдгар По, по крайней мере, один свой туннель замуровал наглухо, и этот триумф конспиративного искусства обозначен в жизнеописаниях мастера как «Темный период в жизни По».
С декабря 1829 года по май 30-го длился «темный период»; По был неизвестно где и неизвестно что делал, чуть ли не в Петербург, поговаривали, занесло искателя приключений, – российскому литератору К-ову версия эта, разумеется, пришлась по душе.
Не сохранилось ни одного четкого графического либо живописного изображения американского классика, не говоря уже о наивном дагерротипе – все смазаны как-то, стерты, подернуты дымкой, пробиться сквозь которую взгляд не в силах. Разве что мысленный… Этот пробивается и, пробившись, схватывает там, в другом времени (и на другой стороне земного шара), тонкую, прямую (очень прямую – настаивают мемуаристы), щеголеватую, в черном сюртуке, фигурку, быстро-быстро шагающую в лучах солнца по деревянному тротуару.
Куда? К Виргинии, небось, куда же еще, к Виргинии или от Виргинии – маршрут этот стал с некоторых пор неизменен, – а именно с тех самых пор, с того самого времени, когда восемнадцатилетний сирота впервые увидел свою двоюродную сестру. Семь лет было нежной шалунье, но годы шли, кузина становилась еще нежнее, а вот шаловливость мало-помалу истаивала: в женщину превращалась несравненная Виргиния. Четырнадцати не исполнилось, как тайком обвенчалась с братцем, – а впрочем, спросит он в одном из своих писем, не к ней обращенном, к другой, – «у души есть ли возраст?»
У души! Не с человеком, сделал вывод К-ов, а с душой предпочитал иметь дело, субстанцией нематериальной, которой телесная оболочка только мешает, а посему скинуть бы поскорей, отбросить вон, и тогда, чуял чуткий Эдгар, глазу откроется нечто удивительное, предмет вдохновенного восторга. «Смерть любимой женщины вне всякого сомнения – самая возвышенная поэтическая тема в мире».
Так скажет романтик По, и реалист К-ов схватится за эти слова как за Ариаднину нить и пойдет, пойдет, ведомый ею, от рассказа к рассказу – «Лигейя», «Элеонора», «Береника», «Морелла», – с трепетом узнавая в обреченных на смерть нежных и беспомощных героинях подругу автора.
Она, верная подруга, тоже проделала этот путь, разве что для нее это был путь не постижения, а послушания, радостного подчинения воли творца – в данном случае, творца литературных текстов. «На ее щеке, – предписывалось в одном из них, – загорелось алое пятно нестираемого румянца», – и, точно отсвет, на лице Виргинии, жены-подростка, чахоточный румянец занялся тоже – занялся, чтобы никогда больше не угаснуть. Вернее, угаснуть вместе с жизнью…
Умница Виргиния хорошо понимала все и не противилась, вот только зябла – ах, как же зябла бедняжечка! Муж, бледный, с подергивающимися усиками, заботливо укрывал ее нетолстым своим пальто: ни дров, ни теплого одеяла в обнищавшем доме не было, зато была большая пестрая кошка, чудный зверь, который мягко вспрыгивал на кровать сразу четырьмя лапами, сгорбленно замирал на миг, а потом, мурлыча, укладывался, стараясь согреть хозяйку своим горячим, своим кошачьим теплом… Муж укрывал ее, а сам с лихорадочным, неподвижным устремленным взором уходил в вечернюю промозглость, без пальто уходил и без головного убора – прямой, быстрый, с гордо вскинутой красивой головой, – растворялся во мраке, пропадал в очередном «темном периоде», который был, конечно, не столь протяжен, как тот, что стал камнем преткновения для въедливых биографов, но и не короток – нет, не короток: Виргиния успевала соскучиться, а кошка проголодаться. Возвращаясь, поил обеих молоком да и сам тоже прихлебывал, удивляясь про себя, как мог предпочесть этому божественному, этому очищающему напитку разные пойла, которые прескверно действовали на бедный его желудок и еще хуже – на голову. «Темный период» кончался, начинались светлые – По эти периоды просветления назвал однажды ужасными, чем немало озадачил моралиста К-ова. Раскаянье? Не только, чувствовал доморощенный исследователь, не только… Был тут, чувствовал он, и другой смысл, был тут и другой ужас – ужас перед светом, обрекающим творца на бесплодие: зачатие-то как-никак свершается во мраке…
Штудируя «Философию творчества», К-ов обратил внимание, что По шаг за шагом описывает, как ложился на бумагу знаменитый «Ворон»: «работа… шла к завершению с точностью и жестокою последовательностью, с каким решают математические задачи», но опускает главное. «Отбросим, как не относящуюся к стихотворению как таковому причину или, скажем, необходимость, которая и породила вначале намерение написать некое стихотворение».
Ничего себе – «не относящуюся»! Великий аналитик, основоположник метода дедукции в литературе, изобретатель «логических рассказов» попросту водит читателя за нос. А может, заподозрил К-ов, не столько читателя, сколько самого себя, страшащегося темных своих периодов не меньше, нежели периодов светлых? Ибо там, в темноте, постигал такое, о чем недоставало духу сказать на свету, лишь пробалтывался ненароком то в стихотворной строке, то в прозаическом пассаже.
«Нужно ли говорить, сколь неотступно и страстно ждал я смерти Мореллы? Я ждал, но хрупкий дух был все неразлучен со своей земной оболочкой, все медлил на протяжении долгих дней недель и томительных месяцев».
Виргиния не медлила. Спокойно, с улыбкой любви и обожания на детском лице прошла до конца, до печального финала отмеренный супругом путь. Похоронив ее, автор «Ворона» и духу перевести не успел: сразу сделал предложение томной одной поэтессе (Елена Уитмен звали избранницу), причем сделал не где-нибудь, а на кладбище. После чего настрочил вдохновенное письмо, которое заканчивалось мечтательным реверансом: «Елена, если бы вы умерли – тогда, по крайней мере, я сжал бы ваши милые руки в смерти».
Разумеется, это был шепоток из туннеля, голос из «темного периода» – здравомыслящая Елена, отшатнувшись, голосу не вняла, не пожелала умирать, как, впрочем, и другие женщины, которым обезумевший вдовец наскоро предлагал руку и сердце. Бесполезно предлагал, второй Виргинии не нашлось, Виргиния была единственной, это его собственное словцо, и он сам подчеркнул его, отправляя кузине-жене весточку незадолго до ее тихой, ее счастливой – угодила-таки любимому! – кончины, перед тем описанной им в полупророческих, полуинструктивных историях. Героиня одной из них, Лигейя, не просто опускается на смертный одр, а опускается «торжественно», Элеонора, героиня другой, «умирая спокойно и мирно», уверяет, что дух ее будет охранять любимого, а Морелла в свой последний час клянется: «Я умираю, и все же буду я жить», – и действительно воскресает, правда в другом уже обличье, но это не суть важно. Важен факт воскрешения.
Но чтобы воскреснуть, чтобы родиться заново, надо сначала умереть – не в этом ли и заключается тайна «темного периода»? Тайна, постичь которую – постичь до конца – можно одним-единственным способом: самому войти внутрь…
Вплотную приблизился современный сочинитель к черному зеву, однако решающего шага сделать не отваживался, равно страшась, дитя сумерек, как яркого – слишком яркого – света, так и кромешной тьмы. Овеваемый холодной сыростью, прикрывал бесполезные глаза, и ему, обреченному на вечное бесплодие, ясно виделось, как легким шагом устремляется в туннель прямая тонкая фигура в строгом черном наглухо застегнутом сюртуке. Будто навсегда исчезает всякий раз, без надежды на возвращение, без возможности возвращения, разве что чудо случится, и – чудо случалось, туннель отпускал.
Но однажды дождливым осенним утром не отпустил с миром, а выбросил; да-да, именно выбросил, вышвырнул: в беспамятстве, с царапинами на лице, в разодранной грязной рубашке – до сих пор рубашки на нем были безупречно чисты. Подобранный чужими людьми, мастер «логических рассказов» не мог, как ни силился, и двух слов связать, лишь мучительно взглядом поводил, уже меркнущим. А может, предсмертная немота эта и была (…)
Непокоренная высота поэта Байрона
(…) или в нем заговорила вдруг зависть к природе, к этим диким горам, по которым пробирался с верными спутниками на лошадях и мулах, но чем выше, тем чаще приходилось спешиваться, едва ли не на четвереньках карабкаться, раз даже, упав, рассек палец, – да-да, именно зависть к природе, столь величественной и суверенной, заставлявшей еще сильнее ощутить унизительную зависимость ну ладно от рока, но ведь и от людей тоже, от цепких их, от липких их предрассудков. (Они это предрассудками не считали. Они это считали нормой, законом, божьим установлением. Божьим!)
Из пораненного пальца капала кровь. Байрон машинально сунул его в рот – ах, как странно контрастировал этот детский жест с злым неистовым взглядом, каким медленно обводил заснеженные вершины!
На оставшемся далеко внизу крутом утесе чернела освещенная солнцем аккуратная, человечная фигурка – пастух? охотник? На обратном пути убедился по звукам свирели: пастух (в дневнике его игре посвящено несколько слов), но в поэме, начатой здесь же, в Бернских Альпах, и здесь же, в Бернских Альпах разворачивающейся: холодное безмолвие гор взрывают трагические монологи чернокнижника Манфреда, – в поэме тем не менее фигурирует охотник. Именно он подхватывает в последний миг уже занесшего ногу над бездной, уже распрощавшегося с жизнью героя и бережно сводит его, изнемогшего, вниз, в хижину.
С пристрастием и глухим темным волнением, предвестником недозволенного прозрения, сравнивал книгочей К-ов текст поэмы – самой сокровенной из байроновских поэм, самой откровенной из байроновских поэм, – с написанными тогда же, во время сентябрьского, 1816 года, путешествия, дневниками и письмами, причем написанными одному и тому же человеку (женщине, разумеется), предназначенными для одних и тех же глаз, цвет которых запретно, жутковато, а потому особенно притягательно совпадал с цветом глаз его собственных. «Она была похожа на меня, – роняет Манфред. – Черты лица, цвет глаз, волос и даже тон голоса – все родственно в нас было».
Поэма, письма, дневник – все складывалось в единое произведение, которое К-ов обозначил для себя как «Бернские Альпы». Или даже не столько в произведение, сколько в исповедь, отповедь, бунт… Бунт против кого? Против тех, разумеется, кто внушал, ссылаясь на некие высшие законы, будто «любить, как мы с тобой любили, – великий грех».
Байрон не слушал этих благонамеренных людей. Байрон осмеивал их и освистывал, маленьких, в напудренных париках, но, в конце концов, бежал от них – бежал на край света, а она там осталась, на законопослушном острове, – его Августа, его сестра (пусть сводная, по отцу, но сестра), его больше чем сестра, и вот это-то – что больше! – приводило их в ярость. Он, видите ли, не имеет права любить ее – так любить! – и она, наивное дитя (да, дитя, хоть и старше его на пять лет), принимала их лицемерный суд. Соглашалась смиренно: не имеет…
Байрон бледнел (К-ов видел эту бледность, читая – и отчеркивая карандашом – соответствующие места в письмах) – бледнел и признавал сквозь зубы: да, «мы были, быть может, очень виноваты, но, – прибавлял, – я не о чем не сожалею, кроме проклятой женитьбы и твоего отказа любить меня как прежде – я не могу ни забыть, ни вполне простить тебе это пресловутое покаяние».
Сам он, проклявший свою женитьбу (и года не продержался брак, и все, утверждала впоследствии сбежавшая жена, из-за Августы), – сам он далек от покаяния, сам он, не признающий ничьих законов, готов любить милую Августу «как прежде», но она, богобоязненный человек, казнится своим грехом и приходит в ужас не только от содеянного ими в ослеплении страсти, но даже от сочинений его, еретических, полагала она. Словом, преступная связь порвана раз и навсегда, она не уступит больше его просьбам и заверениям (а он и просил, и заверял – заверял в полной ее безопасности, если согласится все же навестить его; их спальни, писал, будут разделять целых полмили), – нет, отвечала она, нет и нет, теперь она будет лишь молиться за него.
А он? Что остается ему? Ему остается неустанно и нетерпеливо искать ее в других, шептать этим другим пылкие слова и жадно всматриваться в проплывающие перед ним женские лица, отыскивая сходство. Если кого-нибудь люблю, – писал он ей о быстротечных и бурных своих романах, – то потому, что она хоть чем-нибудь напоминает тебя».
Напоминали многие, и величайший однолюб, вынужденный играть роль Дон Жуана, – спешил удостовериться в сходстве, причем делал это на скорую руку, в любом подходящем – или не слишком подходящем – месте: «в дилижансе, в извозчичьем экипаже, на столе и под столом…»
Сперва шокированный К-ов расценил этот пассаж из письма приятелю как бахвальство, как браваду, но скоро понял, что и здесь тоже – вызов, нежелание подчиняться их нормам и приличиям, правилам их комфортной, обставленной роскошью любви. Если для творца (для подлинного творца, уточнял беллетрист К-ов, а не для дисциплинированного подмастерья, каковым числил, например, себя), – если для настоящего творца унизительно жить в мире, сотворенном другим, пусть даже мир этот в некоторых своих проявлениях и великолепен, как, в частности, эти белые, уходящие в густую синеву остроконечные вершины, то еще унизительней строить свой собственный дом по чужим, хотя бы и проверенным веками, общепризнанным всеми меркам. А воспользоваться собственными не дозволяли, связывали по рукам и ногам, выживали, по сути дела, но это ерунда, это еще не самое страшное. Благопристойные тесемочки их порвать ничего не стоило, забыть их постные физиономии тоже не составляло труда, приятно даже, но они, демонстрируя рабскую преданность Законодателю, поступили куда хитрее и коварнее: заставили плясать под свою дудочку ту единственную, чья робкая воля готова была самозабвенно и счастливо устремиться навстречу ему.
«Мне нигде не найти такой, как ты, – писал он Августе, – а тебе (пусть это звучит тщеславно) – такого, как я. Мы созданы, чтобы прожить жизнь вместе; а теперь мы – по крайней мере я – по многим причинам разлучен с единственным существом, которое могло бы меня любить и к кому я мог бы безраздельно привязаться».
Их пленницей стала она, их заложницей, и это-то как раз, а вовсе не жалкие тесемочки, связало ему руки. Борьба была заведомо не равной, но это было отнюдь не неравенство сил одного и другого творца, то есть Творца, признанного всеми, и того, что бросил Ему вызов, это было неравенство авторитетов, неравенство молодой безоглядности и старческого изощренного опыта. Собственно, творец здесь наличествовал только один, Тот, другой, давно уже свою работу закончил и теперь отдыхал в тупом созерцательном бездействии, – следовательно, перестал быть Творцом как таковым, однако не уходил, не освобождал площадки, а дабы самозванец не смёл все своей бесцеремонной и сильной (это старик признавал) дланью, подставил на его пути существо, которым тот дорожил больше всего на свете. «Я ни на минуту не переставал и не могу перестать чувствовать ту совершенную и безграничную привязанность, которая соединяла и соединяет меня с тобой и делает меня совершенно неспособным истинно любить кого бы то ни было другого – чем могли бы они быть для меня после тебя?»
Ничем – он убеждался в этом снова и снова. Ничем…
Это-то и было ловушкой. Это-то и было гарантией поражения, ибо, если принимаешь хоть что-то (а разве привязанность одного живого существа к другому не есть самое ловкое изобретение обрюзглого созерцателя?), – если принимаешь хоть что-то, то рано или поздно принимаешь все.
Или все теряешь. Срываешься, ломая кости, в бездну, и никакой пастух, никакой охотник за сернами не спасет тебя. Тем паче, если сам ты спасаться не желаешь. «Поверь, – говорит Манфред, – смерть вовсе не страшна!»
К-ов следил за этим таящим неминуемый срыв восхождением, затаив дыхание, и радовался про себя устойчивости миропорядка. Разумеется, радовался, как же иначе, ведь он тоже был человеком законопослушным, но радость его, подозревал он, возросла б, кабы (…)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































