Текст книги "Духовный символизм Ф. М. Достоевского"
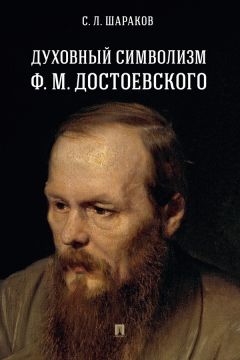
Автор книги: С. Шараков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но в христианстве главная проблема человека не в том, что он задавлен несправедливо гнетом обстоятельств, а в том, что он задавлен грехом, виноват в котором сам. И только покаяние может стать лествицею восхождения от бездны греха и восстановлению человеческого достоинства, как об этом пишет прп. Ефрем Сирин [Сокровищница духовной мудрости, 2005, т. 7, 524].
У Достоевского же здесь вместо покаяния просматривается социалистическое понимание восстановления и оправдания униженных и всеми отринутых парий общества.
Если на личностном уровне речь идет о равновесии страдания и райского наслаждения, то в плане историософии утверждается органическая идея становления человечества, причем путь становления проходит через диалектическое снятие противоположностей сознательного и бессознательного. Человечество развивается от непосредственного патриархального устроения через нарастание индивидуального сознания к сознательному возвращению к непосредственной жизни, но уже обогащенное осознанной идеей жертвенного служения ближнему: «Когда человек живет массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания) – то человек живет непосредственно. Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру и в Бога. <…> Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает. Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели – мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Христос. <…>. В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо» (20; 191–192).
Христианское понимание цели жизни вставлено здесь в чуждую христианству систему мышления. Помимо диалектического сопряжения непосредственности и сознания высшее отречение от своей воли, заявленное как свободное, одновременно представляется как результат общегенетического роста, что свободу исключает. Но у Достоевского этого времени органическое движение от непосредственности к индивидуальному осознанию и свободное отсечение своей самостной воли вполне уживаются в его историософской схеме.
Подобное смешение свободы и органического начала было свойственно ренессансному символизму. Для подтверждения приведем высказывание Я. Беме, типичное для ренессансного символического миросозерцания. Беме описывает грехопадение как органический процесс неправедного, прелюбодейного зачатия: «Сие случилось с Люцифером и с Адамом, которые оба вожделениями самости вошли опять в то первоначальное состояние, из коего извлечена тварь, а именно: Люцифер вошел в центр яростной натуры, в матку огня, а Адам – в земную натуру – в матку внешнего мира, т. е. в вожделевание добра и зла» [Беме, 1994, 81].
Оккультные идеи Беме, в свою очередь, получили развитие в философско-эстетических концепциях Ф. В. Шеллинга, Фр. Баадера, И. В. Гете, Фр. Шиллера, Фр. Шлегеля и др. Шеллинг, в частности, перевел на язык светской философии бемовское представление о мире как о теогоническом процессе, процессе вечного рождения Божества, и о человеке как моменте самооткровения Бога [Фокин, 2011, 207]. О. Сергий Булгаков указывает на связь философских построений Шеллинга с идеями Беме: «…здесь Шеллинг дает лишь философскую транскрипцию учения Я. Беме, воспринятого им, по-видимому, чрез Баадера. <…> По учению Шеллинга мир возникает из природы или основы (Grund) Бога, которую нужно отличать в Боге от самого Бога. Эта темная первооснова есть, так сказать, материал для возникновения Бога <…>. Эта природа абсолютного, как темная, еще не просветленная, таит в себе возможность своеволия, отпадения, а чрез то и индивидуализации, а стало быть и раздвоения на субъект-объект. Но чрез это отпадение бытие стремится к своему просветлению, актуализации, разумному отображению Божества. <…>. Таким образом, мир есть становящийся Бог…» [Булгаков, 1993, т. 1, 383–384]
Нетрудно заметить родственность концепции Шеллинга и историософской схемы Достоевского. У Шеллинга: из темной первоосновы в Боге через своевольное отпадение рождается индивидуализация или раздвоение на субъект-объект, но через индивидуализацию бытие стремится к разумному отображению Божества. У Достоевского: патриархальное непосредственное бытие сменяется цивилизацией или развитием личного сознания, которая, соответственно, возвращается в непосредственную жизнь, но уже сознательно. Последняя, завершающая историю ступень именуется христианской: «Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация – среднее, переходное. Христианство – третья и последняя степень человека…» (20; 194) В обоих случаях все скрепляющей идейной конструкцией оказывается диалектическое единство сознательного-бессознательного. Собственно, на фундаменте этой оппозиции и становились этапы мысли Шеллинга: «…самая проблема предстала пред Шеллингом как объяснение возникновения сознания из бессознательного или природы, как путь природы к жизни и сознанию…» [Булгаков, 1993, т. 1, 382].
Органические идеи почвенничества развивались также на основе единства начал сознательного-бессознательного.
А. Григорьев пересказывает шеллингову формулу народов как организмов: «Высшее значение формулы Шеллинга <…>, заключается в том, что всему: и народам и лицам – возвращается их цельное, самоответственное значение, <…>. Развиваются – если можно уже употребить это слово – народные организмы, нося в себе следы более или менее отдаленной принадлежности к первоначальному единству рода человеческого, единству не отвлеченному, моменту необходимо существовавшему. Каждый таковый организм, так или иначе сложившийся, так или иначе видоизменивший первоначальное предание в своих преданиях и верованиях, вносит свой органический принцип в мировую жизнь. Естественно, что несколько таковых однородных организмов, имея сходство в однородности принципов, образуют циклы древнего, среднего, нового мира» [Григорьев, 2008, 303]. Здесь встречаются основные понятия, приоритетные для мысли Достоевского 60-х годов – цельность, органический принцип, народный организм, законы органической жизни.
Начала органической жизни, перенесенные в сферу человеческой жизни, предполагают разделение на сознательное и бессознательное. Развитие народного организма от бессознательных форм жизни к все большему осознанию своего назначения и цели развития направлено к достижению идеала. Эту философему Достоевский переносит на историю европейских народов, русского народа и мировую историю в целом. Реформы Петра I видятся как поворотный момент на пути осознания: «Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. <…>. Новая Русь уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика» (18; 49–50).
Особую роль в процессе народного осознания почвенники отводили искусству, так как именно художнику дано касаться глубины бессознательного и из этой глубины выводить на свет сознания целое во всей его полноте. Вот характерное высказывание А. Григорьева: «Я верю с Шеллингом, что бессознательность придает произведениям творчества их неисследимую глубину. В душе художника истинного эта способность видеть орлиным оком общее в частном есть непременно синтетическая, хотя и требующая, конечно, поддержки, развития, воспитания. Тот, кто рожден с такого рода объективностью, есть уже художник истинный, поэт, творец» [Григорьев, 2001, 302].
В этом же направлении Достоевский полагает, что художник помогает народу осознавать его целеполагание: «В том-то и дело, что перед нами бессознательно лежит природа. Если бессознательно описывать один матерьял, то мы ничего не узнаем; но приходит художник и передает свой взгляд об этом матерьяле и расскажет нам, как это явление называется, и назовет нам людей, в нем участвующих, и иногда так назовет, что имена эти переходят в тип, и наконец когда все поверят этому типу, то название его переходит в имя нарицательное для всех относящихся к этому типу людей. Чем сильнее художник, тем вернее и глубже выскажет он свою мысль, свой взгляд на общественное явление и тем более поможет общественному сознанию» (19; 181).
Другой источник сознания – образование, которое следует перенимать из начал западной цивилизации. Образование делает возможным различение добра и зла и тем самым связано с началом нравственным (20; 70). Образование как условие нравственности, является залогом духовного примирения в народе. Поэтому в споре западников и славянофилов Достоевский, разрабатывая идею их примирения на почве народной жизни, в первой половине 60-х отдает предпочтение западникам: «… западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременным желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, то есть было вызвано самим процессом жизни (западничество органично. – С.Ш). Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и во что бы то ни стало отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаза для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к реализму, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем…» (19; 60–61)
Это слова из работы 1861 года «Ряд статей о русской литературе». Здесь впервые у Достоевского появляется понятие реализма, которое затем станет основным в определении писателем своего художественного направления. Реализм в данном случае заключается в способности и желании сознавать. Представление о развитии народного духа и души человека в перспективе перехода от бессознательного к сознанию, задает отличающиеся от христианского понимания параметры нравственности. Достаточно сказать, что в христианстве не образование является началом способности различения добра и зла, так как ум, главенствующее начало в западном образовании, не способен в полноте отличать добро от зла. Приведем слова свт. Игнатия (Брянчанинова), чтобы нехристианский контекст почвеннической оппозиции сознательного/бессознательного в отношении нравственности проявился со всей возможной очевидностью: «Ум человеческий не в состоянии отличить добра от зла; замаскированное зло легко, почти всегда, обманывает его. И это очень естественно: ум человеческий юн, а борющие его злыми помыслами имеют более чем семитысячелетнюю опытность в борьбе, в лукавстве, в ловитве душ человеческих. Различать добро от зла принадлежит сердцу, – его дело. Но опять нужно время, нужно укоснение в заповедях евангельских, чтоб сердце стяжало тонкость вкуса к отличию вина цельного от вина поддельного» [Игнатий Брянчанинов, 2014, Письма, т. 3, 504].
Достоевский позднее будет говорить о покаянии, смирении и других христианских добродетелях, но в первой половине 60-х преобладает органическое понимание нравственности. Например, понятие чистоты он соединяет с красотой, что переводит это понятие из сферы этической в эстетическую. В предисловии к рассказам Э. По так характеризует идеал Гофмана: «У Гофмана есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку» (19; 89). На первый взгляд, это вполне христианская мысль, так как христианская эстетика есть раздел этики: красиво только то, что источает добро или причастно добру. Но все же сочетание чистоты и красоты здесь имеет иной контекст – ренессансный, который особенно ярко выражаен в поэтологических рассуждениях писателя по поводу скульптуры Венеры Медицейской. Приведем два высказывания.
«На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтоб смотреть на эту божественную красоту не смущаясь. Слава Богу, таких людей уже встречаешь довольно» (19; 103).
«Но послушайте, неужели вы думаете, что если б статуи Венеры Медицейской и Милосской, при все том, что они представляют собою целомудренные образы и самое тонкое выражение стыдливости, привезенные в Москву к нашим простодушным предкам, во времена хоть, например, Алексея Михайловича, могли бы произвести на них какое-нибудь впечатление, кроме грубого и даже может быть соблазнительного? Не говорим, чтоб и тогда совершенно не было людей развитых; мы говорим вообще о впечатлении, которое бы произвели тогда на отцов наших эти немецкие «болваны». И неужели мы не правы, говоря, что надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту не смущаясь. Целомудренность образа не спасает от грубой и даже, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства, потому именно, что они сами произведение искусства. Тут действительность преобразилась, пройдя через искусство, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник» (19; 134).
Опять же, речь идет о том, что только чистым сердцем можно без смущения лицезреть божественную красоту статуи – обнаженной женщины, – что соответствует христианскому пониманию добродетели. Но христианское ли это понимание чистоты? В приведенных высказываниях чистота связана с искусством – это чистое, целомудренное вдохновение художника, целомудренные образы. Для чистого восприятия божественной красоты статуи требуется правильное развитие, причем под правильным развитием, что следует из контекста философско-эстетических представлений Достоевского того времени, подразумевается западное образование.
Святоотеческое понимание чистоты, напротив, не сопряжено с искусством. Сердце очищается от исполнения заповедей: «Кто есть чистый сердцем? … Кто не знает за собой презрения к заповеди Божией или недостаточного или небрежного исполнения оной» [Сокровищница духовной мудрости, 2009, т. 12, 453]. Процесс очищения сопровождается все более отчетливым видением своего греха и рождает истинное покаяние: «Насколько кто имеет чистоту, настолько видит себя согрешающим…» [Сокровищница духовной мудрости, 2009, т. 12, 452–453]. Такая чистота тоже соединена с красотой, но это не красота идеала, не божественная красота искусства, а красота души, источник которой – Бог: «Душа, с теплым рвением усиленно очищаемая подвижническими трудами, Божественным светом озаряется и мало-помалу начинает узревать естественно данную ей вначале Богом красоту и расширяется в возлюблении Создавшего ее» [Сокровищница духовной мудрости, 2005, т. 7, 172].
Более того, такая чистота не может быть источником светского искусства, так как чистое сердце свободно от всяких внешних впечатлений и образов, то есть от всего того, чем живет светское искусство: «Сердце чистое есть то, которое представило Богу память, совершенно безвидную (чистую от впечатлений), и не имеющую образов, и готово принять одни впечатления Божии, от которых оно обыкновенно делается светлым» [Сокровищница духовной мудрости, 2009, т. 12, 459].
Характерно, что возможное восприятие простодушных предков времен Алексея Михайловича Венеры Медицейской как немецкого «болвана» Достоевский называет грубой, соблазнительной – неразвитой. Но ведь это вполне христианское восприятие богини римского язычества – идола или болвана. Да, известны примеры, когда христианские подвижники при виде женского тела не соблазнялись, а приходили в восхищение от богозданной красоты и прославляли Бога. Но одно дело – славить творение Бога, и другое дело – наделять тварное божественным атрибутом совершенства. Как пишет свт. Иоанн Златоуст, после грехопадения первых людей Бог «сделал тело человека слабым и болезненным», чтобы отучить человека от дьявольского искушения «будете яко бози» [Иоанн Златоуст, 1896, 130]. Создание «болванов», таким образом, есть нарушение целомудрия, так как оно состоит, по слову сщмч. Петра Дамаскина, в том, чтобы «ум был цел и мог удерживать себя вне всякого дела, слова и помышления, неугодного Богу» [Сокровищница духовной мудрости, 2004, т. 4, 58–59].
Как свидетельствуют христианские писатели первых веков, и сами идолы и процесс их создания были связаны с нарушением нравственной чистоты. Вот что, например, пишет Арнобий: «Кто из читающих Посейдиппа, не знает, что Пракситель с необычайным искусством изобразил лицо Книдской Венеры по образцу любовницы Кратины, которую несчастный любил? Но разве была единственной эта Венера, красота которой возвеличена через перенесение на нее черт блудницы? Известная Фрина Феспийская, по сообщению писавших феспийскую историю, когда была на самом верху красоты, привлекательности и блеска, служила, как утверждают, моделью для всех, пользующихся известностью, Венер как в греческих городах, так и там, куда проникла любовь и страсть к подобного рода статуям. <…> Когда упоминаемый как первый среди ваятелей известный Фидий окончил свое произведение огромных размеров, статую Юпитера Олимпийского, то надписал на пальце бога: «Pantarces Pulcher» – а это было имя мальчика, которого он любил и к которому питал позорную страсть, – и никакое опасение или религиозное чувство не удержали его от того, чтобы назвать бога именем развратника и даже присвоить развратнику божественность и образ Юпитера» [Арнобий, 2008, 320–321].
Отметим, что сопряжение художественного творчества с нравственной чистотой присуще творцам ренессансной культуры. Так, например, у Данте и Петрарки поэтическое творчество является аналогом Божественного созидания [Сергеев, 2007, 81]. Из подобной установки закономерно вытекает представление о божественной красоте произведений искусства, о целомудренном вдохновении художника, о целомудренных образах и т. д.
Поэтому не случайно понятие покаяния у Достоевского 60-х замещено понятием восстановления, ведь покаяние требует личных отношений Бога и человека, а в понятии восстановления преобладает значение некоего бытийственного органического процесса, протекающего по определенным законам.
Приведем два высказывания, раскрывающие философско-эстетический контекст понятия восстановления и задающие горизонт мысли писателя того времени. В обоих случаях, так или иначе, осмысливается одна и та же историософская схема развития человечества от первоначальной простоты через индивидуализм к полноте сознания. Шеллинг говорит о том, что целью истории или мифологического процесса является восстановление первоначального сознания: «Однако мы одновременно определили мифологический процесс как теогонический, т. е. как процесс, в результате которого вновь должно быть восстановлено (здесь и далее выделено мной. – С.Ш.), реконструировано первоначальное сознание» [Шеллинг, 2013, 292]. Шиллер утверждает, что красота восстанавливает в человеке утраченную им гармонию в период индивидуализма: «Теперь мы докажем, что оба противоположных предела (состояния напряжения и ослабления. – С.Ш.) уничтожаются красотой, которая восстановляет в напряженном человеке гармонию, а в ослабленном – энергию, и таким путем, сообразно природе красоты, приводит ограниченное состояние к безусловному и делает человека законченным в себе целым» [Шиллер, 1957, 307].
Как уже говорилось, святоотеческий опыт свидетельствует о том, что только в покаянии, через видение своих страстей, возможно вхождение в мир внутреннего человека. Постигая законы духовного мира, человек начинает видеть действие этих законов в мире видимом и начинает соотносить внутренний мир человека с миром внешним – так рождается духовный символизм. Другими словами, духовный символизм предполагает опыт видения духовного мира. Покаянное познание своих страстей является самой первой ступенью духовного видения.
У Достоевского первой половины 60-х этого нет. И хотя идея возрождения человека в послекаторжные годы становится главной в творчестве Достоевского, и еще в 1856 году в письме от 13 апреля он напишет А. И. Врангелю о том, что задумал статью о назначении христианства в искусстве, которую обдумывал десять лет (28₁; 229), христианская мысль писателя смешивается со схемами органического мировидения.
Но все же органическая философия не составляет сердцевины миросозерцания писателя. Как справедливо пишет о. Георгий Флоровский, утопическая мечта об историческом разрешении всех жизненных противоречий, мечта о том, что государство обратиться в Церковь, с одной стороны оказалась тем «органическим соблазном», который Достоевский до конца так и не преодолел; с другой стороны, эта мечта отставала от «подлинных прозрений» писателя. Сквозь наносы органической мысли пробивалась потребность в живой вере: «И очень скоро Достоевский понял, что одной цельности переживаний еще очень и очень недостаточно. И нужно вернуться не столько к цельности, но именно к вере. Именно об этом и написаны главные романы Достоевского. Достоевский был слишком чутким тайнозрителем человеческой души, чтобы остановиться на органическом оптимизме» [Флоровский, 2009, 381].
Достоевский сердцем познает, что онтология не в структурном соответствии чувственного и умозрительного, не в органическом процессе созревания духовного в материальном, а в духовно-нравственном деле по очищению души.
В повести 1864 года «Записки из подполья» появляется мысль, ключевая и для понимания этого сложного произведения, и того духовного переворота, что совершался в сердце писателя в это время: «… без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет» (5; 122). Здесь впервые чистота сердца будет связана с верой во Христа. В письме к брату Михаилу от 26 марта 1864 года Достоевский напишет о повести: «Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа – то запрещено» (28₂; 73).
Процесс духовного созревания долгий. Не линейный. Происходящий в глубине сердца и частью закрытый от сознания. Связанный с перипетиями восстания и падения, с продвижением вперед и с возвращением вспять. И только на рубеже 60–70-х, во время работы над романом «Идиот», Достоевский «споткнется» на понятии восстановления. В ПМ ко второй и последующим частям произведения много места будет посвящено поиску сюжетного разрешения «реабилитации» Настасьи Филипповны, но сюжет этот так и не будет реализован в романе – Достоевский от него откажется.
С середины 60-х годов у писателя начинает формироваться свое понимание реализма, а по сути, созревает новое художественное направление, в котором духовный символизм станет основой художественного миросозерцания.
В исследованиях о реализме как художественном методе Достоевского, как правило, в центре внимания оказывается проблема определения онтологических и философско-эстетических границ реальности, как ее видел писатель [Захаров, 2012, 166–178; Степанян, 2010; «Проблема «Реализма в высшем смысле»…», 2004, 43–96.].
Нас же интересует аспект выразительный: каким образом Достоевский очевидную для него реальность/действительность выражал?
И здесь следует говорить о духовном символизме, который постепенно формируется у писателя по мере все более глубокого теоретического и деятельного усвоения начал православной веры.
В ПМ к роману «Бесы» появляется догматически правильное понимание воплощения Иисуса Христа. В записях середины 60-х, напомним, говорилось о том, что идеал Христов на земле недостижим, что исполнение заповеди любви к ближнему, данная Богом, невозможно, что счастье человека на земле в осознании необходимости уничтожения своего Я ради ближнего (20; 172–173).
Теперь же внимание Достоевского сосредоточено на реальности воплощения Сын Божия – на реальности соединения Бога с человеческой природой, что делает возможным, достижимым спасение человека. Эта реальность воплощения выше идеала. Оправдание земли видится теперь не в гармонии между страданием от греха и наслаждением от исполнения нравственного закона, а в том, что воплощение Бога сделало возможным спасение человека. Спасает человека вера в божественность Христа и следование за Ним в Его подвиге. Истину этого убеждения засвидетельствовали святые – те, кто прошел по пути, указанным Христом. Появляется новое понимание красоты – это теперь также не идеал, пусть даже и Христов, это красота плоти Иисуса Христа. К такой красоте приобщаются, с ней соединяются: «Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, что это и естественно и возможно. Этим и земля оправдана. Последователи Христа, обоготворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого образа и веровать в него во плоти. <…>. Тут именно все дело, что слово в самом деле плоть бысть. В этом вся вера и все утешенье человечества, от которого оно никогда не откажется…» (11; 112–113)
Вера в божественность Христа, мысль о следовании за Христом развиваются у Достоевского в русле православной духовности и становятся источником его православного миросозерцания.
Так, он устанавливает для себя, что вера без дел мертва. Под делами веры понимается исполнение заповедей Христовых, разумение и исполнение которых невозможно без послушания дисциплине Церкви с ее канонами, постами и т. д. Послушание дает свои плоды – покаяние и смирение. Покаяние открывает ведение своего внутреннего состояния, внутреннего человека, ведение глубины своего несовершенства, или, как пишут св. Отцы, глубину своего падения в пропасть греха. Покаяние рождает смирение, которое единственное возводит веру в Царство Небесное. Путем покаяния и смирения прошли святые. Сохранился этот спасительный путь покаяния и смирения в Православии.
Мысль об исполнении заповедей или идея самосовершенствования, как будет выражаться Достоевский, становится ключевой в мышлении писателя, так что все темы, вопросы и проблемы из области социальной философии, политики, эстетики и др. он осмысливает под знаком, в перспективе этой идеи. Так, например, в основе любой деятельности видит религию, главное дело которой – личное самосовершенствование. На путях самосовершенствования, в свою очередь, у человека рождается ясное и точное понятие добра и зла – нравственность. И уже на основе нравственности получают правильное развитие и выражение все формы человеческой жизнедеятельности – от социального устройства до искусства.
Если попытаться выразить в формуле православное миросозерцание Достоевского, то можно сказать так: от состояния внутреннего человека зависит жизнь человека во всех ее проявлениях. Здесь впервые у писателя возникает представление о соотношении внутреннего и внешнего, которое является определяющим для христианского типа символизации – духовного символизма.
Рассмотрим более подробно начала символического миросозерцания Достоевского, как оно сложилось в 70-е годы.
ПМ к роману «Бесы» содержат основные идеи, какие Достоевский будет развивать на протяжении своего последнего десятилетия.
Так, в характеристике главного героя появляется важнейшая мысль: чувство добродетели не означает наличие этой добродетели в человеке; для ее стяжания требуется труд над собой: «Он, например, способен понимать великодушие, так сказать эстетически, и чувствовать, но это чувство принимает в себе уже за само великодушие – и отчаивается, что великодушие не дается ему на дармовщинку и без труда» (11; 60). Причем, труд над собой – это не отвлеченный высший подвиг, а труд православный, без которого вера будет мертвой: «…а Архиерей говорит, что катехизис новой веры – хорошо, но вера без дел мертва есть, и требует не высшего подвига (высшего классицизма), а еще труднейшего – труда православного…» (11; 195) Труд православный есть исполнение указанного Христом закона или заповедей Христовых в послушании церковной дисциплине: «Бог сотворил и мир и закон и совершил еще чудо – указал нам закон Христом, на примере, в живье и в формуле. <…> Уклонения ужасно могут быть разнообразны, но все зависят от недостатка самообладания. <…> Самообладание заключается в дисциплине, дисциплина в Церкви» (11; 122).
Самообладание или самосовершенствование, само по себе, без помощи Бога, не спасает, то есть, речь идет о православном понимании спасения как синергии – сотрудничества Бога и человека: «Что, наконец, человек не в силах спасти себя, а спасен откровением и потом Христом, т. е. непосредственным вмешательством Бога в жизнь человеческую – иначе: оба раза чудом» (11; 183).
Синергическое понимание совершенствования, опыт исполнения заповедей приводят к покаянию и смирению. Покаяние является условием самосовершенствования и рождает правильный взгляд человека на себя. Жизнь русского народа в вере православной рождает правильный взгляд на добро и зло, на окружающий мир и на себя. В «Дневнике писателя» за 1873 год, в главке «Среда» мысль Достоевского о «среде» развивается в стиле духовного символизма: внешнее, среда, зависит от того, что внутри человека. А за свое внутреннее он ответственен, поэтому всякий перед всяким виноват. Важнейшее здесь – вера, которая выводит человека из царства внешнего и вводит в неведомое, невидимое, открытое только духовным очам: «Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования» (21; 18). В главке «Влас» говорится о жажде покаяния, сильнейшей в русском человеке, как и во всем народе, и спасительной для него (21; 35).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































