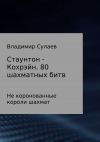Текст книги "Голосуйте за Берюрье!"

Автор книги: Сан-Антонио
Жанр: Иронические детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Глава 12
Я сообщаю Старику берюрианские заключения, выдав их за свои. Стриженый их отметает.
– Вы в самом деле надеетесь всучить журналистам подобную ерунду?
– Однако, господин директор…
– А публика, Сан-Антонио, за кого вы ее принимаете? В настоящий момент все кандидаты от Белькомба мертвы, а вы собираетесь пустить щуку в реку! Я вам говорю, что речь идет о серии убийств, совершенных кровавым маньяком! Я хочу получить убийцу! Ведь есть же хоть один убийца во всех этих делах, да или нет?!
– Вне всякого сомнения, есть, господин директор!
Он переходит на крик, от которого лопнул бы страдивариус:
– Так вот, найдите его! И поскорее!
Дзинь! Он повесил трубку. Подать рапорт об отставке в подобный момент не очень пристойно. Так поступил бы трус, но не я. И все же мне хотелось бы написать его на пергаменте и дать его Старику – пусть подавится!
Около двенадцати тридцати, когда я глотаю одно за другим виски в ближайшем от комиссариата бистро, какой-то инспектор сообщает мне, что из Парижа только что звонил Ляплюм. Он вроде бы напал на след человека, звонившего графу в момент его смерти. Он свяжется со мной после обеда. Это известие проливает немного бальзама мне на сердце.
Вновь появляются Берюрье и Морбле. Они выглядят сверхвозбужденными. Морбле, который уже отоспался после своей первой попойки, кажется, вполне созрел для второй. На этот раз они набрасываются на марочный аперитив “Чинзано”. Молитесь за них!
– У нас для тебя есть блестящая идея! – объявляет Его Величество.
– Не может быть! – притворяюсь я удивленным. – Две в один день, и ты еще жив?
– Угомонись со своими намеками, это серьезно.
Унтер-офицер вторит ему:
– Очень серьезно.
Берю осушает свой стакан, держит какое-то время пойло во рту, чтобы лучше его почувствовать. При этом он производит звук, подобный шуму ножной ванны. Потом проглатывает вино и заявляет:
– Знаешь новость?
– Нет, – говорю я. – Они появляются здесь так быстро, что я отказался за ними следить.
– Политические партии решили не выставлять больше кандидатов, пока не поймают убийцу.
– Я их где-то понимаю. Откуда это тебе известно? Он извлекает из кармана спецвыпуск газеты “Белькомбежская мысль”. Спецвыпуск состоит из одного листка, не очень лестного для полиции. Мне бросается в глаза заголовок, написанный крупными, как на крыше аэропорта, буквами:
«Граждане! Хватит уже!»
Очень плохо, когда заглавие начинается со слова “граждане” на первой полосе газеты. Текст, который за ним следует, представляет собой пузырек купороса, выплесканный в лицо полиции. “Белькомбежская мысль” называет нас бездарями и другими далеко не любезными именами.
Она сообщает, что политические партии приняли решение не выставлять других кандидатов до раскрытия совершенных преступлений.
– Ну а где же ваша блестящая идея? – спрашиваю я.
– Это моя идея, – заявляет Морбле.
Берю хмурится.
– Не будь сектантом, Пополь! Она пришла к нам обоим!
– Обоим, но сначала одному, потом другому! – насмешливо замечает Морбле.
– Пополь, если ты и дальше будешь так себя вести, ты об этом пожалеешь! – предсказывает Здоровило. – Я не из тех жентельменов, которые тянут одеяло на себя, но на этот раз я уверен, что идея пришла нам обоим одновременно!
– Да объясните ли вы, наконец, в чем дело, Зевс вас побери! взрываюсь я.
– Ну так вот! – говорят они хором.
И замолкают, воинственно поглядывая друг на друга, а затем синхронно и поспешно произносят:
– Ты позволишь?
Торопясь, пока Морбле пытается вдохнуть глоток кислорода, Берю выпаливает:
– Я выставляю свою кандидатуру, приятель!
– Выставляешь куда?
– На выборы. А Пополь, здесь присутствующий, будет моим заместителем.
Пока я прихожу в себя от потрясения, подобного эффекту щепотки перца в нос, Его Величество продолжает:
– Надо же из этого положения как-то выходить, так? Раз уж этот чокнутый решил убивать любых кандидатов, то он попытается убрать и меня. Только, чтобы прикончить меня, надо не забыть пораньше встать и надеть вместо нижнего белья пуленепробиваемый жилет!
Я с трудом прихожу в себя. Заплетающимся языком я произношу:
– Значит, ты выставляешь себя…
– Да, месье.
– Это гениальная идея, – решительно заявляет Морбле. – И для вас, и для нас всех, полицейских, какая реклама! Какая реабилитация в глазах общественности! Рядовой инспектор приносит себя в жертву безумству мрачного убийцы!
– Не рядовой, а главный инспектор! – громогласно поправляет Берю.
– Пусть главный, если тебе нравится, – соглашается Морбле. Преодолев первоначальную растерянность, я изучаю нелепое предложение не то чтобы на свежую, но на ясную голову.
– А почему бы и нет, – неожиданно принимаю я решение. – Запомни этот день, Берю, это великий, блистательный день в твоей жизни. А теперь давайте сделаем то, что необходимо делать в этих случаях.
– Для начала, – заявляет Толстый, – я пойду в типографию заказать плакаты.
– Я помогу тебе их написать, – обещает Морбле. – Я всегда отличался хорошим слогом. Достаточно тебе сказать, что местный учитель там, где я в последнее время работал, зачитывал ученикам мои рапорты, чтобы заинтересовать их в учебе!
"Белькомбежцы и белькомбежки! Мы не те, за которых нас обычно принимают! Подтверждением этого является то, что я, главный инспектор Александр-Бенуа Берюрье, бросаю вызов белькомбежскому убийце, выставляя свою кандидатуру у вас на выборах! Если ему вздумается помешать мне кандидатствовать, пусть попробует! На политику мне всегда было наплевать, притом с высокой колокольни! Вот почему я выставляю себя от новой партии, создателями и мужественными членами которой являемся я и мой заместитель, бывший унтер-офицер Морбле, – УФП (Улучшенной французской партии). Сегодня вечером в зале собраний вам будет представлена наша программа. Приглашаются все, включая убийцу!
И самое главное: голосуйте за Берюрье!"
Я не знаю, существуют ли коллекционеры плакатов. Полагаю, что существуют. В таком случае пусть они покупают билеты на первый же поезд, чтобы примчаться в Белькомб. Избирательный плакат Берюрье станет коллекционной вещью сразу же после его выхода из типографии! Им будут все зачитываться поголовно!
Эффект не заставляет себя ждать. Менее чем через час, после того как стены Белькомба были оклеены захватывающей прозой, раздается телефонный звонок. Это Старик! Ну и задает же он мне баню, мои красавицы! Стриженый аж заикается от негодования! Он говорит, что мы сошли с ума, что министр внутренних дел не сможет пережить подобную историю. Вся полиция умирает со смеху. Он собирается подать в отставку или написать открытое письмо в “Фигаро”. Кто знает! И что он знает?
Он хочет поговорить с Берю, но Берю невозможно отыскать. Он закрылся в задней комнате какого-то ресторанчика со своим “заместителем”, и там в предвыборной лихорадке два куманька готовят свое вечернее публичное собрание.
Я выражаю сожаление Старику, потом, когда он заканчивает, излив потоки желчи и бочки дегтя, я вешаю трубку и думаю, почему я не выбрал профессию моряка, бакалейщика, торговца автомобилями или разметчика дорог вместо того, чтобы служить в Легавке. Чтобы развеяться, я отправляюсь на похороны Монфеаля.
Тут, ребята, в самом деле есть на что посмотреть! Белькомб переживает исключительный период. Ничего подобного здесь не видели со времени нашествия немцев в 1940 году и их ухода в 1944! Понадобилось целых три катафалка, чтобы погрузить цветы, венки и прочую мишуру.
Бывший кто-то в берете возглавляет шествие, неся на атласных подушечках награды покойного Монфеаля, а именно: памятную медаль подписчика на “Сельскую жизнь” и почетный крест предшествующих благодарностей.
Над процессией развевается флаг, увитый черным крепом, и звучит фанфара, выводя мелодию “Если меня ты не хочешь, в гроб я его положу”.
Это единственный мотив, известный фанфаре, но она исполняет его в предельно замедленном ритме, чтобы превратить его в погребальный марш.
Затем следуют дети хора девы Марии, Петэна, внебрачные, школьники, дети проституток, полковые, подкидыши, законные, мерзавцы, божьи дети и дети-мученики. За ними – клир во главе с Монсеньором Трансептом, архиепископом Монашком-с-посохом и викариями. И, наконец, ведущий актер! Монфеаль в своем прекрасном праздничном катафалке, сопровождаемый членами семьи под вуалью. Вдову, бюст которой удерживает бюстгальтер фирмы “Скандал”, поддерживает под руку дядяполковник и сопровождает дряхлый нотариус, поддерживающий ее финансовые и имущественные интересы.
Музыка вызывает слезы. Дальние родственники следуют за погребальной колесницей. За ними важно выступает местная знать, в тайной надежде заставить смотреть на себя толпу (ибо сами они уже давно не могут смотреть друг на друга!). Затем идут друзья. В церкви они будут превозносить заслуги погибшего. От церкви до кладбища будут говорить о его недостатках, а от кладбища до бистро – о его тайных грешках. И, наконец, вырисовывается длинная, извивающаяся гусеницей толпа неизвестных без званий и титулов, бродяг, моральных ничтожеств, обездоленных, праздношатающихся, вакцинированных, униженных, любопытных – словом, всех тех, кто присутствует на похоронах, потому что хорошо хоронить ближнего. Они весело шагают, разговаривая громко и обо всем, не зная, что завтра они сами умрут! Инспектор Мартине (который сам заслуживает плетки!) подходит ко мне. Со времени начала дела Ляндоффе он обхаживает меня, добиваясь, чтобы я простил ему то, что его клиент задохнулся.
– Вы думаете, что убийца присутствует в похоронной процессии? спрашивает он меня.
– Я в этом абсолютно уверен.
– В общем, если бы можно было забрать всю эту публику…
– Да, но мы этого не можем!
Церемония никак не закончится. Полиция Белькомба слишком мала, чтобы удержать всех собравшихся. К счастью, вокруг полно забегаловок.
В них не найдешь святой воды, но вино там первоклассное, и второе компенсирует первое. Мы с Мартине пропускаем по стаканчику. Вокруг нас ужасный гам. Можно подумать, что находишься на сельскохозяйственной ярмарке.
– Вы, кажется, о чем-то думаете, господин комиссар?
– Да, в самом деле.
Вы знаете, о чем я думаю, мои дорогие девочки? Нет, в этот раз я думаю вовсе не о вашем соблазнительном нижнем белье. Я вспоминаю слова Толстяка, сказанные им в гараже: “В действительности преступлений в закрытых помещениях не существует, потому что они невозможны”.
В башке Берю мало света, и вес его мозга вряд ли способен зашкалить почтовые весы, но иногда он говорит разумные вещи. В жизни лишь дураки способны высказать подобное. Прочие начинают ломать себе голову. Они мучают серое вещество, фантазируют, выдумывают ерунду, извращают реальность. Дурень говорит то, что думает, а поскольку он думает правильно, он и говорит правильно. Никогда не предпринимайте ничего серьезного, не выяснив мнения дурака! Это великое правило, которое знают и применяют в жизни крупные бизнесмены. Вы можете в этом убедиться: вокруг них всегда вьется множество дураков. Благородные дураки для поддержания престижа фирмы, старые дураки для почета и бесчисленное количество бедных дураков, чтобы приносить удачу! Самые хитрые заручаются сотрудничеством самых отъявленных дураков, чтобы проверить на них дух смутьянства, который в конечном итоге внедряется в общественное сознание. Дурак – это микроорганизм, без которого вселенная распалась бы.
– У тебя есть солнцезащитные очки? – спрашиваю я у Мартине. Вопрос абсолютно праздный: у всех инспекторов они есть, как, впрочем, и лайковые перчатки, и белый платок в кармашке.
Я вырываю чистый листок из блокнота и пишу печатными буквами:
"Браво. Хорошо сыграно. А теперь нужно поговорить. Назначьте свидание, написав мне на имя Мартине на почтовое отделение Белькомба “до востребования”. В Ваших интересах сделать это побыстрее”.
Я протягиваю листок инспектору. Он читает и смотрит на меня, не понимая.
– Что это значит, господин комиссар?
– По выходе из кладбища все будут пожимать друг другу руки, – говорю я. – Когда будешь пожимать руку вдове, сунь ей в ладонь эту записку.
Перед этим надень очки, чтобы слегка скрыть черты лица.
Ему необходимо какое-то время, чтобы прийти в себя.
– Извините меня, я не понимаю, вы думаете, что вдова…
У меня вырывается вздох, который создает пустоту в моих легких.
– Я ничего не думаю, я пытаюсь найти выход… То, что я делаю, возможно, гнусно, но я решил использовать все и идти, если это нужно, на крайние гнусности.
Колокола оповещают нас, что кортеж покидает кладбище. Все устремляются к выходу и расходятся по внешне безмятежным улицам Белькомба. Кладбище расположено всегда далеко, по крайней мере, во Франции Люди любят оставлять свои заботы за дверью…
Слезы, прочувствованная болтовня какого-то типа. У него седые усы, орден Почетного легиона и стеклянный глаз – все это говорит о том, насколько он серьезный человек.
Мы узнаем о поучительной жизни Монфеаля, начиная с первых классов.
Здесь все первые оценки, первое причастие, его героическая служба во время войны, когда он продавал партизанам фальшивые продовольственные карточки. Дается обзор его провидческого дара разве не кричал он “Да здравствует де Голль” в 44-м году. Пророк! А его общественная деятельность! Он – президент кружка понгистов, он провел подписку, чтобы финансировать спортивный клуб пинг-понга. Его гуманитарная деятельность также заслуживает восхищения двое детей! Надо же!
Породить и прокормить их – это далеко не каждому по карману!
Присутствующие охвачены гигантским волнением В едином порыве три тысячи присутствующих начинают сожалеть о Монфеале. Его оплакивают, по нему рыдают, хнычут, покашливают, ему воздают торжественные и прочувствованные почести У Усатого от икотки даже вставная челюсть начинает дергаться сама по себе. Тут же один из викариев приступает к повторному сбору жертвоприношений. Как-никак, Монфеаль был великий человек. Уничтожить такое великолепное творение – это самый настоящий скандал! Тип со стеклянным глазом верит в торжество справедливости. Если мирскому правосудию не удается покарать мерзавца, то от божьего суда свою задницу ему не унести! Там, наверху, уже разогревают котлы со смолой.
Фирма “Сатана” полным ходом ведет заготовку антрацита! У оратора выскакивает стеклянный глаз и падает на гравий аллеи. Он наклоняется за ним, но вместо глаза подбирает крышку от кока-колы и вставляет ее в глазную впадину. И продолжает свою речь. Ничто не может его остановить. Видимо, ему сделали прививку иглой проигрывателя. Это день его славы. Он выступает в качестве солиста, и это его опьяняет. И потом, ведь на кладбище никто не осмелится крикнуть “Заткнись!” И он заводится пуще прежнего. Я интересуюсь, кто это такой. Какая-то дама с бархатным шарфиком, прикрывающим ее базедову болезнь, просвещает меня, это вице-зампредседателя “Товарищества газовых счетчиков” Речь продолжается. Похоже, он намерен произносить ее вечно, как вечен покой усопшего. В рядах церковников шепотом советуются, не пойти ли с шапкой по кругу в третий раз. Ну а третьему сословию не терпится вернуться домой. Некоторые начинают незаметно уходить. В, первую очередь это те, кто сами себе на уме, и экономически слабые, у которых попросту не хватает калорий, чтобы выдержать всю процедуру до конца.
Наконец оратор завершает свою речь восклицанием “Мы не прощаемся с тобой, дорогой Монфеаль, мы говорим тебе лишь до свидания! ” восклицанием, от которого разрыдался бы надгробный камень.
Начинается окропление присутствующих святой водой. Но нас слишком много, и вода достается лишь тем, кто оказался в первых рядах. Мальчик из церковного хора с кропилом не предвидел такого наплыва людей.
Епископ говорит, что следовало бы ограничить кропление до четверти крестного знамения на человека. Однако это вызвало бы пересуды у его паствы, тем более что осталось около двух тысяч человек, которых надо окропить всухую. Благословение продолжается по-сахарски. Епископ недоволен. Это заметно по его посоху, принявшему форму запятой. Ему хочется пожурить непредусмотрительного служку. Обезвоженная религия это декадентствующая религия!
Теперь остается лишь опустить гроб. Затем следует церемония рукопожатий. Все семейство Монфеаля выстраивается в определенном порядке: прапрадвоюродные братья, молочные сестры, внебрачные братья.
Они становятся в две шеренги, чтобы ускорить эту церемонию. Им хочется показать, что они тоже принадлежат к семейству Монфеалей: близкая родня, дальняя родня, натуральная родня и родня по переписке.
Родственники признанные, отвергнутые, принимаемые, пребывающие в ссоре. Все демонстрируют конец вендетты по случаю смерти знаменитого представителя семейства. Те, кто годами не виделись из-за общей межи или из-за орфографической ошибки в новогоднем поздравлении, теперь обнимаются, плачутся друг другу в жилетку, реабилитируют себя в покрасневших глазах присутствующих. В неподвижном воздухе слышатся поцелуи и текут слезы. Заблудившаяся пчела, которая не знает, что речь идет о погребении, объедается пыльцой, перелетая с букетов на венки.
Из этой истории она извлекает свой мед.
Я толкаю в спину Мартине, как командир самолета толкает в воздушную бездну парашютиста:
– Давай, сынок, твоя очередь!
Он надевает свои солнцезащитные очки и слегка кривит губы, чтобы выглядеть опечаленным. Затем продвигается к семейству Монфеалей – Мои соболезнования, мои соболезнования, мои соболезнования, рикошетят его слова. Перед вдовой он слегка задерживается. Я наблюдаю, словно через телеобъектив, за его действиями. Крупным планом выхватываю их руки. Следующие за Мартине соболезнующие начинают проявлять неудовольствие. Им не терпится облобызать руку жены убиенного. Инспектор продолжает свой соболезнующий сеанс. В шеренгах родственников выделяется Толстуха, которая вскрикивает каждый раз, когда ей пожимают руку, хотя в это время года не коченеют пальцы.
Впрочем, возможно, у этой родственницы имеется какой-нибудь коварный панариций.
Мадам Монфеаль тоже слегка задерживает в своей руке руку Мартине. Я замечаю клочок бумаги. Она перекладывает его из правой руки в левую, в которой уже держит вдовью принадлежность номер два – носовой платок.
Потом с большим самообладанием она продолжает пожимать другие фаланги.
Она бормочет “спасибо”, льет слезы, адресует вздохи и глухие рыдания знатным людям.
Я избегаю неприятной обязанности рукопожатия и незаметно ухожу.
Старый могильщик, сидя на старой могиле, поступает как пчела: он закусывает. Он настолько стар, что ему уже просто неприлично быть могильщиком. Возможно, он решил, что ему уже нет смысла возвращаться домой?
Глава 13
(или XII-бис для суеверных людей)
В конце дня следует новый грозный вызов Старика. Я решительно велю сказать, что меня нет. Я не чувствую себя готовым выслушивать его упреки. В пороховом складе лучше не курить, не правда ли?
Ни от Толстяка, ни от Морбле нет никаких новостей. Они готовятся к предвыборному собранию. Я решаю прогуляться к владению графа Марто-и-Фосий, чтобы прозондировать обстановку. Оба его слуги так и не вылезают из кухни. Они словно два безработных крота. Я спрашиваю у заплесневелого старика, нет ли у него новостей о Матье Матье. Он трясет своей маленькой болтающейся головой:
– Нет, месье. Видите, лужайка зарастает травой, а у меня нет сил скосить ее.
– У него, у этого Матье, есть какие-нибудь родственники?
– Не думаю.
– Что это был за человек?
Он кажется обеспокоенным, и его левый глаз начинает вращаться, как у маленького негритенка из сказочной Банании.
– Вы говорите о нем в прошедшем времени? – спрашивает он.
– Даже не знаю почему… – говорю я. – Так как он до сих пор пока значится без вести пропавшим.
Я повторяю свой вопрос:
– Что это был за человек?
– О, обычный тип, который крепко выпивал. Он живет в этом краю лет пятнадцать.
– Вот как? Он не местный?
– Нет. Он прибыл сюда откуда-то и остался здесь, я даже не знаю, как и почему. Он облюбовал и снял себе хибару… Начал подрабатывать то там, то там. Ухаживал за садами, чинил заборы – одним словом, брался за все.
Я показываю на романтический двор, окруженный серой стеной в стиле Утрилло. Позеленевший фонтан, клумбы с кустами роз, лужайки образуют чарующий старомодный пейзаж.
– Где он находился в день убийства, когда вы открыли окно, чтобы его позвать?
Он указывает на лужайку в форме полумесяца, рядом с фонтаном, то есть почти что посреди двора.
– Вон там.
– Вы говорите, он подрезал кусты роз?
– Да.
Я чешу ухо.
– Матье Матье приходил сюда после убийства?
– Да. Впрочем, он оставался здесь все время в день убийства. Потом он приходил сюда каждый день вплоть до похорон. А после мы его больше не видели.
Странный тип этот садовник! Я был бы не прочь с ним познакомиться.
Я благодарю старика и решаю пройтись по саду. Я останавливаюсь у выступа розария и смотрю на окно библиотеки, где был убит Гаэтан. Что-то здесь не так. Я осматриваю двор. Нахожу на земле картонную коробку из-под завтрака. В ней еще сохранились остатки еды, приставшие к стенкам. В коробке полно земли и улиток. Матье Матье, видимо, ее забыл. Меня это настораживает. Меня все почему-то настораживает, но мне не удается до конца понять, как же все это произошло. Даже неспособность понять тоже настораживает меня. Обычно я соображаю лучше.
Я возвращаюсь пообедать в Сен-Тюрлюрю. Обитатели гостиницы осаждают меня вопросами. Я вежливо их отшиваю, чтобы посвятить себя моей Фелиции. Когда я вижу маму рядом с ними, я могу оценить ее скромность.
Она смотрит на меня своими добрыми ласковыми глазами.
– Все идет как надо, мой малыш?
– Не совсем. Это настоящая головоломка!
Она говорит успокаивающим тоном:
– У тебя часто так бывает сначала, а потом все становится на свои места, и дело проясняется. Меня это подбадривает.
– Это правда, что господин Берюрье выставляет свою кандидатуру на выборы?
– Правда, мама. Это какое-то безумие! Мне этот отпуск надолго запомнится! Дела складываются таким образом, что я не удивлюсь, если завтра Толстяк получит уведомление об увольнении.
– Тебе бы следовало попытаться его отговорить.
– Я пытался, но в глубине души считаю, что его предложение, каким бы безумным оно ни казалось, может обернуться полезным для следствия.
– А если с Берюрье случится несчастье?
– Риск действительно есть. Знаешь что, давай обойдемся без десерта, и я поведу тебя на его предвыборное выступление. На это стоит посмотреть!
* * *
Куда ни посмотришь – всюду народ. От него даже площадь черна.
Можно подумать, что не только город, но и весь департамент столпился здесь, чтобы увидеть и услышать отчаянного полицейского, который, рискуя жизнью, бросает вызов аполитичному убийце. Ему посвящена первая полоса газеты “Франссуар”. Это слава. Фотография, представляющая его в профиль, как на медали, вместе с героическим экс-унтер-офицером Морбле, занимает четыре колонки.
Мне приходится предъявить свое удостоверение, чтобы проложить дорогу к залу. Эстрада украшена трехцветными государственными символами. За столиком стоят два стула, а на столе – две бутылки какого-то мутного напитка с перевернутым стаканом на горлышке.
Сооружение является одновременно колокольчиком и графинчиком для утоления жажды.
Атмосфера наэлектризована до предела. Народ перешептывается, вздыхает. Проем сцены, который известный певец Лео Ферре назвал бы неоновой блузкой, обрамляют три сверкающие буквы, являющиеся эмблемой новой партии, PAF. Вдруг совершенно неожиданно для присутствующих гремит музыка, исполняющая мотив песенки Иностранного легиона: “Вот и девочки пришли!” Зал встает. Из-за кулис слышится икотка, а затем появляется изрядно пьяный унтер-офицер Морбле, одетый в свою старую униформу. Ему аплодируют, он приветствует публику, укрощает ее неистовство и объявляет: “Дамы, девушки, господа и присутствующие здесь жандармы! Мне выпала честь, великая честь представить вам вашего нового кандидата. Его мужество вдохнет в вас новую жизнь, его программа вас очарует, и вы все проголосуете за…” Он откашливается и возвещает: “Александра… Бенуа… БЕ – РЮ – РЬЕ!"
Настоящий гром, дети мои! В сравнении с этой бушующей волной Гитлер в Мюнхене показался бы жалким дебютантом в салоне поэтов!
Звучит барабанная дробь, и в свете искусно направленного прожектора появляется Берю-Отважный. Мой Толстяк окружен героическим нимбом. Его подтяжка по-прежнему свисает до пяток, а шляпа (которую он так и не снял) сияет, как устрица на солнце. Он делает четыре шага и оказывается в центре эстрады. Он снимает шляпу для приветствия в стиле д'Артаньяна. Но шляпа выскальзывает у него из пальцев и, к несчастью, летит на яйцевидную и совершенно безволосую голову какого-то господина, сидящего в самом первом ряду. Господин срывает с себя этот гнусный головной убор. Я дрожу от ужаса. Шляпа Берю действительно соответствует своему названию, поскольку украсила как раз голову шефа.
Именно так: Большой босс находится здесь собственной персоной, более бледный, чем испуганная посадочная льдина в Арктике, более мрачный, чем смертный приговор. Он не поленился прибыть из Парижа в Белькомб, чтобы разобраться во всем на месте.
– Но, Антуан, послушай, неужели это?.. – бормочет мама.
– Ужели, мама, это в самом деле Старик. Могу предсказать головомойку, которая войдет в анналы полиции. Мне кажется, что скоро нам с тобой придется покупать галантерейную лавку. Ты будешь сидеть за кассой, а я – отмерять клиентам резинку.
Берю поднимает вверх руки в форме буквы “V”. Ему устраивают настоящую овацию. Он элегантно откашливается и начинает:
– Белькомбежцы и белькомбежки… Если я предстаю пред вами по известному вам поводу, то не потому, что я металломай. Я считаю, что режим неверия и апатии ни к чему хорошему не приводит и что если с ним смириться, то это не достойно француза.
Публика неистовствует.
– У него не так плохо получается, – улыбается моя нежная, великодушная Фелиция.
Ободренный публикой, Берю еще более усиливает свой голос бродячего торговца рыбой:
– Из-за того, что какой-то недоносок, которого все равно рано или поздно схватит мой шеф, знаменитый комиссар Сан-Антонио, изображает из себя неуловимого злодея, все партии наклали в штаны. Они думают, что представляют французский народ, а сами сразу прячутся в кусты, как только возникает опасность!
Его прерывает шквал оваций. Умеет же он говорить с народом простым и прекрасным языком, этот Верзила! Он находит такие слова и выражения, которые публика заглатывает с ходу.
– Тихо! – гремит Морбле, которому не терпится напомнить о себе. Он наливает стакан вина и подвигает его Берю.
– Держи, друг мой, выпей это!
Берю выпивает стакан одним глотком, и публика достойно приветствует этот подвиг. Войдя в раж, Толстяк хватает бутылку и, потрясая ею, поднимает вверх, словно боевое знамя и символ надежд.
– Вот что движет нашей партией!
Он пьет из горлышка, вытирает губы рукавом и продолжает:
– Я, Берюрье, говорю убийце, если он находится в этом зале, – я жду тебя, приятель, и я не боюсь тебя! Попробуй меня убрать, я к твоим услугам!
Я отказываюсь продолжать описание вызванного этим заявлением восторга собравшихся.
Его Величество продолжает свою речь:
– Если мой приятель Морбле и я создали PAF, то лишь для того, чтобы высказать свою точку зрения на местную проблему…
И шутливо добавляет:
– И даже на проблему столичного департамента! В зале громко смеются. Толстяк в это время приступает ко второй бутылке. По его красной пылающей роже струится пот.
– Белькомбежцы и белькомбежки! Надо смотреть будущему в глаза, а не играть в бирюльки! Нужно принимать неотложные меры, или мерки, как сказал бы мой портной. Сейчас я вам их перечислю по порядку.
Он поднимает большой палец.
– Начнем сначала: рабочий класс.
Раздаются бешеные аплодисменты, поскольку эта формулировка всегда встречает отклик в любой аудитории.
– Вот как мне это все представляется: повышение зарплаты на восемьдесят процентов…
Публика неистовствует. Он успокаивает ее и продолжает:
– Телевизоры на всех заводах. Нет никаких оснований, чтобы бедняги, которые надрываются у сверлильных и токарных станков, не могли посмотреть футбольный матч, если он проходит после обеда! То же самое для регби, пениса, атеизма, пенк-понга и тому подобного. Затем обязательный винный перерыв два раза в смену с бесплатной раздачей напитков и дегустацией новых марок…
Публика заходится от восторга.
– После рабочего класса – крестьянский класс! – провозглашает он, выбрасывая вперед указательный палец. – Крестьяне – это же негры и рабы, которые круглый год гробят свое здоровье под солнцем и в непогоду, чтобы вырастить хлеб или картошку. Правильно? Пора с этим покончить. Надо немедленно перейти к бесплатному распределению хлеба и картофеля! Почему бы и нет? А что делать с их землей, скажете вы мне?
Так вот, на своей земле они построят стадионы и бассейны, так как всего этого не хватает молодежи.
Толстяк выжидает, пока затихнет ураган аплодисментов. Его средний колбасоподобный палец присоединяется к большому и указательному.
– А сейчас я с вами поговорю о коммерсантах. С ними все просто: больше никаких налогов! Правительство пудрит нам мозги с понижением цен, а само повышает налоги. Это же надо! Если я упраздню налоги, цены сами упадут – это само собой понятно! А если цены понижаются, тут же наступает эпоха изобилия!
Снова раздаются аплодисменты. Он улыбается, довольный тем, что приносит людям столько радости.
– Спасибо, спасибо! Я вижу по вашей редакции, что вы согласны с программой PAF, и вы правы: PAF принесет вам счастье и довольство.
– В-четвертых, внутренняя политика. Здесь надо принимать срочные меры: дать анатомию Бретани, Савойе, Эльзасу. Все Пиренеи, будь они Верхние, Нижние или Восточные, присоединить к Испании, которая сидит в дерьме. Увеличить дружественную Бельгию, в которой не прекращаются драки, за счет департаментов Сомма, Север, Эна, Мез, Мозель и Мерт-и-Мозель! (Он читает по бумажке, поскольку его память не могла бы удержать подобные детали.) А потом, раз уж мы друзья с фрицами и так как эти бедолаги разрезаны надвое, их надо компенсировать, передав им Лотарингию и Франш-Конте. Но это еще не все. Чтобы избежать раздоров по поводу того, что лучше – туннель под Ламаншем или мост над ним, достаточно отдать Па-де-Кале английцам. Таким образом, Англия перестанет быть изолированной страной, и не будет больше действовать нам на нервы огромная переправа. Только после того, как мы примем эти решения, мы сможем считать, что, наконец, мы, французы, у себя дома, и у нас начнется прекрасная жизнь, поверьте мне!
Его мизинец присоединяется к остальным пальцам.
– Последний пункт моей программы – внешняя политика: содружество со всеми! Можно же есть черную икру и пить виски, так?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.