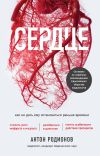Читать книгу "С открытым сердцем. Истории пациентов врача-кардиолога, перевернувшие его взгляд на главный орган человека"

Автор книги: Сандип Джохар
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Наш преподаватель, в кои-то веки без латексных перчаток и синей медицинской формы, одетый в отглаженный деловой костюм, поднялся на подиум, чтобы сказать траурную речь. «Кем были ваши доноры?» – снова спросил он нас.
Было ли у нас время подумать о том, как прожили свои жизни те, кто после смерти помог нам сделать шаг к медицине? На тот момент мы уже давно разобрали их на части, но память об их прощальном вкладе в науку теперь жила в каждом из нас. Он сказал нам, что мы должны позаботиться о том, чтобы их дар не пропал всуе.
Какой-то части меня хотелось выйти на подиум и рассказать историю жизни, которую я придумал для своего кадавра. Он приехал в США ради того, чтобы получить высшее образование, вероятно, он был одним из храбрецов первой волны мигрантов из Южной Азии после Второй мировой войны. Он наверняка раньше не покидал родной страны. Он знал только свой серый дом в Пенджабе с белыми поручнями на крыше и вечно забитые улицы, где в ядовитых клубах выхлопных газов и навозной вони бродила фермерская скотина. Когда его приняли в американский университет, его отец наверняка пожалел, что настаивал на том, чтобы сын получил образование за океаном. «Он потеряется, – думал его отец, – и не вспомнит дорогу домой; или того хуже – он не захочет возвращаться».
Я бы с удовольствием рассказал своим сокурсникам историю об иммигранте с разбитым сердцем. Она бы отлично вписалась в атмосферу церемонии. Но все-таки я передумал и остался сидеть на месте.
Когда мне было двадцать семь лет, я познакомился с человеком без имени. Я перекладывал его тело, разрезал его и снова собирал. Я подумал, что каждая безалаберная ошибка, которую я могу совершить в больнице, станет для него пощечиной, а каждый мой успех будет данью уважения ему, моему самому первому пациенту. Он чистосердечно пожертвовал собой, и теперь мне надлежало вернуть ему заслуженный покой.
Часть II
Механизм
3. Сцепление
Человек не может жить с разбитым сердцем.
Габриэль Фаллопий, анатом XVI века
С самого начала моего обучения в ординатуре кардиологии я ни секунды не сомневался в том, как мне следует воспринимать сердце. Несмотря на цветистые метафоры, используемые для его описания, в вопросах болезни сердце разумнее всего рассматривать как сложный насос. Первого июля 2001 года на ориентации мы, дюжина студентов в белых халатах, расселись в большой аудитории нью-йоркской больницы Бельвю, чтобы узнать от преподавателей о мириадах процедур, которые нам предстояло изучить в этом году. Руководитель отделения эхокардиографии Исаак Абрамсон рассказал нам о множестве способов диагностики кардиологических заболеваний с помощью ультразвука, которые раньше нельзя было распознать без хирургического вмешательства. Одетый в пыльный твидовый пиджак, Абрамсон был израильским брюзгой старой школы, ворчливым и резким, даже по меркам своих соотечественников. В 1970-х годах он с двумя студентами фактически изобрел допплеровскую эхокардиографию и с тех пор пожинал плоды своего труда. Он однажды сказал мне: «Сэм, я хочу, чтобы ординаторы чувствовали себя настолько незначительными, что я даже не пытаюсь запомнить их имена». У Абрамсона были принципы и бесценные крупицы мудрости; в тот день он поделился с нами одним из своих любимых высказываний: «Все зависит от разницы в давлении». Он хотел, чтобы мы думали о циркуляции крови, застое в легких и даже об отношениях между людьми в таком ракурсе.
Рядом с ним сидели его соратники: высоконравственный Дэвид Арш, заместитель главы отделения эхокардиографии, который был о себе почти такого же высокого мнения, что и Абрамсон, ведь он работал с маэстро и купался в лучах его славы, а это делало и его немного великим; Синди Фелдман, единственная женщина в их коллективе, чей черный юмор и экстравагантная синяя подводка глаз ничуть не умаляли ее потрясающей квалификации; придирчивый Ричард Белкин, заместитель заведующего ординатурой, которому было не наплевать на ординаторов только тогда, когда от этого зависело его личное благополучие и показатели отчетности.
На два ряда дальше сидели электрофизиологи. Их руководитель, поразительный Роберт Дрезнер, больше напоминающий раввина, чем врача, рассказал о чудесах радиочастотной абляции, при которой катетеры-электроды по венам вводятся в сердце для излечения многих распространенных нарушений сердечного ритма. Рядом с ним сидел его заместитель Митч Шапиро, резкий и откровенно хамоватый человек с аккуратной козлиной бородкой, в чьей внешности просматривались собачьи черты; под видом прямолинейности он с гордостью говорил предельно оскорбительные вещи. Например: «Что ты имеешь в виду под словами „у меня в сердце“? Суд точно не будет слушать твое объяснение „…в моем гребаном сердце“». По поведению и выправке Шапиро напоминал собаку-боксера. Их коллега Джим Харвуд, исследователь маркеров, сидел поодаль и наверняка размышлял о том исследовании ионных каналов клеточной мембраны, о котором он уже долгие годы бормотал себе под нос и в котором никто, а возможно и сам Харвуд, ничего не понимал.
Последним слово взял руководитель лаборатории коронарографии Сид Фукс. Фукс был странноватым; в больнице ходили слухи о том, что его квартира-студия занята огромной моделью железной дороги. Своими высокими бровями дугой и близко посаженными глазами Фукс напоминал Арта Карни с бородой. Когда все сказали свои речи, он дополнил: «Не принимайте слова моих коллег близко к сердцу. В конце концов, самое главное в кардиологии – разобраться с трубопроводом».
Несмотря на их эксцентричность, я уважал этих врачей. Я не знал, есть ли у меня с ними общие черты, но в глубине души чувствовал, что я хочу быть таким, как они.
Осознание того, как и почему умер мой дед, и понимание того, как его преждевременная смерть отразилась на моем отце, брате, сестре и на мне, были неразрывно связаны с моим желанием заниматься кардиологией.
Кардиология была сферой динамичной и развивающейся, словно она и сама пульсировала в такт ударам сердца. Не менее важным для меня было и то, что прилагаемые кардиологом усилия приводили к ощутимым и очевидным улучшениям состояния здоровья у пациентов. В отличие от неврологов, высококлассных специалистов в диагностике, которые мало чем могли облегчить участь своих пациентов, в распоряжении кардиологов были технологические разработки, которые все активнее развивались последнюю половину прошлого века. Этот золотой век кардиологии подарил человечеству множество прорывов, позволивших существенно продлевать жизнь человека, в том числе аортокоронарное шунтирование, коронарные стенты, имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Невероятно сложные технологии сочетались с осторожностью врачей, занимающихся болезнями сердца. Врач, уверенно работающий с диабетом, отказом почек или анемией, предпочитает проконсультироваться с кардиологом, если электрокардиограмма (ЭКГ) показывает хотя бы незначительное отклонение от нормы. Сердце убивает стремительно и внезапно, быстрее, чем любой другой орган, и это настораживает даже самых матерых медиков. Ординатура по кардиологии была для меня своего рода вступлением в эксклюзивный клуб, который, к моему вящему удивлению, принял меня в свои ряды.
Разумеется, я волновался. Любому новоявленному врачу стоит быть начеку. Кардиологи специализируются на острых состояниях. Такой профиль подразумевает серьезную нагрузку. В нейронауках есть понятие рефлекторной дуги – ситуации, когда угроза вызывает спонтанный отклик, минуя мозг, – например, когда вы видите загоревшиеся красным тормозные сигналы на автомобиле, едущем впереди вас, то ваша нога сама оказывается на тормозе. Я опасался, что мне, будущему кардиологу, придется выработать новые «рефлекторные дуги».
Первые несколько месяцев ординатуры летом 2001 года я проводил часть каждой ночи дежурства на телефоне, меряя шагами свою гостиную, со вспотевшими не только из-за сломанного кондиционера подмышками. Я старался выучить все алгоритмы оказания помощи при острых сердечных состояниях; я был настолько погружен в работу, словно по-прежнему находился в больнице. Я часто вспоминал случай, произошедший со мной во время первой стажировки в терапевтической интернатуре в начале третьего курса обучения в Сент-Луисе. Я работал со звездным резидентом программы внутренней медицины. Дэвид, связанный с кардиологией, был уверенным в себе, компетентным и быстро реагировал на острые изменения состояния пациентов. Он расцветал именно под давлением, в стрессовых ситуациях.
Однажды вечером нашу бригаду вызвали в отделение кардиореанимации. К ним только что поступил пациент по имени Джеймс Абботт, жалующийся на начавшиеся несколько часов назад мучительные боли в груди. Ему было лет пятьдесят, он был покрыт татуировками и вообще казался одним из тех суровых парней, с кем мне бы не хотелось встретиться ночью на пустынной парковке, но тогда он скулил от боли. Он постоянно потирал центр груди вверх-вниз, словно пытаясь разогнать боль. Было очевидно, что у него сердечный приступ. У него были к тому все предпосылки: гипертензия, повышенный холестерин, курение сигарет в анамнезе. Его ЭКГ и анализы крови показывали сниженный приток крови к мышцам сердца. Я не помню, проводили ли мы внешний осмотр, но в случае таких распространенных острых кардиологических состояний при диагностике внешний осмотр не играет особой роли.
Через несколько часов нас снова вызвали в кардиореанимацию. Абботт уже извивался от боли, а его давление падало. Дэвид велел медсестре сделать еще одну ЭКГ. Он велел интерну приготовиться к введению катетера в лучевую артерию на руке Абботта. Он попросил лоток для интубации, чтобы подключить пациента к искусственной вентиляции легких. Мне досталась команда:
– Замерь его давление!
Будучи лишь студентом-медиком, я замерял давление крови всего несколько раз в жизни, в основном у своих сокурсников. Я аккуратно обернул манжету вокруг левой руки Абботта и надул ее. Затем стал медленно выпускать из манжеты воздух, приложив свой стетоскоп к сгибу его руки:
– Сто на шестьдесят, – сообщил я результат.
– А теперь замерь на второй руке, – сказал Дэвид. Он уже обрабатывал руку Абботта хирургическим йодистым мылом, готовя его к установке катетера. К суете присоединялось все больше людей. Я обернул его правую руку манжетой и быстро накачал ее, но когда стал выпускать воздух, то не услышал ровным счетом ничего. Я подумал, что сделал что-то неправильно. Не обращая внимания на задевающих меня людей, я повторил замер, но безрезультатно. Я решил, что мне мешает шум толпящихся вокруг пациента людей. Я подумал было попросить самого Дэвида померить давление пациенту, но он был занят куда более важными делами. Я отошел, пропуская других медиков вперед, и меня быстро оттеснили от пациента.
На следующее утро Дэвид поймал меня перед обходом. Он был бледен: «У того парня было расслоение аорты», – сказал он мне. Скан КТ показал закрученный по спирали разрыв, идущий от брюшной аорты до самого сердца. Он сказал: «Расслоение заметил резидент из ночной смены. Он обратил внимание на разницу в пульсе между руками. В правой не было давления».
Я безмолвно выслушал его. Дефицит пульса является классическим симптомом расслоения аорты, но в дневной толчее я почему-то проигнорировал его. Я подумывал сказать Дэвиду, что замерял давление на обеих руках, но промолчал. Расслоение у Абботта уже зашло слишком далеко; вызванные для консультации хирурги сказали, что операцию он не переживет. Он умер спустя восемь часов.
Я еще много недель не мог смириться с тем, что отчасти виновен в смерти Абботта. Если бы я понял, что у пациента происходит расслоение аорты, вскоре после его поступления к нам, была бы хоть какая-то вероятность, что его удастся спасти. Постепенно я смог убедить себя, что не я один виновен в его смерти, но это мне не слишком помогло. Пациенты кардиологии по-прежнему вызывали у меня опаску.
* * *
Нас, первокурсников ординатуры по кардиологии, по ночам вызывали почти исключительно для того, чтобы мы сделали эхокардиограмму – снимки сердца с помощью ультразвукового датчика, потому что резидентов этому не обучали. Есть множество причин срочного снятия эхокардиограммы, но одной из наиболее распространенных была проверка на тампонаду сердца: при этом состоянии в перикарде, мешочке вокруг сердца, собирается жидкость – она сжимает сердце и мешает ему наполняться кровью. Тампонада сердца может оказаться летальной; быстрое заполнение перикарда жидкостью или кровью может просто остановить сокращения сердца. Если сердце полноценно не наполняется кровью и не перекачивает ее, кровообращение и давление падают, и человек входит состояние шока.
Когда Христа распяли на кресте, причиной его смерти наверняка стала именно тампонада, вызванная уколом в сердце копьем римского солдата.
В 1761 году итальянский врач Джованни Баттиста Морганьи рассказал об угрозе компрессии сердца при кровоизлиянии в перикард. Он отметил, что, если в коронарной артерии на внешней поверхности сердца возникнет разрыв, кровь потечет в оболочку перикарда, сдавливая все камеры сердца. Тяжесть последствий зависит от того, насколько быстро там скапливается жидкость. Перикард напоминает воздушный шарик. Когда вы надуваете шарик, вам нужно дуть в него с достаточной силой, чтобы давление поступающего воздуха преодолело сопротивление резиновой оболочки. Надувать тот же шарик во второй раз проще, потому что резина уже растянулась. Аналогичными свойствами обладает и перикард – если жидкость набирается медленно, перикард растягивается, становясь тонким и податливым, а давление в нем остается достаточно низким. При стремительном наполнении жидкостью перикард не успевает растянуться, и быстрый рост давления в нем может привести к коллапсу камер сердца и нарушить кровообращение. В таком случае нужно воткнуть иглу сквозь грудину прямо в перикард и вытянуть из него скопившуюся жидкость, чего я никогда не делал[18]18
В случае тампонады все может решить одна капля – даже небольшое количество крови в перикарде может привести к критическому снижению давления крови. К счастью, чтобы спасти пациента, одной капли тоже хватит – вытягивание малого объема крови может восстановить ток крови.
[Закрыть].
Бродя по своей гостиной тем летом 2001 года, я подметил, что между тампонадой и моими первыми ночами дежурства на телефоне можно было провести интересную параллель. Я знал, что постепенно привыкну к экстренным ситуациям. По мере того как я буду набираться опыта, у меня сформируется уверенность в своих силах и необходимая для этой работы храбрость. А сейчас, пока это еще не произошло, я буду продолжать приходить в ужас от мысли, что у пациента, за которого я отвечаю, все пойдет наперекосяк.
Более опытные ординаторы предупреждали нас, что хирурги будут запрашивать снимки эхо по поводу и без. У пациента после операции слегка снизилось давление? Запросить эхо, чтобы исключить тампонаду. У пациента незначительно повышены показатели ферментов печени, а ординатор из хирургии ляпнул, что причиной может быть (крайне маловероятная) непроходимость печеночной вены? Эхо – для исключения тампонады.
Иногда, когда мы спрашивали, какой у пациента пульс и давление, выяснялось, что у него все в норме; не менее взвинченный, чем мы, дежуривший на проводе ординатор-хирург в итоге признавал, что просто хотел перестраховаться.
Ординаторы курсом постарше нас в таких случаях советовали отнекиваться, задавать уточняющие вопросы и всячески уговаривать: «Неужели это не может подождать до утра?» – то есть отбиваться всеми способами, не отказывая прямым текстом, чтобы не вылететь с работы.
Большую часть ночей мне, чтобы не заснуть, хватало одного лишь ожидания вызова; я лежал в кровати и нервно потирал ногой о ногу, ожидая неотвратимого писка пейджера. Как только мое сознание начинало погружаться во тьму, раздавался пронзительный сигнал. Невозможно было понять, как давно он начал звонить, но было очевидно, что пора приступать к работе. Я тихонько выбирался из кровати, стараясь не будить Соню, мою жену, быстро просыпался, собирался с мыслями и на цыпочках шел отвечать на звонок в гостиную.
Моим первым вызовом стал запрос на снимок эхо для больной раком женщины, которой стало очень трудно дышать. Для начала я стал задавать наводящие вопросы – каковы ее жизненные показатели, как давно у нее упало давление, – но что-то в голосе хирурга-ординатора подсказывало, что мне надо просто заткнуться и идти к пациенту. Я натянул форму, взял свой стетоскоп, запихнул в карман двадцатидолларовую купюру, шариковую ручку и свой больничный пропуск и побежал на улицу ловить такси в центр города.
В три часа утра в моем районе на прогулку выходили крысы. Одной только мысли о том, что одно из этих чудовищ может выскочить мне под ноги из кучи мусора на тротуаре, хватило, чтобы выгнать меня на центр проезжей части. За редким исключением, витрины магазинов были погружены во тьму. Ко мне с очевидным превышением скорости подлетело такси и с визгом остановилось, впуская в свой салон. Мы, как на аттракционе-горках в парке, пролетели по магистрали ФДР, по мостам, через туннели; бетонные стены неслись мне навстречу, а тени огромного города отбрасывали на приборную панель пятна, напоминающие колонии бактерий в плошке с агаром. В отдалении виднелись высотки на острове Рузвельта, словно желтой сыпью, усеянные огнями окон, за ними был Бруклинский мост и дымящиеся трубы Нижнего Ист-Сайда. Я обдумывал возможные ракурсы снимков эхо, которые мне утром предстояло представить на суд доктору Абрамсону. Помню ли я, как настраивать частотные фильтры и скорость развертки? Руководитель эхокардиографии мог быть крайне суров. На утреннем совещании он устроил одному из ординаторов-первокурсников такой беспощадный допрос, что тот упал в обморок.
Таксист высадил меня на парковке за больницей Бельвю. Здесь крысы были еще крупнее и двигались по одной им ведомой логике, словно листья на ветру. Очертания больницы на фоне безоблачного неба напоминали готический отель. Я поднял взгляд на здание, пытаясь представить, какие жизненно важные решения мне предстоит там принять. У входа на тротуаре разлеглись юные модники с проколотыми губами, в черных кожаных куртках. В вестибюле стоял затхлый воздух, немного пахло дымом. Я быстро предъявил крепкому охраннику свой пропуск и побежал в кабинет эхо на втором этаже за бутылкой контактного геля и громоздкой эхоустановкой фирмы Siemens, которую повез по узким пустынным коридорам в отделение интенсивной терапии.
Бодрствовать в полчетвертого утра – странное ощущение; на стыке дня и ночи кажется, что все должно быть тихим и неторопливым, и попытки спешить выглядят неуместными. Когда я распахнул тележкой дверь в отделение интенсивной терапии, то словно оказался в казино – сияли огни, звенели приборы, и там было предостаточно неприкаянных душ. Родственники караулили своих близких, бродя по коридорам или сидя у их коек. В воздухе висел достаточно приятный тонкий аромат обеззараживающих средств и талька. В поисках хирурга-ординатора я заглянул в ординаторскую. Комната была усеяна распечатками, рентгеновскими снимками и следами вчерашней трапезы, но самого ординатора там не было. Я дошел до поста дежурной медсестры, где молодая женщина заносила в компьютер какие-то данные. Не отрываясь от работы, она указала на комнату в самом дальнем углу отделения.
Я аккуратно завез свой аппарат эхо в узкий закуток между кроватью пациентки и завывающим монитором жизненных показателей. У женщины было упрямое выражение лица; она словно не хотела, чтобы люди видели ее панику. Всклокоченные короткие тонкие волосы у нее на голове смахивали на недавно подстриженную траву. Она стреляла глазами по сторонам, как испуганный ребенок, но утверждала при этом, что у нее все в порядке. Кардиомонитор информировал, что давление у нее паршивое.
У нашего организма есть несколько механизмов, с помощью которых он пытается компенсировать резкое снижение кровяного давления (то есть шоковое состояние). В вегетативной нервной системе повышается симпатическая и понижается парасимпатическая активность, что приводит к учащению пульса и повышению объема сердечного кровотока. Соль и вода перерабатываются почками. Мелкие периферийные артерии сжимаются, прекращая приток крови к менее важным компонентам тела, таким как кожа, мышцы опорно-двигательного аппарата, и перенаправляя ее к жизненно важным органам – сердцу, почкам и мозгу. Газообмен легких затрудняется, приводя к повышению концентрации аминокислот в крови, учащается дыхание.
Похоже, у моей пациентки все это происходило одновременно. При желтом свете ламп она была бледной, как кость. Ее пульс напоминал стук копыт коня в галопе. Она была молчалива, потому что и говорить, и дышать у нее не получалось. Когда я приложил щуп эхо к ее забинтованным после хирургического извлечения опухоли груди ребрам, даже я сразу понял, что в перикарде собралось очень много крови.
Ее сердце выглядело так же, как маленькая зверушка, застрявшая в крошечном бассейне; оно билось так, словно одна из крыс Рихтера в его емкостях с водой, пытаясь вырваться на свободу. Правый желудочек сплющился в блин. Я почувствовал странное облегчение оттого, что наконец-то столкнулся лицом к лицу с тем, чего так боялся.
Я побежал за хирургом-ординатором, и он тотчас же оказался в хирургической стерильной одежде; меня попросили отойти в сторону, но продолжать держать щуп эхо, чтобы знать, куда направлять дренажную иглу.
Медсестра накрыла пациентку простыней. Хирург вскрыл стерильный набор инструментов. Пациентка замерла. Она то ли активно сотрудничала с нами, то ли погружалась все глубже в шок. Обработав кожу чуть ниже грудины лидокаиновым обезболивающим, хирург пятнадцатисантиметровой иглой сделал прокол; ориентируясь по моему ультразвуковому изображению, он направил кончик прямо в сердце. Правый желудочек находится ближе всего к грудине; я вспомнил, как преподаватель анатомии сказал нам, что именно в него мы попадем, если нам придется вводить иглу через стенку грудной клетки. На эхо кончик иглы вошел в перикард, всколыхнув ультразвуковое изображение белым нимбом, словно вспышка солнца в мутном море темноты. Хирург оттянул поршень, и в пластиковый цилиндр поползла темно-бордовая жидкость. Он отсоединил шприц от иглы, и из нее продолжила медленно сочиться кровавая жидкость. Он вставил в иглу катетер с трубкой и подключил ее к дренажному мешку. Несколько минут спустя простыню убрали, и я увидел, что у пациентки восстановился цвет лица. В дренажный мешок продолжала сочиться кровавая жидкость, но давление почти вернулось к нормальным показателям.
Несколько минут промедления в споре с хирургом-ординатором или в ожидании такси, и эта женщина наверняка бы погибла. Хирург, молодой индиец, был мне благодарен. Выяснилось, что в детстве ему самому делали операцию на сердце (он оттянул V-образный воротник формы и показал бледный, размытый шрам повыше грудины). В ту ночь мы отлично поладили и из-за совместной работы в сложной ситуации, как это часто бывает в больнице, сдружились. Такой была моя первая встреча с живым, бьющимся сердцем, нуждающимся в срочной помощи. В следующие несколько месяцев я ни разу не отклонял запроса на эхо.
* * *
В 1950 году в Лундском университете в Швеции кардиолог Инге Эдлер и физиолог Карл Гельмут Герц изобрели эхокардиографию. Они ходили в доки, чтобы изучить работу сонаров, и пришли к выводу, что если ультразвуком можно за пятьсот метров увидеть корабль, то, наверное, если изменить глубину сигнала, с его помощью можно будет увидеть и сердце. Они создали прототип щупа и приложили к груди Эдлера; поначалу они не понимали, что именно они видят, но было очевидно, что это бьющееся сердце. В 1954 году они опубликовали первую научную работу по ультразвуковой кардиологии – «Использование ультразвукового рефлектоскопа для непрерывной записи движений стенок сердца». В середине 60-х годов ХХ века Харви Фейгенбаум впервые использовал ультразвук для исследования скопления жидкости в перикарде. Вскоре эхокардиография стала повсеместно использоваться для срочной диагностики скопления жидкости и помогала хирургам прицельно вводить дренажную иглу. Ультразвук перевел процедуру дренажа тампонады в раздел шаблонных. Уже через несколько месяцев ординатуры тампонада перестала быть для меня чем-то экстраординарным.
До начала эры ультразвука тампонада представляла серьезную угрозу для ранней хирургии, где всегда был немалый риск травмы сердца. Летом 1893 года, когда доктор Дэниел Хейл Уильямс провел дренаж травматической эффузии сердца в ходе (на тот момент считавшейся таковой) первой операции на открытом сердце, его действия были воистину революционными.
Пациента, двадцатичетырехлетнего Джеймса Корниша, ударили ножом в грудь в драке в салуне. Когда конная карета скорой помощи доставила его в больницу, у него было обильное кровотечение. Уильямс осмотрел его, имея из диагностических инструментов только стетоскоп (рентгеновские снимки изобрели лишь пять лет спустя). Ножевое ранение было чуть правее грудины и приходилось точно в правый желудочек сердца. Изначально Уильямс счел рану поверхностной, но затем у Корниша понизилось давление, началась вялость, и он стал погружаться в летаргию – все признаки тампонады и шока; тогда врач понял, что пора действовать.
Ничто в изнуряюще тяжелой жизни Уильямса не предвещало его участия в столь эпохальных событиях. Отец Уильямса был цирюльником и умер от туберкулеза, когда сыну было всего десять лет. Его отправили жить к друзьям семьи в Балтимор. Будучи в основном самоучкой, он перебивался случайными заработками, побывав в какой-то момент в подмастерьях у сапожника, цирюльником и музыкантом на озерных кораблях, а затем решил заняться медициной. Он переехал в Чикаго, где работал подмастерьем хирурга, а затем получил образование в Чикагской медицинской школе (сейчас она называется Школа медицины при Северо-Западном университете)[19]19
Chicago Medical College, сегодня называется Northwest University Medical School. – Прим. пер.
[Закрыть]. Он открыл медицинскую практику в южной части города, работал врачом при приюте и стал первым врачом-афроамериканцем, работающим на городскую железнодорожную службу. Предки Уильямса были рабами, а он сотрудничал с Лигой равноправия, организацией, возникшей во времена Реконструкции Юга, которая боролась за права чернокожего населения. В 1891 году он открыл в трехэтажном кирпичном здании больницу Провидент[20]20
Provident Hospital. – Прим. пер.
[Закрыть], первую, где наряду с белыми сотрудниками на равных работали молодые чернокожие врачи и медсестры. Под руководством социального реформатора Фредерика Дугласа она стала для чернокожего населения Чикаго альтернативой переполненным благотворительным больницам.
До того летнего дня в 1893 году почти никто не пытался оперировать сердце живого человека[21]21
Есть свидетельства о попытках провести подобные операции в полевых госпиталях на поле боя; судя по всему, успехом они не увенчались. Малоизвестный хирург из Сент-Луиса по имени Генри Долтон в 1891 году стал первым врачом, зашившим перикард пациента с ножевым ранением, но о его достижении мало кто знал.
[Закрыть]. Сегодня, когда кардиология постоянно прибегает к продвинутым хирургическим вмешательствам, сложно представить, что вплоть до двадцатого века врачи, по сути, не имели к сердцу никакого доступа.
К XX веку операции проводились на всех жизненно важных органах, в том числе на мозге, но сердце оставалось скрыто за историческими и культурными препонами, куда более прочными, чем мембрана перикарда. На сердце животных операции проводились, а в 1651 году сам Гарвей ввел катетер в нижнюю полую вену человеческого сердца у кадавра, но зашивание пульсирующего органа живого человека оставалось за гранью возможного. «Одно лишь сердце из всех внутренностей не может травмы пережить», – писал Аристотель, так как в его время считалось, что рану на сердце залечить невозможно. Заполненное кровью сердце быстро ею истекает. Казалось, нет способа изолировать его из цикла кровообращения, чтобы аккуратно зашить. Сам Гален подмечал, что гладиаторов, раненных в сердце, всегда настигал летальный исход. Он писал: «Когда в одном из желудочков сердца пробивали дыру, они умирали на месте, в основном от кровопотери. Если рана была в левом желудочке, это происходило еще стремительнее». Собственно, до начала XIX века при ранении сердца и последующей тампонаде в качестве лечения назначали тишину и пиявок. Неудивительно, что свыше 90 % таких пациентов умирали[22]22
В 1868 году Георг Фишер проанализировал 452 случая ранения в сердце и обнаружил, что выживаемость составила лишь 10 %.
[Закрыть]. Несмотря на ужасные последствия этой идеологии, еще в 1875 году уважаемый венский хирург и профессор медицины Теодор Бильрот писал: «По моему мнению, <дренаж> перикарда является процедурой, подступающей к грани того, что некоторые хирурги назвали бы хирургической проституцией и иными формами безумия. – Но все же добавил: – Последующие поколения могут думать иначе».
Бильроту не пришлось ждать следующего поколения. Уже во второй половине девятнадцатого века запреты на кардиохирургию начали ослабевать. В 1881 году в бруклинском Обществе анатомии и хирургии хирург Джон Бингэм Робертс объявил: «Может настать день, когда мы сможем лечить раны самого сердца, надрезая перикард для извлечения сгустков крови, а может, и для зашивания сердечных мышц». В 1882 году немецкий врач М. Блок рассказал о том, что кролики, в сердцах которых он делал проколы, а после зашивал их, выжили. Он предположил, что аналогичный подход может применяться и на людях. Тем временем в Нью-Йорке хирург Чарльз Альберт Эльсберг доложил о результатах своих исследований на животных: «Эксперименты показали, что сердце млекопитающих выдерживает куда больше хирургических манипуляций, чем предполагалось ранее».
В числе тех, кто высказывался за хирургию сердца, был Дэниел Уильямс, большой любитель покрасоваться; он компенсировал дефицит скромности храбростью и компетентностью в своей профессии. В дальнейшем, когда карьера привела его в Говардский университет, он прославился тем, что по воскресеньям приглашал зевак в больницу, чтобы они могли наблюдать за его операциями. «Черная публика еще не привыкла к черным хирургам и не могла в полной мере им довериться», – говорил об этом периоде антрополог У. Монтегю Кобб. Он добавил: «Многие из них вообще боялись переступить порог какой-либо больницы. Доктор Уильямс избрал наиболее смелый и последовательный подход к преодолению этих страхов публики. Раз в неделю он распахивал свою операционную для всех желающих, своими действиями приглашая их: «Бояться нечего. Приходите, смотрите, как мы работаем, и убедитесь сами, что у нас есть для этого все необходимые условия».
Тем не менее Джеймс Корниш не стал одним из «показательных» пациентов. Тем жарким днем 1893 года, когда Уильямс вскрыл его грудную клетку пятнадцатисантиметровым разрезом, он сам понятия не имел, что там увидит. На внутренней стороне ребер виднелась сочащаяся кровью разрезанная артерия. Уильямс зашил ее кетгутом – струной из кишки. Операционная смахивала на сауну; помощники утирали лоб Уильямса от струящегося по нему пота. Уильямс собирался было зашивать грудную клетку обратно, когда заметил, что нож вошел глубже, чем он поначалу предположил, и пробил дырочку не более 1,3 см в диаметре. У него не было времени размышлять о высоких материях; он попросил еще струны и зашил рану в перикарде, осторожно выдерживая задаваемый пульсирующим сердцем ритм в эдаком хирургическом танго. Он приметил маленькую ранку и в тонкой стенке правого желудочка, на мышце самого сердца, но она уже была закрыта небольшим сгустком крови и более не кровоточила. Уильямс принял решение не трогать эту рану.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!