Текст книги "Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия"
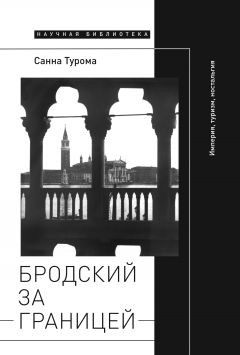
Автор книги: Санна Турома
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Как показывают все эти примеры, травелоги Бродского раскрывают не только ностальгию изгнанника, но и ностальгию по имперскому прошлому Европы, о чем будет больше сказано в последующих главах, а также ностальгию туриста по настоящим путешествиям. Эра байроновских побегов, героических исследований и приключений завершилась, и все, что осталось, как показывает бразильский травелог Бродского, это пародировать себя самого как туриста, что он и делает, когда описывает, как «путешественник» (так он называет «перволичного» повествователя в эссе) лишается бумажника, украденного на пляже Копакабана, и поэтому отменяет запланированную поездку вверх по Амазонке. С другой стороны, как он замечает, «было бы даже занятно для русского автора – дать дуба в джунглях» (СИБ2, 6, 61). Другими словами, типичные обстоятельства, в которых находится турист постимперской эпохи, лишают его даже шанса имитировать исследования и приключения, а самое главное и огорчительное, лишают возможности исторически значимой и осмысленной авторской судьбы, позволяющей войти в историю литературы.
Кульминацию туристической темы, представленной в травелогах Бродского, мы находим в англоязычном эссе 1986 года «Место не хуже любого», представляющем торжество современного туристического опыта над исчезающим чувством изгнаннической ностальгии. Написанное спустя десять лет после бразильского травелога и включенное в сборник «О скорби и разуме», это эссе представляет собой описание опыта путешествия, представленное в форме ночного кошмара. В тексте представлен «путешественник», который находится в ситуации преследования («либо нас преследуют, либо мы преследуем кого-то») в городе, чьи черты принадлежат «одновременно нескольким местам», напоминающим те, где «мы побывали в прошлом или позапрошлом году». Топография этого гибридного города составлена из мест на пути туриста: аэропорт, вокзал, стоянка такси, рестораны, музеи, магазины. На этом пути «путешественник» сталкивается с обыденными проблемами – оставить правильную сумму чаевых, найти туалет, получить скидку, понимать местный язык, не зная его, выбрать развлечения и следовать путеводителю. Периодически нарратив сбивается на перечисление туристических достопримечательностей, которые автор с удовольствием называет, как, например, целый перечень европейских вокзалов. Что постепенно проявляется из этого кошмара – это идеальный город-гибрид с чертами, извлеченными из других произведений Бродского, в частности с чертами Венеции. Представленный как кошмар, текст разворачивается как критика туристических практик, но затем деконструирует эту критику, и туристический опыт торжествует. «Путешественник», сопротивляющийся этому опыту, оказывается неспособным сравнить себя или идентифицировать с кем-то другим, кроме собственного двойника: «Так что, если вы и обнаружите кого-нибудь в баре гостиницы, весьма вероятно, это будет такой же, как вы, путешественник. „Слушайте, – скажет он, обернувшись к вам. – Почему здесь так пусто? Нейтронная бомба или что?“» (СИБ2, 6, 43).
Наконец, описание туристического опыта перерастает в критику современной культуры и общества. Кульминацией кошмара становится осознание того, что образ города – это образ не самого города, а его репродукции, открытки: «Мы знаем эти вертикальные штуки [знаменитые памятники архитектуры] до того, как увидим их. Но даже после того, как мы их увидели, мы сохраняем не трехмерный образ, а типографский вариант. Строго говоря, мы помним не место, а открытку» (СИБ2, 6, 39). Другими словами, бесчисленные репродукции туристических достопримечательностей, или маркеров, как назвал их Дин Макканел, то есть открытки, постеры, миниатюры и другие сувениры, заслоняют оригинальный вид. Гибридные образы, которые производит наше подсознание, как Бродский, похоже, считает, – это образы репродукций, знаки знаков с ускользающим референтом. Переоценка иерархии оригинала и копии, о которой говорит Бродский, выраженная в «снижении или подмене» (СИБ2, 6, 39), тем не менее не размывает различия, как может показаться с первого взгляда. Это становится очевидным, когда Бродский расширяет свою критику на современность в целом. На фоне концепции истории, которую развивает текст, позиция Бродского напоминает платонические жалобы Жана Бодрийяра на утрату референта, исторически легитимного и этически более высокого оригинала: «И неудивительно, что путешественник чтит древние руины много больше современных, оставленных в центре отцами города с поучительной целью: путешественник, по определению, – продукт иерархического мышления» (СИБ2, 6, 40)119119
Подробное обсуждение платоновской идеи подражания применительно к Бодрийяру и Делезу см. в работе: John Frow, Tourism and the Semiotics of Nostalgia // October 57 (1991): 126–127.
[Закрыть]. Иерархия прошлого и настоящего, «древних» руин и «современных» руин, основана не на эстетическом, но на этическом выборе. Историческое – значит, оригинальное и подлинное, современное – неоригинальное и неаутентичное. Отсюда открытая неприязнь Бродского к современному искусству, обычная в его травелогах. Ритм нашего восприятия реальности ускорен технологическим прогрессом, и это, по Бродскому, притупляет восприятие исторических деталей: для наблюдателя из быстро едущего автомобиля статуя «местного военного или гражданского гения восемнадцатого столетия» выглядит как «некое подобие одетого в кожу Вильгельма Телля или кого-нибудь в том же роде» (СИБ2, 6, 40). Суммируя это ощущение, Бродский инвертирует одну из своих любимых бинарных оппозиций – истории и географии: «история давно покинула ваш город, оставив сцену более стихийным силам географии и коммерции» (СИБ2, 6, 41).
Слово «путешественник», часто повторяющееся в эссе, вновь появляется в начале «Набережной неисцелимых», где воспоминания о прибытии на венецианский вокзал, ночной поездке в пансион в компании местной жительницы и пробуждении от солнечного света следующим утром вызывают в памяти «Охранную грамоту» Пастернака. Повторяющееся слово «путешественник» и хронотоп зимнего вечера на вокзале также напоминают о романе Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». В первом мемуарном отрывке фрагментарного нарратива «Набережной неисцелимых» Бродский детально описывает «путешественника», наделяя его конкретными чертами и обликом, близким к автопортрету:
В том маловероятном случае, если чьи-то глаза следили за моим белым лондонским дождевиком и темно-коричневым борсалино, то суммарный силуэт этих глаз бы не резал. Самой ночи поглотить его точно не составило бы труда. Мимикрия – на мой взгляд, обязательное свойство путешественника, а сложившаяся к тому времени в моем сознании Италия состояла из черно-белых фильмов пятидесятых и имеющих ту же окраску принадлежностей моего ремесла (СИБ2, 7, 7–8).
Ностальгия, которой проникнут этот автобиографический пассаж, двунаправленна. С одной стороны, это тоска по идеалу молодого человека, по тому, как должен выглядеть путешественник в Италии. С другой – это ностальгия зрелого автора по этой юношеской ностальгии. Упоминание «черно-белых фильмов» отсылает к увлечению советских шестидесятников итальянским неореализмом, а «лондонский дождевик» и «борсалино» – к эстетике путешествий прошлого. Но этот отрывок включает и еще один уровень ностальгии – он представляет автора во время, когда его идеалистическое представление подлинного и индивидуального путешествия еще не подорвано возникающим из последующего туристического опыта чувством «мимикрии» как «обязательного свойства путешественника». Другими словами, этот фрагмент отражает сожаления автора о потерянной невинности путешественника. Это сожаление связано с понятиями оригинального и подлинного, что в свою очередь указывает на утопический характер ностальгии. Подлинность путешествия – утраченный идеал, который фигура «путешественника» в «Набережной…» и означает. Это сознательная, ироническая ностальгия. Ретроспективная стилизация показывает отделение автора от себя и своего прошлого: «зима была правильным сезоном; единственное, чего, по-моему, мне не хватало, чтобы сойти за местного шалопая или carbonaro, был шарф» (СИБ2, 7, 8. Курсив мой. – С.Т.). Ироническая репрезентация собственной ностальгии дает автору эстетическое средство, соответствующее его неразрешимому состоянию меланхолии120120
Осознанная ностальгия Бродского напоминает тот тип ностальгии, который Светлана Бойм в «Будущем ностальгии» назвала «рефлексирующей». Этот тип находится на одном из полюсов парадигмы ностальгии, которую выстраивает Бойм. На другом полюсе – «реставрирующая» ностальгия, которая является подоплекой националистических движений, в рамках которой «прошлое представляет ценность для настоящего; оно представляет собой не длительность и протяженность, а что-то вроде тотального образа». Рефлексирующая же ностальгия «говорит о невозможности возвращения домой и осознает свою собственную эфемерность и историчность». Обобщая различия между двумя типами ностальгии, Бойм заключает: «Если реставрирующая ностальгия удушливо серьезна, то рефлексирующая ностальгия, напротив, сопряжена с чувством трагической иронии <…> Рефлексирующая ностальгия не претендует на то, чтобы восстанавливать мифический дом <…> Ностальгический нарратив подобного типа открыт и фрагментарен» (Бойм С. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2013. № 3, цит. по электронной версии: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/89_nz_3_2013/article/10513/).
[Закрыть]. Наконец, на фоне описаний повторяющихся поездок в Венецию, хронологии отъездов и возвращений фигура «путешественника» в отрывочных фрагментах «Набережной…» демонстрирует авторскую ностальгию по античному мифу о возвращении, нарративу Одиссея. Это сближает эссе с многочисленными поэтическими текстами Бродского, в которых образ Одиссея использован для описания жизненных событий. Два самых показательных из них – «Одиссей Телемаку» (1972) и «Итака» (1993).
Кроме личных ассоциаций, с «путешественником» в травелогах Бродского связаны многочисленные культурные аллюзии. Ностальгия, которой проникнуты его тексты, направлена на фигуру путешественника – писателя модернизма, мифического модернистского «путешественника», намеченного романтиками и возрожденного авторами на поколение старше Бродского, писателями поколения, о котором ностальгически вспоминает Пол Фассел в своем исследовании англоязычной литературы путешествий. В этой литературе «путешественник» появляется очень часто – это та мифическая фигура джентльмена, которую Мэри Луиза Пратт выделила как одну из движущих сил в создании евроимперского колониального мифа XX века. Фигура эта продолжала влиять на образ мужчины-путешественника в прозе модернизма, как показывает Карен Каплан. Она определяет «путешественника» как
мифическую фигуру, воспроизводимую во множестве противоречивых практик и дискурсов. В модернизме «путешественник» <…> возникает как в популярной культуре, так и в высокой. Идеальная фигура «джентльмена-путешественника», действующего во множестве воображаемых обстоятельств, послужила моделью для Индианы Джонса и вдохновением для Пола Теру121121
Kaplan, Questions of Travel, 50.
[Закрыть].
Сюда же можно добавить и «путешественника» Бродского, вырастающего из русских литературных путешествий и принадлежащего к канону, начало которого было заложено Карамзиным и Радищевым и который был продолжен травелогами рубежа XVIII–XIX веков, элегической идентичностью Пушкина и других романтических поэтов, сконструированной на фоне Кавказа, а затем русскими и англо-американскими «джентльменами-путешественниками» и их советскими и западными реинкарнациями в массовой культуре.
Для этого типа идентичности важна байроническая модель. Как заметила Сьюзен Лейтон, в романтический период Байрон «приобрел в России репутацию прежде всего путешествующего автора»122122
Layton, Russian Literature and Empire, 24.
[Закрыть]. Фигура Байрона была важна и для модернистов, и здесь приходит на память «Письмо лорду Байрону» Одена. Изначально этот текст был опубликован в «Письмах из Исландии», травелоге, составленном из писем в прозе и стихах; самые известные из них – оденовские «Письмо лорду Байрону» и «Путешествие в Исландию»123123
W.H. Auden and Louis MacNeice, Letters from Iceland (New York: Random House, 1969), особенно 21, 23–24.
[Закрыть]. Среди глав книги есть одна, названная «Туристам». Она написана прозой в бюрократическом стиле и содержит практические советы, касающиеся паспортов, транспорта, размещения и т.д. «Туристы» противопоставлены «путешественникам», под которыми подразумеваются сами авторы книги (см. начальные строки «Путешествия в Исландию»), а также другие литературные путешественники (см. «Письмо лорду Байрону»). «Путешественник» – это репрезентация лирического героя, индивидуальная и литературная субъективность, отличная от репрезентации туриста. Обратимся к первой строфе «Путешествия в Исландию» Одена, с тоской автора/путешественника по месту, достойному его чувства художественного изгнанничества:
Путешественник молится: «Избавь меня от любых
Врачей», а порты получают названья по морю,
захолустье, ржавчина и печаль,
а Север значит для всех – «Отбрось!»
«Письма из Исландии» основаны на впечатлениях от путешествия Одена и Мак-Ниса в Исландию в 1934 году. Согласно летописи, составленной Валентиной Полухиной, Бродский предпринял путешествие в Исландию по стопам Одена в июле 1978 года. В беседе с Соломоном Волковым Бродский так объяснил роль, которую оденовское «Письмо лорду Байрону» сыграло в его жизни:
К концу моего существования в Советском Союзе – поздние шестидесятые, начало семидесятых – я Одена знал более или менее прилично. То есть для русского человека я знал его, полагаю, лучше всех. Особенно одно из сочинений Одена, его «Письмо лорду Байрону», над которым я изрядно потрудился, переводя. «Письмо лорду Байрону» для меня стало противоядием от всякого рода демагогии. Когда меня доводили или доводило, я читал эти стихи Одена124124
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 140.
[Закрыть].
Оденовский Байрон, модернистская модель путешественника/поэта, коренящаяся в романтических нарративах перемещения и несогласия, повлияла на формирование идентичности Бродского в Советском Союзе 60-х.
В заключение необходимо сказать, что романтическая и модернистская модели путешествия и изгнания, фигура «путешественника» входят как ностальгически автобиографический образ в творчество Бродского после 1972 года. В «Путешествии в Стамбул» он пишет: «Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, географии» (СИБ2, 5, 313). С помощью этого он пытается ослабить эффект своих высказываний о Турции и культуре ислама, но также использует слово «путешественник», чтобы снять драму изгнания, почти таким же образом, как он это делал в письме 1972 года в «Нью-Йорк таймс». С одной стороны, фигура «путешественника» к этому моменту становится автобиографической – «путешественник» оказывается лирическим героем путевых текстов Бродского, героем его жизненного нарратива, автобиографического сюжета, который конструируется в его травелогах после 1972 года. Это указывает на модернистскую индивидуальность и оригинальность опыта поэта, на его уникальную субъективность как автора. Ирония по поводу ностальгии в текстах Бродского – это его попытка ответа на те изменения, которые эпоха глобального туризма и миграции внесла в представления высокой культуры модернизма о литературном изгнании и путешествующем мужчине-писателе. Воспринятые в более широком культурном контексте, травелоги Бродского иллюстрируют кризис модернистского субъекта, обозначая дрейф поэта от советской логоцентрической культуры, взлелеявшей его идентичность как автора, в сторону радикально изменившихся западной эстетики и литературы, практик, которые были обозначены как постмодернистские. Ироническая ностальгия, представленная в путевых текстах Бродского, представляет собой, таким образом, его отклик на то, что Фредрик Джеймисон обозначил как «конец индивидуализма» – того индивидуализма, который являлся плодом «великого модернизма». Для модернистского мышления, как замечает Джеймисон, неотъемлемой частью была идея того, что «модернистская эстетика некоторым изначальным образом связана с концепцией уникальной самости и приватной идентичности, уникальной персоны и индивидуальности, которые, как ожидается, должны генерировать свое собственное уникальное видение мира и выковывать свой собственный уникальный, опознаваемый стиль»125125
Fredric Jameson, Postmodernism and Consumer Society, 114.
[Закрыть]. Это то, чему бросает вызов само явление туризма, и этот вызов Бродский учитывает в своих текстах.
Помимо отклика на ситуацию постмодерна, травелоги Бродского также отвечают на геополитическую ситуацию постколониального мира. Его путевая поэзия и проза о Мексике и Бразилии помещают путешествующего автора за пределы Европы, и там становится понятен анахронизм его модернистской позиции, ее окончательно продемонстрированная связь с эпохой европейского империализма. Эти путешествия также подчеркивают ключевую роль, которую понятие империи играет в художественном мире Бродского. Перед тем как перейти к анализу имперской темы и особенностей отношения к ней Бродского, которые становятся очевидными в его латиноамериканских травелогах, обратимся к тому, как он дает новую жизнь русским имперским мифам и имперской эстетике в своем ретроспективном путеводителе по Ленинграду.
2. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИМПЕРСКИМ МИФОЛОГИЯМ. ЛЕНИНГРАД
Понятие империи возникает в произведениях Бродского как основа, структурирующая его историческое и географическое изображение, а также понимание культурных смыслов. Опыт жизни в Советском Союзе стал ключевым для его восприятия империи одновременно как исторического факта и метафизического понятия. В творческом воображении поэта империя воспринималась как культурная данность, предоставляющая условия, необходимые цивилизации для развития искусств, философии, моральных норм, но также способная выявить «человеческий негативный потенциал», как это было, с точки зрения Бродского, с Византийской империей, представленной в «Путешествии в Стамбул» в качестве предшественницы советской империи (V, 300)126126
Среди многих работ, посвященных использованию Бродским понятия империи как метафизического понятия, следует обратить внимание на статью Дана Унгуряну (Dan Ungurianu, The Wandering Greek: Images of Antiquity in Joseph Brodsky // Russian Literature and the Classics / Ed. Peter I. Barta, David H.J. Larmour, Paul Allen Miller (Amsterdam: Hardwood Academic Publishers, 1996). Унгуряну, обобщая работы других исследователей, отмечает метафизическое значение понятия империи в произведениях Бродского: «Понятие империи не чисто политическое, но скорее философское. Это экзистенциальная категория, основанная на его [Бродского] видении времени, пространства и смерти» (166). В фокусе же моего внимания не трансцендентальное, а обыденное значение имперской темы в сочинениях Бродского. См. анализ значения «империи» в постсталинском неофициальном дискурсе, с одной стороны, и неоднозначность империи как аналитического инструмента, с другой, во введении к данной книге.
[Закрыть]. Притягательность имперской истории для Бродского чувствуется в его текстах: имперский Рим, Британская империя и Венецианская республика в разной степени были отправными точками его творчества. В стихах, написанных до отъезда из Советского Союза, он часто обращается к историческим реалиям имперского Рима, создавая сатирические описания советской жизни, как, например, в «Post Aetatem Nostram» (1970). Часть «Башня» этого текста предвосхитила сюжет пьесы «Мрамор», написанной в эмиграции. Но, несмотря на то что Бродский пользуется отсылками к римским реалиям, чтобы изобразить абсурд или моральное разложение авторитарной советской империи, он никогда не ставит под сомнение историческую легитимность империи Римской, значение культуры, рожденной этой империей, и авторитет этого культурного наследия. Показательно в этом смысле, как Бродский раскрывает римскую тему в «Мраморе» (1981). В пьесе ви2дение империи как идеального общественного устройства и утопического общества представлено наравне с антиутопией, рисующей граждан как заключенных127127
Русский текст см. в: СИБ2, 7, 223–279. Английский: Joseph Brodsky, Marbles (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1989).
[Закрыть]. Описание нездоровых условий, в которых живут Туллий и Публий, два главных героя пьесы, опирается на собственный опыт Бродского и знание советской тюремной системы. В конце пьесы интеллектуал Туллий погружается в сон, приняв таблетки, бесплатно предоставляемые империей. Наделенные угрожающими чертами тоталитарного общества империя и ее метафорическое отражение – башня-тюрьма, где заключены Публий и Туллий и происходит действие, – остаются единственным миром, изображенным в пьесе. Как отмечает Валентина Полухина, невозможно сбежать из этой тюрьмы, «поскольку империя повсюду»128128
Валентина Полухина рассматривает империю в произведениях Бродского как одну из его «главных концептуальных метафор». Она анализирует значительное количество стихотворений поэта и замечает, что по большей части он использует империю как «систему государственного управления, которая безразлична к человеческой личности», затем переходит к «Мрамору» и показывает, как Бродский после метафизического рассмотрения темы империи выносит ей приговор. См.: Valentina Polukhina, Joseph Brodsky: A Poet for Our Time (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 195–210. Другой комментарий, проливающий свет на метафизику империи в «Мраморе», можно найти в статье Петра Вайля и Александра Гениса «От мира – к Риму» // Поэтика Бродского / Под ред. Л. Лосева. Tenafly: Эрмитаж, 1986. С. 198–206.
[Закрыть]. В то же время империя – это единственная точка отсчета в пьесе. Она представлена как единственный значимый мир, пространство за ее границами безымянно и безгласно, не способно производить значения. В пьесе содержатся прямые отсылки к Древней Греции и Риму, что позволяет обозначить семиотическую границу между империей/башней и ее окружением с помощью классического и культурно устойчивого противопоставления «цивилизации» и «варваров»129129
Бродский подчеркивает это, обращаясь к дискуссии рубежа XIX и XX веков о скифах через цитату из стихотворения Анны Ахматовой. Подробнее об этом см.: George Nivat, An Ironic Journey into Antiquity // Brodsky’s Poetics and Aethetics / Ed. Lev Loseff and Valentina Polukhina (Houndmills: Macmillan, 1990), 92.
[Закрыть].
Страстно защищая римских авторов и их поэтические формы и насыщая свои произведения интертекстуальными отсылками к имперскому Риму, Бродский создает фундамент для своего поэтического выражения, основывая его на знании, определившем не только европейские имперские дискурсы, но и русский. Взгляд на империю в воображаемой реконструкции Античности, проведенной Бродским еще до отъезда, – это взгляд из провинции, не повинующийся имперскому центру130130
См.: Вайль П., Генис А. 60-е. С. 338–339.
[Закрыть]. Овидий и Проперций, две ключевые фигуры для поэтического самоопределения Бродского, дали ему модель, представляющую политическую (а в случае Проперция и любовную) маргинализацию поэта131131
Идентификация с Проперцием не только отражает его неофициальный статус в официальной советской культурной политике, но обозначает также маргинализацию другого типа. В стихотворении «Anno Domini» (1968) отсылки к Проперцию создают образ поэта, чья роль изгоя общества в интеллектуальных кругах создается не только литературным, но и любовным поведением. Лирический сюжет разворачивается в воображаемой римской провинции, наложенной на географию советской империи. Современный аналог провинции Рима – Советская Литва, обозначенная через дату и место в конце стихотворения: «Январь 1968, Паланга». Герой сначала соотносится с наместником, потерявшим расположение Цезаря, а затем постепенно становится все более похож на Проперция, (скандально) знаменитого среди своих современников провоцирующим образом своего лирического альтер эго и его отношениями с не отвечающей взаимностью Цинтией (так у Бродского, традиционная русская передача имени – Кинфия), как Проперций называет адресата своих любовных элегий, а Бродский – любимую своего лирического героя. См. главу 1, с. … этой книги.
[Закрыть]. И вновь провинциальный взгляд отражает судьбу русских столиц, с осознанием Ленинградом культурного значения имперского прошлого Петербурга. Чтобы подчеркнуть сторонний взгляд, Бродский помещает своего героя в Литву или на побережье Черного моря, на реальные границы Советского Союза и исторической Российской империи.
В эмиграции темы провинции и маргинальности уходят на второй план, уступая образам Рима. В стихах и прозе на римские темы, написанных в 80–90-е годы, взгляд из провинции трансформируется в настойчивое желание автора поместить себя в центр имперского пространства и истории классического Рима. Эта новая позиция появляется в «Римских элегиях» (1981). Хотя лирический герой выражает чувство отчужденности и маргинальности, которое передается через образ «ломаного „р“ еврея» во второй элегии, в ней также есть ощущение, что он нашел свое место посреди римских руин:
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея
узнают себя тоже…
(СИБ2, 3, 227)
Самоидентификация с римскими руинами не только иронически отражает физическое состояние лирического героя, но и дает точку культурного отсчета для его перемещения, географического и экзистенциального. Развалины Рима подчеркивают перемещение во времени, герой Бродского – во времени и пространстве. Это сопровождается связью стихотворного субъекта с культурным и литературным наследием Рима, переданной в первой строке IX элегии. Список женских имен – адресатов римской любовной лирики представляет собой своего рода поэтическое самоопределение Бродского по отношению к традиции: «Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина. Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса» (СИБ2, 3, 232). Строка, содержащая упоминания о Катулловой Лесбии, Юлии Овидия, Цинтии Проперция и Ливии, второй жене императора Августа, расширена Бродским, который добавляет своего любовного адресата – римскую подругу Микелину132132
О Микелине и ее прототипе см. в интервью Петра Вайля с Иосифом Бродским в книге: Бродский И. Пересеченная местность / Под ред. П. Вайля. М.: Независимая газета, 1995. С. 177.
[Закрыть]. Конечно, метрически четырехсложная Микелина контрастирует с рифмующимися дактилическими именами «Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия», что иронически отстраняет ее от канонических римских возлюбленных, а, соответственно, автора от его литературных предшественников. Тем не менее поэт внедряет собственную биографию в римское историческое пространство, что указывает на принципиально другое представление об Античности и ставит лирического героя в другие отношения с ней, отличающиеся от представленных в поэзии Бродского до эмиграции. Стихотворение «Бюст Тиберия» и два больших эссе об Античности, написанных по-английски, «Дань Марку Аврелию» и «Письмо Горацию», продолжают двигаться в этом направлении.
«Письмо Горацию» – это воображаемое путешествие во времени и пространстве, в котором автор помещает себя и русскую поэзию на карту классического наследия. Стихотворение Горация, служащее отправной точкой для Бродского, – это ода 9 второй книги, посвященная Гаю Валгию Руфу, в которой Гораций рисует пространство современного ему имперского Рима133133
Не вечно дождь на жнивы колючиеИз низких льется туч, и до КаспияКолышут бури гладь морскую,Как и не вечно, – не каждый месяц, —Друг Валгий, верь мне, – в дальней АрменииНедвижен лед иль рощи дубовыеГаргана стонут от Борея,Ясени ж наши листву теряют.<…>Уйми же слезы, брось свои жалобы!Не лучше ль спеть про новые АвгустаТрофеи славные, поведавО неприступных Нифата высяхИ о реке, что в Мидии вольноюНе будет больше, вместе с подвластнымиОтныне Риму племенами,И о лишенных простора скифах. (Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт, Студия биографика, 1993. С. 84).
[Закрыть]. В эссе Бродский откликается на упоминание Горацием скифов, поскольку «мой народ – ну скажем так – не слишком часто упоминается великими поэтами римской Античности» (СИБ2, 6, 362; здесь и далее авториз. пер. Е. Касаткиной). Он описывает свое географическое, историческое и культурное положение с воображаемой точки зрения римского поэта. Mare Caspium, упомянутое Горацием, служит отправной точкой для частичной автобиографии, которую Бродский раскрывает через любовь к римской поэзии, фиксируя поворотные точки собственной судьбы на карте Римской империи. Первая встреча с этой поэзией связана с Каспийским морем, где молодой Бродский был в геологической экспедиции, тогда как последняя по времени, происходящая в момент, когда Бродский пишет эссе, географически располагается в «этом невообразимом для тебя [Горация] месте», то есть в Соединенных Штатах, куда он попал «из Гипербореи двадцать два года тому назад», то есть из СССР или России («северная Скифия»)134134
Гипербореей в мифологических и географических представлениях древних греков и римлян называлась страна, лежащая на севере.
[Закрыть]. Очевидно, что «окраиной Pax Romana» поэт называет здесь и США, и СССР, и историческую Россию.
Вид из провинций, «с окраин», продолжает определять специфику точки зрения Бродского. Но в то же время точкой схождения с Римом оказываются не Овидий или Проперций, маргинальные элегические поэты, но одический Гораций с его поэтикой империи, с помощью которой историческое и географическое воображение Бродского помещает его в имперское пространство, охватывающее Римскую империю, Российскую империю, равно как и империи, современные поэту, – советскую и американскую. Более того, рассуждая об экзотическом звучании названия mare Caspium для римских поэтов, Бродский заключает: «главное в Caspium то, что слово это дактилическое» (СИБ2, 6, 372). В конце письма Бродский порицает Вергилия и Горация за их приверженность Цезарю, но воздерживается от дальнейших упреков: «Если я не упрекаю тебя более язвительно, то потому, что я не твой современник: я не он, потому что я почти что ты. Ибо я писал твоими размерами, и в частности этим. Именно это, как я сказал, заставляет меня ценить Caspium, Niphaten и Gelonos, что стоят в конце твоих строк, расширяя империю» (СИБ2, 6, 378–379)135135
Нифаты – горная цепь в Армении, гелоны – одно из скифских племен.
[Закрыть]. Используя выражение «расширяя империю», Бродский отсылает к актуальному описанию имперского пространства с помощью дактилических названий – что и делает Гораций, но в то же время на метафорическом уровне «империя поэзии» расширяется последующими культурами, адаптировавшими оригинальные метрические схемы римлян. Тем не менее метафорическое значение этого выражения, идея того, что стихотворный метр «расширяет империю», отсылает к общему для современных исследований культуры представлению о языке как о фундаментальном факторе строительства, поддержания и выражения империй. В постколониальной критике после «Ориентализма» Эдварда Саида это представление используется на манер Фуко как отправная точка для теоретического осмысления дискурсивной власти языка, который производит знание, поддерживающее имперское и колониальное господство. Но Бродский подходит к этому с идеологически противоположного конца. Он утверждает культурные достижения античной древности, прежде всего стихотворные метры, как метафизические основания вечных ценностей культуры: «Тетраметры есть тетраметры, не важно когда и не важно где. Будь то в греческом, латыни, русском, английском. Также и дактили и анапесты. И так далее» (СИБ2, 6, 372). В этом смысле Бродский подчеркивает роль имперского Рима и его культуры как источника западного, так же как и русского, имперского дискурса. Для него стихотворные размеры представляют вечное единство всех имперских дискурсов и культурное значение этих размеров остается неизменным вне зависимости от исторического контекста.
Несмотря на сдвиг в поэтическом самоосознании Бродского от окраины к имперскому центру – воображаемому Риму, чувство периферии продолжает формировать его понимание имперской культуры и собственной позиции в англоязычном литературном мире. Это положение не отличается от положения ряда постколониальных авторов, отраженного в эссе Бродского о творчестве англо-карибского поэта Дерека Уолкотта, написанном в 1983 году:
Поскольку цивилизации конечны, в жизни каждой из них наступает момент, когда центр больше не держит. В такие времена не войско, а язык спасает их от распада. Так было с Римом, а до того с эллинистической Грецией. Скрепляющую работу в подобные эпохи выполняют провинциалы, люди окраин. Вопреки распространенному мнению, мир не кончается на окраине – как раз там он раскрывается (СИБ2, 5, 120; пер. В. Голышева).
Хотя Бродский говорит здесь об Уолкотте, чье вхождение в англоязычную литературу было принципиально другим и чье владение английским языком никогда не подвергалось сомнению, в отличие от самого Бродского, поздно выучившего этот чужой для него язык и многократно подвергавшегося обвинениям в его незнании, этот отрывок относится не только к Уолкотту, но и к самому автору эссе и его личному опыту имперской культуры136136
Термин Патрика Кольма Хогана «опорное множество» («reference set»), который он вводит, описывая освоение Уолкоттом западной литературной традиции, указывает на сходство стратегий создания идентичности у Бродского и Уолкотта, даже с учетом того, что для Уолкотта англоязычная культура была культурой колонизатора, а для Бродского – объектом желания (см. прим. 2 на с. 10 наст. изд.) Хоган определяет опорное множество как «принципиально важное для культурной и литературной самооценки и, таким образом, для культурной и литературной идентичности <…> Опорные множества влияют на создание отдельных произведений, устанавливая модели, стандарты сравнения (которые направляют автора на каждой стадии построения текста) и так далее» (159). Очевидно, что, например, Джон Донн и У.Х. Оден входят в опорное множество для Бродского. [В другом месте своей монографии Хоган дает еще более четкое определение опорного множества как «подмножества элементов отдельной категории, которые кто-либо использует как стандарт для оценки других элементов категории» (61), то есть, как Хоган далее поясняет на примере, оценивая свою зарплату, он может сравнить ее с зарплатой других профессоров и с зарплатой членов своей семьи. Таким образом, другие профессора и члены семьи составят опорное множество для оценки зарплаты Хогана. – Прим. перев.]
[Закрыть]. В 1983 году, когда Бродский писал эссе о Уолкотте, он находился в положении русского поэта, пытающегося обрести авторскую идентичность на «окраинах» языка, который, несмотря на то что Британская империя перестала диктовать языковые нормы, оставался глобальным языком, увеличивающим свой ареал по всему постиндустриальному миру, с пост– или неоимперским центром в Северной Америке. Более того, то культурное значение, которое Бродский придает окраинам, коренится в его опыте советского литератора и жителя города, который, став столицей государства, основанной на его краю, затем потерял свое центральное значение и в советской империи снова стал окраиной. Это также видно из того, как Бродский возвращается к созданной поэтами Серебряного века параллели Петербурга и эллинистической Александрии. Но, несмотря на чувствительность к имперским окраинам, которая видна в цитате, Бродский утверждает в своих текстах четкое отношение к имперской культуре: окраины не угрожают существованию имперской власти, напротив, динамические процессы взаимодействия центра и окраин поддерживают власть, вдыхая новую жизнь в ее культурные механизмы. Имперские центры могут приходить в упадок, как показывает Бродский, но имперская культура продолжает жить, по крайней мере в поэзии: «Англия в этом смысле / до сих пор империя и в состояньи <…> править морями», – как замечает поэт в стихотворении «Йорк» (1976) с отсылкой к английскому гимну «Правь, Британия!». Английский язык и лучшие достижения поэзии на этом языке связаны для Бродского прежде всего с адресатом «Йорка» – У.Х. Оденом. В одном из двух написанных Бродским эссе об Одене, которое называется «„1 сентября 1939 года“ У.Х. Одена», поэт объясняет свое ностальгическое отношение к языкам, которые он воспринимает как имперские, и к английскому в частности:
Поскольку с самого начала своей поэтической биографии Оден был одержим чувством, что язык, на котором он пишет, – трансатлантический, или, лучше сказать, имперский: не в смысле британского господства, а в том смысле, что именно язык создал империю. Ибо империи удерживаются не политическими и не военными силами, а языками. Возьмите, к примеру, Рим, или империю Александра Великого, которая после его смерти сразу же стала распадаться. Что удерживало их на протяжении веков, после того как рухнули политические центры, – это magna lingua Graeca и латынь. Империи – прежде всего культурные образования; и связующую функцию выполняет именно язык, а не легионы (СИБ2, 5, 218; пер. Е. Касаткиной).
Бродский вновь подчеркивает, что язык является фундаментальной основой для строительства, поддержания и самовыражения империи, и вновь он делает это, не принимая во внимание то, что в современной ему исследовательской традиции рассматривалось как неизбежное переплетение дискурсивной власти языка и имперского/колониального господства. В эссе Бродского о культуре Петербурга/Ленинграда идеологические предпосылки его неожиданной имперской ностальгии подчеркнуты с помощью адаптации российской имперской мифологии. В эссе «Полторы комнаты», трогательной дани его родителям и семейной жизни в ленинградской коммунальной квартире, Бродский показывает, как притягательная сила имперской истории действовала на него еще на русской почве, в родном городе, благодаря профессии отца. Воспоминания о годах службы отца на флоте, затем о его работе в Военно-морском музее в Ленинграде и о впечатлении, которое его морская форма производила на юного автора, превращаются в гимн Петру Великому, русскому флоту и истории Российской империи:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































