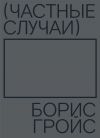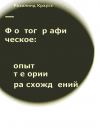Текст книги "Сила искусства"

Автор книги: Саймон Шама
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мы, смертные, остаемся где-то посредине, мечась и крича вместе с персонажами картины (ибо в ней столько же шума, сколько тишины в «Призвании»). Свет, мелькающий, словно проблесковый огонь, перебегает с фигуры на фигуру и с лица на лицо, усиливая всеобщую панику. А позади толпы, примерно с того же расстояния, что и мы, но из глубины картинного пространства за происходящим наблюдает какой-то человек. Волосы его растрепаны и спутаны, он нахмурен и обливается потом. Караваджо изображает самого себя испуганным грешником, который знает, что надо немедля бежать, чтобы спасти свою жизнь, но не может оторвать глаз от кровавого зрелища. Единственным оправданием его присутствия служит то, что он держит фонарь и является, таким образом, вопреки своей природе, несущим свет.
VII
Работы, выполненные в 1601 году в капелле Контарелли, сделали Караваджо знаменитым. Теперь даже зарубежные художники и исследователи искусства знали о его достижениях – как и о не менее известных недостатках. Голландец Карел ван Мандер писал:
«Существует некий Микеланджело да Караваджо, который создает поразительные вещи в Риме… Этот Караваджо сумел вопреки всем трудностям завоевать своими работами громкое имя и почет… Однако, собирая зерно, нельзя забывать и о мякине. Вместо того чтобы постоянно совершенствовать свое искусство… он, поработав две недели, бросает работу и шляется со своей рапирой в сопровождении мальчика-слуги, переходя с одного теннисного корта[7]7
Речь идет о «паллакорде» (ит. pallacorda), игре, предшествующей современному теннису.
[Закрыть] на другой и всюду затевая ссоры и драки, так что с ним трудно иметь дело… Это не имеет ничего общего с искусством».
Однако это имеет кое-что общее с искусством Караваджо, с его агрессивной живописью, которая прорывается с холста сквозь время и расстояние, чтобы яростно наброситься на нас. Это искусство, в котором всякая утонченность и благопристойность с презрением отвергаются, а эстетствующее снисходительное заглядывание в трущобы бесцеремонным пинком выбрасывается за дверь. Нищие бродяги, которых Отцы Церкви лицемерно уверяли в своей заботливости, вместо того чтобы исполнять устраивающие всех остальных эпизодические роли страдающих бедняков в ожидании чудесного избавления от страданий, на полотнах Караваджо стали главными действующими лицами. Конечно, для сохранения достоинства искусства было бы гораздо удобнее считать, что Караваджо-правонарушитель, вращавшийся в сомнительной компании, неоднократно битый в драках и не остававшийся в долгу, – это совсем не тот Караваджо, который создал религиозные картины колоссальной значимости. Однако приходится признать, что без первого не было бы и второго. Гениальный художник был головорезом.
Но он был так неоспоримо гениален, что богатые и влиятельные люди единодушно защищали его от наказаний за его преступления. Чем выше восходила звезда художника, тем сильнее они стремились заполучить его к себе на службу и тем больше готовы были платить, чтобы обойти конкурентов. Привычка брать натурщиков с улицы завоевала ему дурную славу в Академии святого Луки и вызывала нарекания как недостойный пример для талантливых молодых художников, но парадоксальным образом именно в картинах, изображавших этих бродяг, церковные иерархи увидели обновленное искусство христианского смирения. Несомненное близкое знакомство Караваджо с миром бедноты рассматривалось как особая заслуга в Святой год, когда церковникам полагалось, в подражание Христу, мыть ноги бедняков, смазывать их раны и поддерживать их в несчастье. Однако кардиналы не слишком часто отправлялись залечивать раны бедняков, а тут увидели возможность возложить эту задачу на Караваджо. Он должен был, уподобившись Христу, стать их посланцем в трущобах.
Эта идея явно пришлась по душе Тиберио Черази: утопающий в богатстве главный казначей папы Климента пожелал обзавестись приделом для отпевания в церкви Санта-Мария дель Пополо (но умер, не дождавшись окончания работ по украшению придела). Церковь находилась на площади Пьяцца дель Пополо, паломники с севера посещали ее в первую очередь, и Черази рассчитывал на то, что его придел увидит большое количество народа. Он был намерен привлечь к работе самых лучших художников, заодно объединив противоборствующие лагеря, а потому заказал роспись алтаря Аннибале Карраччи – любимцу происпанского семейства Фарнезе, а украшение стен – Караваджо, выдвиженцу ориентированного на Францию дель Монте.
Караваджо подписал контракт еще до того, как закончил «Мученичество святого Матфея». В результате у него оставалось всего восемь месяцев, чтобы выполнить еще один ответственный заказ, который должен был доказать, что картины в капелле Контарелли не были случайной удачей. Дополнительным стимулом для него служил тот факт, что в оформлении церкви участвовал единственный художник, которого Караваджо считал достойным соперником, – Аннибале Карраччи. Он не раз уже брался за работу над своими лучшими полотнами, подстегиваемый желанием побороться за первенство с мастерами, чьи произведения он высоко ценил, – так было с утерянной «Медузой» Леонардо, плафоном капеллы Контарелли, расписанным д’Арпино. А теперь ему предстояло схватиться в поединке с живописцем, который был не только крупнейшим представителем болонской династии Карраччи, но и признанным мастером натуралистической живописи. Однако по иронии судьбы манера Аннибале в тот момент далеко отошла от былой безыскусности. Переходы от одного цвета к другому стали у него более плавными, краски более яркими; образцом для него теперь был, несомненно, классицизм Рафаэля. Златовласая Мадонна на его картине «Успение Богоматери» (ок. 1590) была обаятельна и полна жизни и, казалось, возносилась на небеса исключительно силой своей жизнерадостности; в складках ее юбки играли в прятки серафимы, а апостолы с энтузиазмом приветствовали это действо. В противоположность этому, на картинах Караваджо – еще одном мученичестве (святого Петра) и еще одном обращении (святого Павла) – царила битуминозная чернота, пронзенная ослепительным, как молния, лучом света. Если в «Успении» мы наблюдаем свободный взлет, не требующий никаких усилий, то здесь все приковано к земле, сопряжено с трудами и болью, тяжестью и напряжением, стонами и ворчанием. Словно желая усилить контраст, Караваджо повторяет жест Богоматери на полотне Аннибале, изображая руки Павла простертыми вперед и раскинутыми навстречу свету веры. Однако при этом Павел лежит навзничь, глаза его опалены явлением божества.
Но с «Обращением святого Павла» опять вышел фальстарт. Волнуясь, как и в случае с «Мученичеством святого Матфея», в связи с поставленной перед ним задачей, художник сотворил до странности перегруженную деталями и безжизненную картину, которую церковники, ответственные за капеллу Черази, отвергли. Но неудача и на этот раз заставила Караваджо собрать все свои творческие силы воедино. Первым делом он значительно сократил пространство, сузив его и сделав более замкнутым, чем в работах капеллы Контарелли. В постренессансную эпоху все художники, сужавшие рамки картины, инстинктивно стремились компенсировать это за счет углубления перспективы. Естественно, Аннибале Карраччи поступил так же, изображая вознесение Девы Марии, и написал картину, полную света. Но Караваджо часто добивался успеха, действуя вопреки принятой логике. Вместо того чтобы уменьшить фигуры и преодолеть узость пространства иллюзией глубины, он сделал нечто прямо противоположное – приблизил массивные фигуры людей и животного вплотную к раме, так что они нависают над нами, грозя вывалиться к нашим ногам. Прямо нам в лицо устремлено лошадиное копыто вместе с мясистым крупом, рукоятью меча и заскорузлым локтем. О каком-то облегчении, которое могло бы даровать нам созерцание пространственной глубины, нет и речи: мы испытываем священную клаустрофобию.

Распятие святого Петра. Ок. 1600. Холст, масло.
Капелла Черази, Санта-Мария дель Пополо, Рим

Обращение святого Павла. 1601. Холст, масло.
Капелла Черази, Санта-Мария дель Пополо, Рим
Это производило поразительное впечатление! Никогда еще расстояние между зрителем и изображаемым событием не было устранено с таким успехом. На другой картине перед нами неумолимая, перемалывающая все, как жернов, человеческая машина, водружающая крест с прибитым к нему вверх ногами святым Петром – он считал себя недостойным быть распятым в таком же положении, как и Христос. Гениально переданная суть произведения в том, что перед нами не законченное действие, а непрерывный процесс толкания и поворачивания, рывков и поднимания, который, кажется, длится вечно. Именно так, по мнению церкви, верующие и должны были воспринимать это событие, особенно в городе самого Петра. Верующие должны были ощущать причастность к греху, сознавая в то же время, что им гарантируется спасение, если они будут послушны последователям принявшего мученическую смерть апостола. Караваджо изображает римлян такими, какими их еще никто не показывал в религиозной живописи (и уж тем более никто из художников семьи Карраччи): мы видим грузные тела, грязные мозолистые ступни, мелькающие в темноте лица (они еще не узрели свет); наше внимание привлечено к напряженным мускулам и сухожилиям, к переплетению набухших вен. Процесс распятия воспринимается прежде всего как физический труд, который символизирует поблескивающая в сумраке лопата в руках одного из персонажей, и благодаря этому зритель не осуждает трудящихся, а невольно отождествляет себя с ними. Но разумеется, он отождествляет себя и с апостолом, чья голова – одно из высочайших достижений Караваджо: открытый рот издает стон из-за пробитых гвоздями рук, в глазах принятие судьбы, а самая выразительная деталь – клок волос, откинувшийся в сторону при переворачивании тела.
В то время как образ Петра в церкви на Пьяцца дель Пополо – вполне справедливо – связан с народом, Павел соотносится с представителями власти. На обеих картинах художник обходится с учениками Христа не очень лестно: предтеча богатых и напыщенных пап показан в момент своего величайшего унижения, а непоколебимый эталон воинствующей веры изображен выброшенным из седла своей суетной власти, распростертым на земле и беспомощным. С последним из них связан переворот в сознании самого художника, который расстается с многовековой традицией иконографии Павла, с привычном образом седобородого старца, каким он представал и в его собственном раннем творчестве. На этот раз Караваджо уподобляет его, прежде всего, своим современникам, римским полицейским – молодым, со щетиной на подбородке, грубым, любящим приструнить щеголей, – с какими он и сам не раз затевал стычки. Изображая Павла молодым, художник подчеркивает колоссальную силу света, поразившего его. Это поистине ослепляющее тщеславие.
И снова Караваджо доказывает, что его жизнь неотделима от его творчества, и использует свой дар физического воздействия на зрителя для свершения своей индивидуальной революции в религиозной живописи. Сужая пространство картины и заставляя нас смотреть на нее под определенным углом, он словно пригибает нас к земле – подобно тому, как он опрокидывал противников в драке, – и мы видим занесенное над нами лошадиное копыто. Избавившись от традиционных ангелов, толпившихся в первом варианте картины, художник оставил только три фигуры: лошадь, конюха и низвергнутого апостола. Как и «Призвание святого Матфея», своим эффектом работа обязана также свету, который окутывает корпус лошади и, отражаясь от торса и лица Павла, падает на наморщенный лоб кроткого конюха и его ногу с выступающими венами, охватывая и его спасительным сиянием. Все атрибуты мирской власти Павла в беспорядке раскиданы вокруг: шлем с плюмажем сброшен на землю, ремни для прикрепления оружия расстегнуты, а глаза, взыскательно преследовавшие христиан, неестественно пожелтели, словно роговица была сначала обожжена светом, а затем, как говорится в Библии, их затянула пленка катаракты. Но Павел лишится зрения только на три дня, и, когда оно вернется к нему, он впервые узрит свет истины.
VIII
К 1601 году в жизни Караваджо наступил счастливый момент, когда он мог считать себя непобедимым. Кардиналы наперебой приглашали его работать у них. В том же году он принял предложение еще одного богатого церковного деятеля с либеральными взглядами, Кириако Маттеи, и, возможно, переехал в его дворец, хотя есть сведения, что в октябре он еще жил у дель Монте. Караваджо любил дух соперничества и мог менять покровителей, когда ему заблагорассудится. Чем взбалмошнее он себя вел, тем больше это, похоже, нравилось его патронам. Для маркиза Винченцо Джустиниани он написал в полный рост Амура, подобного которому никто еще не видел – по крайней мере, на холсте. Эрос обитает в мире богов, а не спускается на землю, чтобы смешаться с людской толпой. А тут изображенный анфас и в полный рост голый уличный мальчишка, со взъерошенными волосами и сочными губами, лукаво улыбается, словно знает, что все эти божественные атрибуты – пристегнутые орлиные крылья и бутафорские стрелы – взяты (как и он сам?) напрокат. Поэтому было бы абсурдным и лицемерным упрямством утверждать, что эта манифестация тезиса Amor Vincit Omnia («Любовь побеждает все») – высокоморальная аллегория, призванная продемонстрировать многообразие культурных интересов заказчика.
Да, на картине присутствуют музыкальные инструменты и ноты, архитекторская рейсшина и компас, а также вооружение Амура; ноты и рейсшина образуют большую латинскую букву «V», которая символизирует имя заказчика (Vincenzo) и слово «виртуоз» (virtuoso). Но в виде той же буквы на фоне смятой простыни раздвинуты ноги Амура с безволосым мешочком и краником посредине. Неудивительно, что Джустиниани закрыл картину зеленой шелковой занавеской – неизвестно, правда, из осмотрительности или из озорного желания огорошить какого-нибудь избранного гостя, неожиданно распахнув перед ним занавеску.
Картина представляет собой суррогат прикосновения, как его трактует Караваджо. Кончик крыла Амура, касающийся его бедра, – это, несомненно, приглашение к визуальным ласкам. Но это не просто мягкая порнография; одновременно с этим художник хочет представить картину как безупречную теологическую аллегорию. Ведь в самой сердцевине христианского учения лежит положение об инкарнации Божьего сына, его появлении среди людей во плоти, и потому желание прикоснуться к этой плоти служит признаком истинной веры.

Амур-победитель. 1598–1599. Холст, масло.
Берлинская картинная галерея
Для чувствительного к прикосновениям Винченцо Джустиниани Караваджо написал также «Неверие святого Фомы». Ничего более шокирующего христианское искусство дотоле не видело. Всякое приукрашивание и все эвфемизмы были отброшены. Нельзя убедиться в существовании чего-либо, не пощупав этого своими руками, и потому Христос своей рукой с рубцами на тыльной стороне ладони вкладывает мозолистый палец Фомы глубоко в миндалевидную рану на своем теле. Грязные ногти и грубая кожа апостола подчеркивают одновременно шокирующую агрессивность и нежную жертвенность этого проникновения в плоть. Аналогия с половым актом напрашивается поневоле. О снисшедшем на Фому откровении и обретении им веры свидетельствуют его вздернутые брови и наморщенный лоб; впечатление усиливается благодаря ошеломленному взгляду склонившихся апостолов, прикованному к ране, как у медиков на консилиуме. Для достижения истинной веры, говорит картина Караваджо, недостаточно смотреть, нужно почувствовать истину нутром; нужно, чтобы волосы вставали дыбом и мурашки бегали по коже.
Караваджо не стремился разоблачить религиозные таинства, просто на его картинах таинства и чудеса происходят здесь и сейчас, в присутствии простых людей, приближенных вплотную к нам и неприукрашенных. Одежда их поношена и порвана, рты разинуты, мускулистые руки и ноги запачканы и растопырены. Одно дело, когда священники произносят благочестивые речи о возврате к простоте Христа и проповедуют мытье немытых в подражание Спасителю, – и совсем другое, когда художник тычет их носом в неприятную реальность уличной нищеты. Караваджо был поистине уникальным, единственным из всех римских художников, в чьей жизни реально соединялись мир дворцов и величественных храмов и мир игорных притонов, публичных домов и винных погребков, где толпился простой люд. Сближение этих двух миров было ценным подарком для церкви, но для художника в этом крылась опасность.
Порой он действительно нарывался на неприятности. Так, церковь Сант-Агостино поручила Караваджо написать «Мадонну ди Лорето», чтобы почтить деревню, в которую дом Девы Марии (вместе с самой Марией и Младенцем) был перенесен чудесным образом по воздуху. Лорето с незапамятных времен была объектом паломничества, куда стекались массы смиренных и доверчивых богомольцев, а Дева Мария изображалась обычно сидящей на крыше десантированного дома. Караваджо вовсе не собирался развеивать этот миф, он просто хотел спустить Мадонну на землю, приблизить ее к реальной жизни верующих и потому перенес место действия к дверям одного из римских домов. Его Мадонна не только приземлилась в Риме, но и унаследовала римские гены. У нее пышная фигура, густые черные волосы, смуглая кожа, тяжелые веки и римский нос – все характерные черты местной красавицы, и притом совершенно определенной красавицы, натурщицы и любовницы художника Лены Антоньетти. Соответствует ей и младенец Иисус: это жизнерадостный пузатый бамбино того самого типа, какой римские матери боготворят до сих пор, хотя и не думают при этом о божественном.

Неверие святого Фомы. 1602–1603. Холст, масло.
Фонд дворца и парка, Сан-Суси, Потсдам
Но возвращение Богородицы с небес на землю – далеко не самая своеобразная черта этой картины. Озабоченный, как всегда, налаживанием связи между зрителями и его произведением, Караваджо изобретает очередное возмутительное новшество. Почему бы, вместо того чтобы вообразить пилигримов перед картиной, не изобразить их просящими милостыню на коленях перед Мадонной и тем самым устранить барьер между миром на полотне и тем, где находимся мы? Зрители-пилигримы будут смотреть на картину снизу (Караваджо всегда предусматривал такой зрительский ракурс) и видеть перед собой таких же нищих братьев и сестер с грубыми, разбитыми на дорогах ногами. Белая нога самой Мадонны, опирающаяся на пальцы в некоем балетном па, делает по контрасту еще более заметными мозолистые и сбитые грязные ступни ее почитателей. Они выписаны так красочно и четко, что можно, кажется, почувствовать их запах. Подобные детали было не принято демонстрировать в искусстве, и тем более в искусстве, посвященном поклонению божеству, однако, по мнению Караваджо, ничто не достойно большего поклонения, чем стертые ступни.
Цензура все-таки пропустила эти ступни, но двум другим парам ног повезло меньше. Первая пара гигантских заскорузлых пяток еще более агрессивно вторгалась в пространство зрителя, чем ноги пилигримов Лорето, – и это был один из самых почетных заказов, какие когда-либо получал Караваджо, – алтарный образ, который должен был завершить посвященный святому Матфею ансамбль в капелле Контарелли. Решено было заменить установленную в капелле неудачную скульптуру еще одним живописным полотном работы Караваджо: на сей раз это должен был быть образ Матфея, которого ангел побуждает написать Евангелие. В результате вся капелла стала бы практически единым произведением Караваджо – на потолок, расписанный д’Арпино, никто уже не обращал бы внимания. Но по странной прихоти (какой у художника не возникало при создании «Призвания») он изобразил Матфея каким-то недоумком, с видом тупой покорности слушающим наставления ангела и бесцеремонно выставившим под нос зрителям неприглядные ноги бродяги. Церковники, отвечавшие за оформление капеллы, были шокированы подобным унижением святого и аннулировали заказ. Уже вторично (после «Святого Петра» для капеллы Черази) работа художника, завоевавшего славу pittore celebre – признанного мастера, была отвергнута. Но он не пал духом и написал устраивавший всех вариант, который и сейчас можно увидеть в капелле.

Мадонна ди Лорето. 1604–1605. Холст, масло.
Капелла Кавалетти, Сант-Агостино, Рим
В это же время в адрес маэстро впервые было брошено обвинение в непристойности. В августе 1603 года кардинал Оттавио Паравичини заявил, что произведения Караваджо – это нечто среднее между «святостью и богохульством», а потому опасны. Но даже если до художника дошел этот неблагоприятный отзыв, он не повлиял на его решимость сделать Священное Писание ближе к простому народу. Поскольку церковь Санта-Мария делла Скала находилась в Трастевере, одном из самых бедных районов Рима, где священники проявляли особую заботу о бедняках, Караваджо имел основания рассчитывать на то, что его написанное без прикрас «Успение Девы Марии» будет принято благосклонно. Замысел художника был вызывающе прост.
Традиционно считалось, что в период между смертью и вознесением на небеса Дева Мария пребывала во сне, или «успении», сохранявшем ее тело, в отличие от тел простых смертных, нетронутым. Как зачатие Спасителя было непорочным, так и смерть Богородицы была бесплотна. Но понятие бесплотности было чуждо Караваджо: он писал плоть. А в данном случае, как поговаривали, плоть в буквальном смысле мертвую – выловленную из Тибра утонувшую проститутку одного из борделей римского района Ортаччо. Поэтому тело Марии под красным платьем выглядит безобразно распухшим, кожа имеет зеленоватый оттенок, а из-под платья торчит еще одна пара неприлично босых и, естественно, не слишком чистых ног.
Но у художника не было намерения шокировать публику, напротив, он искренне хотел выразить чувство глубокой скорби. Именно то, что Мария была однозначно мертва, позволило ему передать истинный трагизм как в позе рыдающей Марии Магдалины, так и в выражении лиц апостолов, чудесным образом собравшихся вместе около гроба после разгона всей их компании. Если бы Богородица пребывала в священной дреме в ожидании вознесения, то их скорбь выглядела бы чрезмерной. Но перед лицом смерти, исчезновения с лица земли, чувство непоправимой утраты становится вполне понятным. Однако священнослужители церкви Санта-Мария в Трастевере придерживались другой точки зрения, и неподобающий вид Богородицы их ужаснул. Картина была отвергнута, а пять лет спустя ее купил для мантуанского герцога Питер Пауль Рубенс, который был так покорен силой выраженных в ней чувств и так хотел реабилитировать Караваджо, что перед отправкой полотна в Мантую в течение недели демонстрировал свое приобретение публике.
IX
Итак, Караваджо отвергли уже в третий раз. Еще недавно он отказывался от предлагавшихся ему заказов, теперь же он не мог упускать их. Но с уменьшением их числа он все чаще участвовал в драках и попадал в тюрьму Тор ди Нона. Когда он не сидел в камере, то жил в убогих, скудно обставленных комнатах в Кампо-Марцио в компании пса, которого он назвал Вороном и научил ходить на задних лапах для развлечения гостей, а все его имущество составляли рапиры и кинжалы, гитара и скрипка. В своем модном, но порванном и грязном костюме из черного бархата Караваджо выглядел элегантно и угрожающе, разгуливая по неприглядным улочкам около Пьяцца Навона в компании крутых парней, вроде Онорио Лонги. Караваджо был прекрасно знаком папской полиции благодаря его вспыльчивости и склонности размахивать холодным оружием и задирать прохожих, особенно если это были художники, которых он считал бездарными. А таковыми, по его мнению, являлись почти все, кроме него самого, его приятелей и горстки исключительных личностей, вроде Аннибале Карраччи, – последнего Караваджо искренне уважал. «Мы поджарим яйца такому ничтожеству, как ты!» – было одной из его любимых угроз, и те, кому он ее адресовал, спешили убраться восвояси, убежденные, что этот cervello straniere – свихнувшийся вполне способен привести угрозу в исполнение.

Успение Девы Марии. Ок. 1605–1606. Холст, масло.
Лувр, Париж
Как мог pittore celebre вести себя таким диким образом? Но Караваджо не умел иначе. В нем сосуществовали животная агрессия, желание физически оскорбить другого и совершить сексуальное или иное насилие, склонность к антиобщественным поступкам; пристрастие к драме, из-за которого написанные им сцены, выхваченные из темноты лучом яркого света, буквально набрасываются на зрителя; самоуверенное чувство собственной неуязвимости, сочетавшееся каким-то образом с непреодолимым ощущением своей причастности ко всему вокруг, – и благодаря всему этому он был самым необходимым, но и самым неуправляемым художником, с какими Риму и его церкви когда-либо приходилось иметь дело. Они нуждались в нем по той же причине, по которой он в конце концов попал в опалу и погиб.
Сам Караваджо был не способен направить свою славу в позитивное и надежное русло. Ему мало было того, что он добился успеха (а так оно и было, несмотря на отвергнутые работы): он должен был унизить бездарных соперников, в особенности если они имели наглость получить заказ, в котором ему было отказано. Худшим из них, с точки зрения Караваджо, был, по-видимому, Джованни Бальоне, которого наградили почетной золотой цепью и наняли писать воскресение Христа для Иль Джезу, новой иезуитской церкви – архитектурной сенсации. Сам Бальоне настолько уважал Караваджо, что написал впоследствии его биографию – на удивление беспристрастную, если учесть их взаимоотношения, – но его уважение было безответным. В конце лета 1603 года последователю Бальоне Томмазо Салини по прозвищу Мао вручили листок со стихами, которые касались его самого и его учителя и, как ему сообщили, ходили по рукам. Стихи эти вряд ли можно отнести к образцам высокой поэзии, но, учитывая их назначение, этого и не требовалось.
Джован Багалиа, ты просто недоумок,
Мазня твои картины —
Ручаюсь,
Ты не заработаешь на них
И медного гроша,
Чтобы купить материю и сшить штаны.
Как и ныне, разгуливать ты будешь
С голым задом…
Но может, будет прок с твоей мазни,
Ведь она
Пригодна, чтобы подтереть твой зад
Или супруге Мао в дырку затолкать,
Чтоб он не мог залезть туда своим ослиным членом.
Ах, как же жаль, что к хору громкому похвал
Свой голос присоединить я не могу.
Ты недостоин цепи, что таскаешь,
Позор для живописи ты ходячий…
И дальше в таком же духе. Мао показал стихи Бальоне, и в сентябре тот подал иск, обвиняющий в написании пасквиля его наиболее вероятных авторов – Караваджо и его друга и собрата по профессии Орацио Джентилески. На время судебного разбирательства их обоих заключили под стражу и посадили в Тор ди Нона, которая вскоре стала для Караваджо вторым домом. Улики против него были косвенными – никто не видел, чтобы он писал эти стихи или диктовал их кому-либо из друзей, но это никого не могло ввести в заблуждение. Он не признавал за собой вины и заявил, что никогда не видел и не слышал никаких стихов или прозаических отрывков с нападками на Бальоне ни на современном итальянском языке, ни на латыни, однако не скрывал, что разделяет высказанное в стихах мнение о Бальоне, которого ни в грош не ставят все, кого он знает. Его спросили, кого из художников он ценит, и Караваджо назвал Аннибале Карраччи, д’Арпино и, как ни странно, Федерико Цуккаро, бывшего президента Академии святого Луки и воплощение пустого украшательства.
Следствие тянулось несколько месяцев и никак не могло прийти к заключению. В ожидании судебного решения Караваджо и Джентилески находились сначала в тюрьме, затем под домашним арестом. Были представлены свидетельства того, что они якобы нанимали мальчиков для распространения стихов, но и это не дало определенных результатов.
Как бы то ни было, угроза длительного тюремного заключения или, хуже того, ссылки на галеры нисколько не обуздала нрав Караваджо. В течение последующих полутора лет из-за своей вспыльчивости он неоднократно попадал в Тор ди Нона. В апреле 1604 года в мавританской таверне официант по имени Пьетро да Фузачча подал Караваджо блюдо с восьмью артишоками, четыре из которых были поджарены на сливочном масле, а остальные на растительном. «Какие где?» – спросил Караваджо. «Не имею понятия, – ответил Фузачча. – Понюхайте их». Возможно, художника вывел из себя тон, каким это было сказано. «Ах ты, becco fottuto – долбаный рогоносец! – воскликнул Караваджо. – Ты думаешь, что разговариваешь с каким-нибудь голодранцем?» Вопрос был риторический. Караваджо швырнул блюдо Фузачче в лицо и, по словам официанта, стал вытаскивать из ножен свою рапиру. Ощущение сжатой в кулаке рукояти пробудило в нем воинственный дух, и полицейские дважды арестовывали его за ношение оружия. Когда он в первый раз объяснил, что имеет на это право как лицо, находящееся под покровительством кардинала, полицейский отпустил художника, пожелав ему на прощание спокойной ночи. Но это оказалось опрометчивым жестом, потому что в ответ Караваджо бросил: «Ho in culo» («Успокой свою задницу») – и в результате вернулся в тюрьму Тор ди Нона. В июле 1605 года его арестовали снова – на сей раз за то, что он ворвался в дом к двум женщинам, Лауре и Изабелле, проломив окно.
В конце того же месяца нотариус Мариано Паскуалоне, стоя на Пьяцца Навона, получил сзади удар ножом или, согласно другим свидетелям, шпагой. Он потерял много крови, но выжил. Нападавший, закутанный в черный плащ, растворился в темноте. Однако никто не сомневался, что это был Караваджо. Паскуалоне имел неосторожность выступить в защиту добродетели Лены Антоньетти, натурщицы и подруги Караваджо. Говорили, что она «с Пьяцца Навона», а потому беспокоиться о ее добродетели было, скорее всего, поздно. Но Паскуалоне, влюбленный в девушку, отправился к ее матери, запугал ее рассказами о длинных сеансах, во время которых Лена позировала художнику с дурной славой, и обещал сделать из нее честную женщину. Мать отправилась к Караваджо, и можно с полной уверенностью предположить, что тот вышел из себя. Он встретился с Паскуалоне на Виа дель Корсо, где между ними состоялся горячий обмен мнениями. Ярость Караваджо возросла из-за того, что нотариус не носил шпаги и невозможно было вызвать его на дуэль. Не видя другого выхода, он напал на Паскуалоне на Пьяцца Навона и затем бежал аж до самой Генуи, где его подрядили расписывать виллы аристократов. Что бы Караваджо ни вытворял, какие бы возмутительные преступления ни совершал, всегда находились люди, охотно закрывавшие на это глаза ради того, чтобы заполучить какую-нибудь работу кисти Караваджо. Так было и на этот раз. Вернувшись из Генуи, он обнаружил, что Пруденция Бруна – владелица дома, где он жил, заперла его комнаты и забрала все его вещи, с тем чтобы продать их в счет погашения шестимесячного долга за жилье. В ответ на это Караваджо выломал окно и пригрозил свернуть ей шею.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?