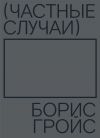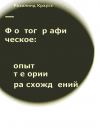Текст книги "Сила искусства"

Автор книги: Саймон Шама
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Больной Вакх. Ок. 1593–1594. Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим
Тот факт, что Караваджо не делал предварительных набросков, это не только признак феноменальной координации между глазом и рукой, но и свидетельство методологического бунта. Disegno[5]5
Рисование; эскиз, набросок; план, проект (ит.).
[Закрыть], означающее как процесс рисования, так и общую концепцию работы художника, предписывалось всеми руководствами по теории и практике живописи как единственно правильный способ создания произведений изобразительного искусства. Рисование было не просто техникой, а идеологическим принципом. Правда, можно вспомнить венецианцев, и в первую очередь Тициана, которые говорили, что цвет не вспомогательный элемент, а одна из композиционных составляющих картины. А Караваджо по пути из Милана в Рим в 1592 году вполне мог заехать в Венецию. Наиболее очевидные его предшественники в создании картин с такой интенсивностью освещения и яркостью красок – Джорджоне и Лоренцо Лотто. Но Караваджо, в отличие от них, жил и творил не в Венеции, а в Риме, где рисунок был поставлен во главу угла. Если бы в последнем десятилетии XVI века вы прошлись по залам с собраниями классических статуй, принадлежащими папе и кардиналам, или по развалинам Форума, то встретили бы немало ретивых молодых художников, увлеченно зарисовывающих «Геркулеса Фарнезского», «Лаокоона» или «Аполлона Бельведерского». В Академии святого Луки ни у кого не возникало сомнений, что для процветания великого монументального искусства начинающие художники должны неукоснительно практиковаться в умении делать подготовительные наброски, без чего невозможно создать самостоятельную композицию.
Караваджо неукоснительно игнорировал эту практику. Он не оставил нам ни одного наброска или, тем более, законченного рисунка, копирующего античные образцы, – если вообще когда-либо делал их. Он усаживал натурщика, разглядывал его и брался за кисть. Уверенность, с какой он работал, поразительна, тем более что его манера была далека от той, в какой писали венецианцы – скажем, Веронезе, чьи композиции были выстроены цветовыми пятнами. Караваджо создавал на полотне осязаемые скульптурные фигуры, словно всю жизнь только и делал, что перерисовывал классические бюсты. Но ему было достаточно его точного глаза и твердой руки. Если ему требовалось наметить контуры будущей композиции, он либо использовал для этого заостренный конец кисти, либо делал неглубокие надрезы ножом на поверхности холста (на дереве он никогда не писал). Нож и кисть сотрудничали друг с другом в студии Караваджо очень успешно. Эти своеобразные методы плюс композиционный дар позволили ему преобразовать картины «низшего» жанра в нечто монументальное и драматическое. Торговец картинами Константино Спата (постоянный собутыльник Караваджо) выставлял его произведения в своей лавке на Пьяцца Сан-Луиджи деи Франчези. Именно там «Шулеры» попались на глаза человеку, который круто изменил жизнь Караваджо.

Шулеры. 1596. Холст, масло. Музей Кимбелла, Форт-Уэрт, Техас
IV
Франческо Мария дель Монте был не самым богатым кардиналом в Риме. Но церковной мышью его тоже нельзя было назвать, поскольку он имел в своем подчинении двести с лишним слуг и служителей. Его род, возможно, был чуть менее славен, чем знатнейшие династии Фарнезе, Орсини, Альдобрандини и Колонна, которые владели загородными поместьями и городскими дворцами, делили между собой власть в Риме и по очереди выдвигали из своих рядов кандидатов на папский престол. Но у дель Монте было нечто, позволившее ему совершить эффектный скачок к вершинам власти и богатства, – связи с великими флорентийскими герцогами Медичи. Будучи духовным лицом и знатоком искусства (весьма выигрышная комбинация), он освоил куртуазную культуру в Урбино, руководствуясь наставлениями Бальдассаре Кастильоне, – то есть там, где она сформировалась, и с помощью человека, сформировавшего ее. В книге Кастильоне «О придворном» (1528) был обрисован идеальный тип человека с безупречными манерами, щедрого, смелого и широко образованного, знающего толк в науках и искусстве. Дель Монте стремился соответствовать всем этим критериям и, познакомившись с кардиналом Фердинандо де Медичи и начав работать у него, получил возможность проявить свои способности и достоинства. В 1588 году Фердинандо унаследовал титул великого герцога и в благодарность за верную службу посадил дель Монте на освободившееся место кардинала. Сначала дель Монте получил кардинальскую шапку, а уже потом был посвящен в духовный сан. При этом он не стал нескромно щеголять в пурпурном облачении, ибо вслед за своим покровителем Медичи сблизился с орденом ораторианцев, основанным Филиппом Нери, который видел свою миссию в возвращении к простоте первых христианских пастырей, просивших подаяние на улицах. Для Караваджо это имело большое значение.
Однако уроки Урбино не прошли даром. Дель Монте с жадностью впитывал культуру – естественные науки, математику, музыку, историю, поэзию, живопись. Одним из путей, по которым римские кардиналы достигали вершин в неофициальной аристократической иерархии, было развитие художественного вкуса и меценатство. Двумя наиболее сильными ветвями религиозной власти в Священном городе были в то время суровая и высокомерная испанская и более либеральная и приближенная к земной жизни французская. Фарнезе ориентировались на Испанию и смертельно враждовали с профранцузскими Медичи. У них была своя команда художников, к которой примкнули блистательные братья Карраччи. Дель Монте поставил себе задачу найти другой многообещающий талант. Для этого оказалось достаточным перейти улицу, заглянуть в лавку Спаты и увидеть там «Шулеров». Он, по всей вероятности, сразу понял, что напал на золотую жилу, и предложил Караваджо кров и стол: студию на верхнем этаже своего палаццо Мадама, а главное – покровительство, и не только собственное, но и целого круга лиц, занимавших высокое положение в обществе или в церкви, бывавших в палаццо дель Монте на обедах и концертах и проводивших время в беседах на возвышенные темы.

Музыканты. Ок. 1595–1596. Холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Караваджо переехал в палаццо Мадама в 1595 году и прожил там шесть лет. Многие из картин, написанных им в эти годы, передают изысканную культурную атмосферу, царившую во дворце кардинала, – лениво-поэтическую и двусмысленно-чувственную, сплошные флейты и фрукты. Дель Монте гордился своим музыкальным вкусом. Он закупал дорогие инструменты, заказывал музыкальные пьесы домашним композиторам и собирал у себя лучших певцов, среди которых особенно ценились кастраты, исполнявшие перегруженные эмоциями мадригалы в духе Монтеверди. Излюбленной темой была, разумеется, любовь – любовь неразделенная, безумная, мучительная, экстатическая. «Ты знаешь, что я люблю тебя, ты знаешь, что я обожаю тебя. Но ты не знаешь, что я умираю из-за тебя», – поет друг Караваджо Марио Миннити, наряженный на античный манер в тонкую муслиновую, полураспахнутую на груди тунику и перебирающий пальцами струны лютни. На столе перед ним стоит ваза с поздними весенними и летними цветами, рядом лежат ноты с мадригалом и скрипка.
Таких кардиналов, как дель Монте, наверное, больше не выпускают. Атмосфера на картине «Музыканты» (с. 38) насыщена эротикой и приятными предчувствиями. Четверо слегка одетых юношей втиснуты в такое тесное пространство, что это вызывает клаустрофобию. Некий критик заметил, как бы между прочим, что, по-видимому, первоначально на холсте была написана другая картина, а Караваджо, не очень уверенно владевший мастерством композиции, нерасчетливо разместил на нем слишком много фигур. Однако художник наверняка отдавал себе отчет в том, что делает. Если бы он хотел дать музыкантам больше свободного пространства, он мог бы всего лишь сделать их не такими крупными. А он как раз добивался ощущения тесноты. Композиционный прием картины – контакт. Руки, ноги, бедра музыкантов чем-то заняты: настраивают инструменты, щиплют виноград; сам Караваджо на заднем плане тянется за своим рожком. Тот факт, что у находящегося слева юноши растет пара крыльев, как у купидона, – скорее всего, дань аллегорической традиции, жест, показывающий, что художник пусть и не очень настойчиво, но пытается оправдаться перед посещающей палаццо публикой, которая, возможно, будет недоумевать. Ведь это как-никак резиденция кардинала.
Юноша-купидон скромно потупил глаза; тот, что на переднем плане, изучает ноты, сидя практически у нас на коленях и выставив на обозрение свою бледную голую спину. Хотя лютнист Миннити пока лишь репетирует какую-то мелодию, по выражению его лица и по прикрытым тяжелыми веками покрасневшим глазам видно, что она уже успела пронять его до слез. Губы его полураскрыты, но вряд ли он поет, так как занят настройкой лютни; возможно, поет сам Караваджо, чьи черные глаза и рот с полными губами широко раскрыты. Эти двое смотрят прямо на нас, что можно назвать откровенным заигрыванием, одним из экспериментов с заманиванием публики, начавшихся у Караваджо с «Больного Вакха». Любимый прием художника – игра с раздвинутыми рамками картины, в которой участвуют он сам, фигуры на холсте и мы, зрители. В этой игре для Караваджо заключалась суть искусства.
V
Никто в Риме не привлекал к себе столько внимания, как Караваджо, – и не случайно: никто другой не понимал так хорошо притягательную силу взгляда и не интересовался ею так сильно. Караваджо, восходящая звезда искусства, крутой парень и позер, очень часто пристально рассматривал самого себя. Когда в 1645 году разбирали немногие оставшиеся после него пожитки, то среди них, помимо разнообразного оружия и гитары, нашли большое зеркало. Изучать свое отражение в зеркале было необходимо, по сути, всякому художнику для того, чтобы освоить внешнее проявление страстей, а затем передать их на полотне. Поскольку на рубеже XVI и XVII веков в музыке, поэзии и изобразительном искусстве возник обостренный интерес к изображению сильных чувств – ужаса, жалости, обожания, потрясения, страха, печали, то для художников, желавших поэкспериментировать в этом направлении, было полезно отрепетировать на самих себе выражение лица и жестикуляцию. Этим отчасти объясняется и то, что Караваджо интересовала реакция на укус ящерицы.
Очевидно, зеркала помогали Караваджо сосредоточить внимание на изображаемых им образах, но еще более очевидно, что они помогали ему собраться с мыслями. В его творчестве они встречаются, наряду с автопортретами, снова и снова. Иногда они символизируют само искусство, иногда служат инструментом самопознания. Именно по этой причине он изображает самую знаменитую, самую желанную и опасную римскую проститутку Филлиду Меландрони в образе Марии Магдалины с зеркалом – падшей женщины на пороге обращения в праведницу. Она погружена в задумчивость, осмысляя увиденное в темном стекле выпуклого зеркала предвестие грядущего спасения. Однако искусство не только способствует исправлению пороков, но и удовлетворяет тщеславие. Таким Караваджо изображает самовлюбленного Нарцисса, с обожанием глядящего на свое отражение в ручье. Стремление создать отраженный образ, удвоить жизнь лежит в самой основе искусства, но трагичная судьба Нарцисса предупреждает нас о том, что червь самовлюбленности подрывает эту основу.
И потому неудивительно, что в 1597 году, когда дель Монте заказал Караваджо картину в подарок своему давнему покровителю герцогу Фердинандо де Медичи, художник сделал из этого произведения манифест силы искусства, заставляющий зрителя чуть ли не буквально окаменеть. Отрубленная голова горгоны Медузы с прической в виде шевелящихся змей, этой женщины-чудовища, чей взгляд превращал людей в камень, была популярным мотивом при европейских дворах. Общеизвестен миф о Персее, которого Афина снабдила зеркальным щитом, заставившим горгону застыть на миг в ужасе перед собственным взглядом и позволившим Персею в этот миг отрубить ей голову. Ни один уважающий себя воин королевских кровей не мог обойтись без изображения головы Медузы на своем щите, шлеме или нагруднике – оно предупреждало врагов, что он тоже способен устрашить их до смерти. Продолжение этой легенды стало мифом о происхождении искусства. Кровь Медузы запачкала копыта Пегаса, крылатого коня Персея, он ударил ими о землю горы Геликон, и из земли забил ключ вдохновения. Из крови чудовища явился источник искусства.
Если учесть, что самое известное иллюзионистское изображение головы Медузы на щите было написано Леонардо да Винчи и принадлежало герцогам Медичи, пока не пропало где-то в конце 1580-х годов, становится ясно, что дель Монте заказал эту работу Караваджо, чтобы преподнести герцогу замену пропавшего шедевра. Двадцатишестилетний художник был, понятно, не в силах преодолеть искушение помериться силами с Леонардо и даже, может быть, превзойти его и ответил на этот вызов ошеломляюще эффектно. Его «Голова Медузы» стала не просто одним из примеров виртуозной иллюзионистской живописи, но сложным и блистательным утверждением силы художественного образа.
Взгляд действительно способен убить, убеждает нас картина. И мы верим: такому взгляду это точно под силу. Дар драматизации, присущий Караваджо, его неподражаемая способность вызывать у зрителя ужас и потрясение заставляют и нас ощутить дыхание смерти, ибо мы видим то, что видела Медуза за миг до гибели: ее собственное отражение как предупреждение о скором конце. Нам, однако, удается унять дрожь и выжить, и мы восхищаемся мастерством оптической иллюзии. Дело в том, что Караваджо написал картину на круглом выпуклом щите из тополя, но с помощью глубокой тени добился противоположного оптического эффекта: у зрителя создается впечатление, что ужасная голова Медузы высовывается из выдолбленной в дереве чаши. Лицо чудовища настолько выпукло и объемно, что, кажется, вот-вот лопнет; брови недоуменно нахмурены, так как Медуза не верит собственным глазам, которые вылезают из орбит (мы чувствуем, что и с нашими происходит то же самое, когда глядим на картину); щеки раздулись; рот с острыми, как бритва, зубами разинут (подходящий сюжет для мужских ночных кошмаров); язык высунут; на губах навечно застыл безмолвный крик.
Картина отталкивающе мертва и в то же время жива. Медуза изображена за миг до смерти, и мертвенная бледность еще не коснулась ее кожи. И хотя она каменеет под собственным взглядом, адский «перманент» продолжает со змеиной жизнестойкостью упрямо шевелиться на голове, уже расстающейся с жизнью. Чувствуется, что художник смаковал все эти детали. Блестящая чешуйчатая кожа змей ярко освещена, они извиваются, поворачивают головы туда и сюда, то высовывая раздвоенные языки, то снова пряча их в темной пасти.
Довольно странно выглядит поток крови, свисающей с аккуратно перерезанной шеи, наподобие воротника или сталактита, – тем более странно для художника, который исключительно умело передавал особенности любых материалов, жидких и твердых. Эта деталь кажется на первый взгляд неправдоподобной или вычурно стилизованной. Если учесть привычки и образ жизни Караваджо, то можно смело утверждать, что он наверняка присутствовал на некоторых колоритных казнях, совершавшихся в Риме; возможно, он был свидетелем и самой известной из них – обезглавливания женщин рода Ченчи, замышлявших убийство отца Беатриче Ченчи, виновного в кровосмешении (ее брату голову не рубили, а вырвали внутренности). Короче, Караваджо знал толк в кровопролитии, и бахрома из свернувшейся крови изображена такой не случайно. Кардиналу дель Монте, алхимику-любителю и непревзойденному всезнайке, наверняка было известно поверье, особенно ценимое врачами и гласившее, что кровь горгон служит источником кораллов, которые применяли в качестве сильнодействующего лечебного средства, а также носили на шее как талисман, оберегающий от всякого зла и несчастья. Лучшей темы для Караваджо не придумаешь: жизнь, порожденная смертью.
Театр жестокости в Риме процветал: тут были и обезглавливания, и сожжение еретиков, вроде Джордано Бруно, и еженедельное выставление на всеобщее обозрение повешенных преступников. Атмосфера насилия не могла не повлиять на Караваджо. Он входил в ближайшее окружение кардинала и потому имел право носить шпагу, точнее, ходить в сопровождении мальчика-оруженосца. Тем не менее полиция не раз пыталась задержать его за ношение оружия без соответствующей лицензии, в ответ на что он высокомерно отстаивал свои исключительные права.

Голова Медузы. Ок. 1598–1599. Холст поверх деревянного щита.
Галерея Уффици, Флоренция
Караваджо вел двойную жизнь, и ее половинки не всегда были четко отделены друг от друга. С одной стороны, он был известным и талантливым придворным художником кардинала, занимавшим привилегированное положение. Он расписывал потолок загородной виллы дель Монте, пользовался популярностью у многих знатных римских семейств. С другой стороны, он был непредсказуем и эксцентричен, повсюду таскал с собой шпагу, ловко обращался с кинжалом и выходил из себя по малейшему поводу. Однажды его брат Джованни Баттиста пришел в палаццо Мадама, чтобы повидаться с Микеланджело (надеясь, по наивности, уговорить его жениться и завести детей), но художник велел передать ему, что у него вообще нет никакого брата. Огорошенный и, должно быть, обиженный этим неласковым приемом, Джованни Баттиста ушел ни с чем, так и не повидавшись с братом. Караваджо водил компанию с проститутками и куртизанками, вроде Филлиды Меландрони и ее подруги из Сиены Анны Бьянкини, которых нередко привлекали к судебной ответственности за нападение с применением насилия. Хотя существовал церковный запрет на изображение женщин, пользовавшихся дурной репутацией, особенно в картинах на библейские сюжеты, Караваджо постоянно и с большим удовольствием приглашал их позировать ему. Ведь его искусство черпало силу в его решимости дать жизнь тому, что прежде считалось неинтересным и стереотипным. Шокированные критики сетовали, что его «Кающаяся Мария Магдалина» – всего лишь какая-то уличная девка, высушивающая волосы. Но именно этого эффекта и добивался художник; кроме того, знающие люди должны были помнить, что переродившаяся Магдалина вытирала своими волосами ноги изможденного Христа в доме Симона фарисея. Избрав Филлиду, юную куртизанку, пользовавшуюся в городе самой скандальной славой, в качестве модели для образа Марии Магдалины и провокационно поместив цветок апельсина – символ перерождения покаявшейся грешницы – на ее пышной декольтированной груди, Караваджо хотел не просто досадить святошам. Ощутимость приземленного характера изображения женщины позволяла ему усилить драматизм ее перерождения. На столе ненужная больше банка с косметическим средством и гребень, а в темном выпуклом зеркале видно лишь небольшое квадратное пятно яркого отраженного света – света, который делает искусство Караваджо возможным и дарит грешнице надежду на спасение.
Недовольные церковники еще могли как-то смириться с тем, что куртизанка позирует в роли Марии Магдалины, но было совсем уж возмутительно, когда ее же Караваджо изобразил в образе святой Екатерины Александрийской рядом с зубчатым колесом, орудием ее мучений, и какой-то шпагой – по-видимому, той самой, которой он орудовал на дуэлях. Картина представляет нам нечто прямо противоположное традиционному образу хрупкой и непорочной ангелоподобной святой. Эта Екатерина излучает силу и даже опасность, глаза ее сверкают, как два клинка. Если на Караваджо слишком наседали, обвиняя его в нарушении приличий, он оборачивал обвинения против самих критиков, говоря, что они по своей тупости понимают все превратно. Почему шея святой так неподобающе обнажена? – Ну, понятно же! Для того, чтобы напомнить, что она была обезглавлена. – А почему она одета в роскошное, украшенное вышивкой платье из бархата и камчатной ткани, которое больше подходит самой Филлиде, когда она принимает своего знатного флорентийского покровителя и любовника Джулио Строцци? – Вы забываете, что Екатерина была принцессой, наделенной спокойным и решительным характером, а не нервной особой, закатывающей глаза от ужаса. Необходимо было подчеркнуть, что она выдающаяся личность, с которой надо считаться.
Ворчание по поводу вольностей, которые позволял себе Караваджо, раздавалось часто, но дель Монте не обращал на это внимания. Он понимал, что его лучший художник создает абсолютно новый вид христианского искусства и в его произведениях драматизм ощущается сильнее, а эмоции выражены более непосредственно, чем у кого-либо другого после Микеланджело. Поэтому кардинал знал, к кому следует обратиться, когда возникла необходимость украсить живописью две стены в капелле Контарелли церкви Сан-Луиджи деи Франчези, находившейся под его опекой и расположенной напротив палаццо Мадама.
VI
Это был знаменательный момент и для Караваджо, и для Рима. Они идеально подходили друг к другу. Быстро приближался столь важный для папы Климента VIII Святой 1600-й год, год ревностного служения, паломничества и милосердия, год, когда даже те грешники, которым обычно отказывают в спасении души, – то есть такие, как Караваджо, – могут получить полное отпущение грехов. Сам Священный город тоже нуждался в передышке. Караваджо жил во дворце, но он всеми порами своей кожи знал и другой Рим – город сотни тысяч бедняков, пребывающих в грязи, терпящих бедствия, отягощаемых налогами, необходимыми для ведения жалких локальных папских войн, никогда не наедающихся досыта и молящихся о хорошем урожае, чтобы хлеб и macaroni стали для них доступны. Когда в 1598 году Тибр вышел из берегов и разрушил мост Понте Санта-Мария, прозванный вследствие этого Понте Ротто (Сломанный мост), казалось, что римлян спасет только чудо.
И чудеса последовали. Капелла, стены которой Караваджо предстояло украсить, находилась во французской церкви Святого Людовика. Сюжетом было избрано житие святого Матфея, потому что французский кардинал Маттье Куантрель выразил в своем завещании пожелание почтить память своего небесного покровителя. Он оставил подробнейшие инструкции относительно того, какие именно сцены следует изобразить – призвание и мученичество Матфея, – сколько фигур должно быть на холсте, каково должно быть оформление и все прочее. Своды церкви были расписаны в 1593 году Джузеппе Чезари, который вскоре получил прозвище Кавалер д’Арпино – возможно, не без участия юного Караваджо. Кавалер д’Арпино считался лучшим римским художником, пользовался большим спросом и не успел завершить работу в капелле. Ответственность за ее завершение взяло на себя духовенство, возглавлявшее собор Святого Петра. Оно поручило это дело дель Монте, тот предложил кандидатуру Караваджо.

Святая Екатерина Александрийская. 1598. Холст, масло.
Собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид
Поставленная перед художником задача, по всей вероятности, одновременно вдохновляла его и пугала. Это была самая крупная работа из всех, какие он когда-либо выполнял, – и по своим физическим размерам, и по значимости. До сих пор всегда, даже выполняя «спецзаказ» на «Медузу», Караваджо оставался хозяином положения; занимался он исключительно станковой живописью и писал с натуры в своей студии при ярком освещении; он сам определял, какие фигуры будет изображать и как они будут расположены на полотне. Теперь же он должен был учитывать указания Куантреля и даже, возможно, потолочную живопись д’Арпино с толпой фигур, ярким небом, величественной архитектурой и глубоким пространством. Он понимал, что данный заказ – это не привычные для него бытовые сцены, натюрморты или уличные девки в образе святых: он мог либо сделать ему имя, либо навсегда похоронить как художника.
Караваджо приступил к работе над «Мученичеством святого Матфея», который был убит по приказу эфиопского царя у подножия алтаря. Как предписывалось, Караваджо пытался изобразить глубокое пространство церкви, в которой было совершено убийство, толпу свидетелей, вознесение мученика на небеса, и – наверное, впервые в его карьере живописца – работа застопорилась. Предписания сковывали его. Тогда он отказался от глубокого пространства и тем более от большой толпы действующих лиц. Вся драматическая сила его картин основывалась на близости персонажей к зрителю, а не на их удаленности, на компактности, а не на величественных пространствах. Он добивался того, чтобы зритель отождествлял себя с происходящим перед ним. Но как можно отождествить себя с толпой?
Чем больше он старался подстроиться под ограничивавшие его указания, тем сильнее замедлялся процесс. В конце концов на время он оставил в покое «Мученичество» и обратился к левой стене, где работа над «Призванием святого Матфея» предоставляла ему бо́льшую свободу в трактовке сюжета – в значительной мере потому, что строки Евангелия, описывающие этот переломный момент в жизни святого, были так лаконичны: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним»[6]6
Мф. 9: 9.
[Закрыть]. Идея отрывка была понятна Караваджо, который не без причин размышлял о возможности искупления, предоставляемой даже самому закоренелому грешнику. Тут, в отличие от эпизода с мученичеством, вдохновение пришло к нему быстро и легко, тут он мог писать с натуры то, что знал: сцену из повседневной римской жизни, привычную и для него, и для всех потенциальных зрителей.
Он взял стол и одного из мальчиков, фигурировавших в «Шулерах», и перенес их в подвал с высоким потолком, грязными стенами и окном, закрытым промасленной бумагой, блеснув мастерством в изображении ее надорванного угла. Для любого зашедшего в капеллу римлянина все это было легко узнаваемо: одетые с дешевым франтовством люди, стол, звяканье пересчитываемых монет, проверка счетов, суровые мужчины и тихие мальчики – знакомая обстановка. Неподражаемая способность Караваджо к алогичному видению развернулась вовсю. А если уже нарушено одно правило, то почему бы не нарушить и самое главное? Вместо композиции, в которой все действующие лица внимали бы разговору Христа со сборщиком налогов, художник представляет нам эпизод, на первый взгляд абсолютно несущественный. Присутствующие отнюдь не ошеломлены приходом Иисуса со святым Петром, некоторые даже не замечают их. Один из них склонился над столом и кучей монет, его пожилому соседу в очках, символизирующих его близорукость не только в прямом, но и в переносном смысле, даже лень поднять голову. Пришла парочка бородатых клиентов? Очень хорошо, пусть ими кто-нибудь займется, а нам некогда.

Призвание святого Матфея. Ок. 1598–1601. Холст, масло.
Капелла Контарелли, Сан-Луиджи деи Франчези, Рим
Караваджо почти до предела низводит пафос изображенной сцены. Вместо того чтобы поместить Христа в центр полотна, он частично загораживает его фигурой спутника – пусть зритель приложит усилия, чтобы найти Иисуса. С теологической точки зрения это имело глубокий смысл, особенно в священный 1600-й год: как и в организационной структуре папства, между Христом и зрителем располагался святой Петр. К тому же это был точно рассчитанный психологический прием: пряча фигуру Христа, художник фокусирует внимание на самой важной детали – его протянутой правой руке с указующим перстом. Божественное и земное объединены здесь идеально, а ведь в этом и заключается суть произведения. Жест Христа заимствован с одной из самых известных римских фресок, изображающей момент божественного творения, когда Бог Отец протягивает палец Адаму на потолке Сикстинской капеллы, расписанном Микеланджело. Луч света на картине Караваджо исходит не столько из грязного окна, сколько из этой протянутой руки Иисуса, это свет Евангелия, падающий на лицо розовощекого мальчика, которому, в общем-то, не место среди этих отбросов общества. Он чуть отпрянул от света и инстинктивно ищет защиты у Матфея, доверчиво положив руку ему на плечо. Лицо самого Матфея также освещено, щеки его слегка покраснели оттого, что его внезапно выставили на всеобщее обозрение; Матфей отвечает на призыв Иисуса жестом, который был знаком каждому римлянину и каждому пилигриму и означал: «Ты обращаешься ко мне?» Правда, некоторые исследователи полагают, что он указывает на фигуру, сгорбившуюся справа от него, и что жест должен интерпретироваться: «Ты имеешь в виду его?» – но мне представляется несомненным, что именно бородачу суждено стать апостолом Матфеем: богатство его костюма, любимый Караваджо черный бархат делают его дальнейший переход к смиренности более выразительным.
И еще один момент в создании картины примечателен: впервые Караваджо не стремится к прямому обмену взглядами между его персонажами и зрителем – жест Матфея был бы при этом слишком демонстративным, чуть ли не заискивающим. Мы наблюдаем за этой сценой как свидетели, допущенные в виде особого исключения и спрятанные в темном углу помещения. Тот факт, что фигуры изображены почти в натуральную величину, создает впечатление, что все это происходит у нас на глазах, и обостряет наше восприятие.

Мученичество святого Матфея. 1599–1600. Холст, масло.
Капелла Контарелли, Сан-Луиджи деи Франчези, Рим

Фрагмент с автопортретом Караваджо
Понимая, что «Призвание» удалось ему, Караваджо чувствует себя более уверенно и возвращается к «Мученичеству», уже меньше скованный указаниями Куантреля. Впрочем, он отчасти следует им: полотно, против обыкновения, переполнено фигурами. Однако они не теряются в пространстве грандиозного храма с его необъятными нишами, а выведены на первый план, и действие разворачивается так близко от нас, что это становится почти невыносимым. Вместо просторного храма перед нами несколько каменных ступеней – очевидно, алтарных – и спасающийся бегством мальчик-хорист. Караваджо написал эти две картины, расположенные друг против друга, с таким расчетом, чтобы они перекликались. По сравнению с необычайной тишиной и неподвижностью «Призвания», «Мученичество святого Матфея» выглядит как неуправляемый вихрь, где фигуры разлетаются во все стороны от несокрушимо возвышающейся центральной – от обнаженного убийцы. Характерным для Караваджо было то, что он сделал эту обнаженную мускулистую фигуру, застывшую посреди всеобщей сумятицы, воплощением зла. Убийца схватил запястье Матфея, чтобы нанести ему повторный удар (ручеек крови, изображенный на этот раз реалистично, уже струится сквозь белое одеяние мученика). Эта поднятая для удара рука убийцы служит сатанинским отражением вытянутой руки Иисуса на противоположной стене. Со свойственной ему склонностью к театрализации действия Караваджо изображает на холсте борьбу добра со злом. Тело умирающего Матфея погружается в какой-то резервуар с черной водой, напоминающий крестильную купель, его левая рука выглядит укороченной – она обращена к нам, словно святой взывает к зрителю о помощи. Но сверху к нему уже спускается ангел с пальмовой ветвью в руках, чтобы унести мученика к небесному воздаянию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?