Текст книги "Очевидец: Избранные стихотворения"
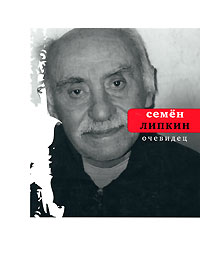
Автор книги: Семен Липкин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Геолог
Листья свесились дряхло
Над водой, над судьбой.
В павильоне запахло
Шашлыком и шурпой.
В тюбетейке линялой,
Без рубашки, в пальто,
Он с улыбкой усталой
Взял два раза по сто.
Свой шатёр разбивавший
Там, где смерч и буран,
Наконец отыскавший
Этот самый уран, —
Он сорвался, геолог,
У него, брат, запой…
День безветренный долог
И наполнен толпой.
Наважденье больное —
Чудо русской толпы
В сказке пыли и зноя,
Шашлыка и шурпы!
В сорок лет он так молод,
Беден, робок и прост,
Словно трепет и холод
Горных рек, нищих звёзд.
1963
Обезьянник
Когда, забыв начальных дней понятье
И разум заповедных книг,
Разбойное и ловчее занятье
Наш предок нехотя постиг,
Когда утратил право домочадца
На сонмы звёзд, на небеса,
И начали неспешно превращаться
Поля и цветники в леса, —
Неравномерным было одичанье:
Вон там не вывелся букварь,
А там из ясной речи впал в мычанье
Ещё не зверь, уже дикарь,
А там, где шёл распад всего быстрее,
Где был активнее уран,
Властители, красавцы, грамотеи
Потомством стали обезьян.
Ещё я не нуждаюсь в длинных лапах,
Но в обезьянник я вхожу,
И, чувствуя азотно-кислый запах,
Несчастным выродкам твержу:
«Пред вами – царства Божьего обломки,
Развалины блаженных лет.
Мы, более счастливые потомки,
Идем во тьму за вами вслед».
1963
Рождество
В том стандартном посёлке,
Где троллейбус кончает маршрут,
В честь рождественской ёлки
Пляшут, пьют и поют.
В доме – племя уборщиц,
Судомоек и нянь из больниц,
Матерщинниц и спорщиц,
Работяг и блудниц.
Не ленивы как будто,
Не бегут от шитья и мытья,
Но у них почему-то
Не бытуют мужья.
У красивой Васёны
Настроенье гулять и гулять.
Аппарат самогонный
Поработал на ять.
В деревенских частушках
Есть и воля, и хмель, и метель.
В разноцветных игрушках
Призадумалась ель.
Сын смеётся: «Маманя,
Ты не видишь, что рюмка пуста!»
И, глаза ей туманя,
Набегает мечта.
А на небе сыночка
В колыбели качает луна,
Словно мать-одиночка,
Ожиданья полна.
1963
Молчащие
Ты прав, конечно. Чем печаль печальней,
Тем молчаливей. Потому-то лес
Нам кажется большой исповедальней,
Чуждающейся выспренних словес.
Есть у деревьев, лиственных и хвойных,
Бесчисленные способы страдать
И нет ни одного, чтоб передать
Своё отчаянье… Мы, в наших войнах
И днях затишья, умножаем чад
Речей, ругательств, жалоб и смятений,
Живя среди чувствительных растений,
Кричим и плачем… А они молчат.
1963
Вильнюсское подворье
Ни вывесок не надо, ни фамилий.
Я всё без всяких надписей пойму.
Мне камни говорят: «Они здесь жили,
И плач о них не нужен никому».
А жили, оказалось, по соседству
С епископским готическим двором,
И даже с ключарём – святым Петром,
И были близки нищему шляхетству,
И пан Исус, в потёртом кунтуше,
Порою плакал и об их душе.
Теперь их нет. В средневековом гетто
Курчавых нет и длинноносых нет.
И лишь в подворье университета,
Под аркой, где распластан скудный свет,
Где склад конторской мебели, – нежданно
Я вижу соплеменников моих,
Недвижных, но оставшихся в живых,
Изваянных Марию, Иоанна,
Иосифа… И слышит древний двор
Наш будничный, житейский разговор.
1963
Зимнее утро
А кто мне солнце в дар принёс,
И леса тёмную дугу,
И тени чёрные берёз
На бледно-золотом снегу?
Они, быть может, без меня
Существовать могли бы врозь —
И лес, и снег, и солнце дня,
Что на опушке родилось, —
Но их мой взгляд соединил,
Мой разум дал им имена
И той всеобщностью сроднил,
Что жизнью кем-то названа.
1964
Сено
Избы чуть видны за перелеском,
Чуть слышны растений голоса,
А в траве блестит запретным блеском
С робостью звенящая коса.
Рано утром тайно косят сено
Девочка и тощий инвалид.
Их лошадка держится степенно
И, как соучастница, молчит.
Трое на меня взглянули разом,
Двое вдруг прервали разговор,
У меня же к тем житейским фразам,
Как на грех, пристрастье с давних пор.
Но вдали – железный шум дороги,
Но густеют в небе облака,
Полные бахвальства и тревоги,
Как письмо закрытое Цека.
1963
Пассажир парохода
Я один. Накопились деньжата,
И себе я позволить могу
Путешествовать, пусть небогато,
И грустить на своём берегу.
Мне подруга не машет рукою,
Мне товарищи писем не шлют,
Только время стучится порою
Влажным стуком о стены кают.
Кроме папки в столе на Лубянке,
Никому я не нужен в стране,
Лишь порой пароходные склянки
Что-то вспомнить хотят обо мне.
1963. Теплоход «Шевченко»
Правительственный приём перед концертом
Деревья Азии поникли,
Но под дождём
Водители скучать привыкли,
Не входят в дом.
Не видит и не слышит дача,
Что выпал град.
Идёт приём. Идёт раздача
Ласк и наград.
Писатель, захмелевший быстро,
Затосковал.
К стегну красавицы-министра
Льнет аксакал.
Номенклатурная окрошка
Из высших сфер.
Из хора Пятницкого крошка
Блюёт в фужер.
Речь первого: «Всему основа —
Народ-творец… »
Концерт начнётся в полвосьмого.
Потом – конец.
1964
Шелковица
Как только в городской тиши
Ко мне придёт полубессонница,
Ночная жизнь моей души,
Как поезд, постепенно тронется.
И в полусне и в полумгле
Я жду, что поезд остановится
На том дворе, на той земле,
Где у окна росла шелковица.
Себя, быть может, обелю,
Когда я объясню старением,
Что это дерево люблю
Лишь с детским, южным ударением.
Иные я узнал дворы,
Сады, и площади, и пагоды,
Но до сих пор во рту остры
И пыльно-терпки эти ягоды.
И злоба отошедших дней,
Их споры, их разноголосица,
Ещё больней, ещё родней
Ко мне – в окно моё – доносится.
Назад, к началу, к той глуши,
Где грозы будущего копятся,
Ночная жизнь моей души
Безостановочно торопится.
Мы связаны на всем пути,
Как связаны слова пословицы,
И никуда мне не уйти
От запылившейся шелковицы.
1965
Телефонная будка
В центре города, где назначаются встречи,
Где спускаются улицы к морю покато,
В серой будке звонит городской сумасшедший,
С напряжением вертит он диск автомата.
Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,
Битый час неизвестно кого вызывая,
То ли плачет он, то ли товарищей кличет,
То ли трётся о трубку щетина седая.
Я слыхал, что безумец подобен поэту…
Для чего мы друг друга сейчас повторяем?
Опустить мы с тобою забыли монету
Мы, приятель, не те номера набираем.
1965
У моря
Шумели волны под огнём маячным,
Я слушал их, и мне морской прибой
Казался однозвучным, однозначным:
Я молод был, я полон был собой.
Но вот теперь, иною сутью полный,
Опять стою у моря, и опять
Со мною разговаривают волны,
И я их начинаю понимать.
Есть волны-иволги и волны-прачки.
Есть волны-злыдни, волны-колдуны.
Заклятьями сменяются заплачки
И бранью – стон из гулкой глубины.
Есть волны белые и полукровки.
Чья робость вдруг становится дерзка,
Есть волны – круглобёдрые торговки,
Торгующие кипенью с лотка.
Одни трепещут бегло и воздушно,
Другие – туго думные умы…
Природа не бывает равнодушна,
Всегда ей нужно стать такой, как мы.
Природа – переводческая калька:
Мы подлинник, а копия она.
В былые дни была иною галька
И по-иному думала волна.
1965
Арарат
Когда с воздушного он спрыгнул корабля,
Потом обретшего название ковчега,
На почву жёсткую по имени Земля,
И стал приискивать местечко для ночлега,
Внезапно понял он, что перед ним гора.
С вечерней синевой она соприкасалась,
И так была легка, уступчива, щедра,
Что сразу облаком и воздухом казалась.
Отец троих детей, он был ещё не стар,
Ещё нездешними наполнен голосами.
Удачливый беглец с планеты бедной Ар,
На гору он смотрел печальными глазами.
Там, на планете Ар, ещё вчера, вчера
Такие ж горные вершины возвышались.
Как небожители, что жаждали добра,
Но к людям подойти вплотную не решались.
Всё уничтожено мертвящею грозой
Тотальною!.. А здесь три девки с диким взглядом
К трём сыновьям пришли с неведомой лозой:
Учёный Хам назвал растенье виноградом.
А наверху олень и две его жены,
Бестрепетно блестя ветвистыми рогами,
Смотрели на него с отвесной вышины,
Как бы союзника ища в борьбе с врагами,
Как бы в предвиденье, что глубже и живей
Мир поразят печаль, смятение и мука,
Что станет сей корабль прообразом церквей,
Что будут кланяться ему стрелки из лука…
Отцу противен был детей звериный срам,
И, словно к ангелам, невинным и крылатым,
Он взоры обратил к возвышенным холмам,
И в честь планеты Ар назвал он Араратом
Вершину чистую… А стойбище вдали
Дышало дикостью и первобытным зноем.
Три сына, повалив трёх дочерей земли,
Смеялись заодно с землёй над ним, над Ноем.
1965
Ереванская роза
Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.
Ереванскую розу —
Вздох и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому, что во всём разлита —
В старике, прищемившем
Левантийские чётки
Там, где брызги фонтана летят,
В малыше, устремившем
Свой пытливый и кроткий,
Умудрённый страданием взгляд.
Будто знался он с теми,
Чья душа негасима,
Кто в далёком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванскою розой в руке.
1965
Чешский лес
Готический, фольклорный чешский лес,
Где чистые пристенные тропинки
Как бы ведут нас в детские картинки,
В мануфактуры сказочных чудес.
Не зелень, а зелёное убранство,
И в птичьих голосах так высока
Холодная немецкая тоска,
И свищет грусть беспечного славянства.
Мне кажется, что разрослись кусты,
О благоденствии людском заботясь,
И все листы – как тысячи гипотез
И тысячи свершений красоты.
Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный,
И бабка в прорезиненных штанах
В своём лесу – как в четырёх стенах…
Пан доктор им сказал: «Грибы полезны».
Листву сомкнули древние стволы,
Но расступился мрак – и заблестели
Полупустые летние отели
И белые скамейки и столы.
А там, где ниже лиственные своды,
Где цепко, словно миф, живёт трава,
Мне виден памятник. На нём слова:
«От граждан украшателю природы».
Шоссе – я издали его узнал
Сквозь стены буков – смотрит в их проломы.
«Да, не тайга», – заметил мой знакомый
Из санатория «Империал».
Веками украшали мы природу
Свою – да и всего, что есть вокруг,
Но стоит с колеи упорной вдруг
Сойти десятилетью или году,
Успех моторизованной орды, —
И чудный край становится тайгою.
Травой уничтожаются глухою
Возделанные нивы и сады,
И там, где предлагали продавщицы
Пластмассовых оленей, где отель
Белел в листве, рычит как зверь метель
И спят в логах брюхатые волчицы.
1966
Пустота
Мы знаем, что судьба просеет
Живущее сквозь решето,
Но жалок тот, кто сожалеет,
Что превращается в ничто.
Не стал ничтожным ни единый,
Хотя пустеют все места:
Затем и делают кувшины,
Чтобы была в них пустота.
1966
Вожатый каравана
Подражание Саади
Звонков заливистых тревога заныла слишком рано, —
Повремени ещё немного, вожатый каравана!
Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,
А я кричу, и крик безумца – столп огненный в пустыне.
Из-за неё, из-за неверной, моя пылает рана, —
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!
Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова?
А впрочем, если скажет слово, она обманет снова.
Зачем звенят звонки измены, звонки её обмана?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!
По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая,
Про то, как с телом расстаётся душа, душа живая.
Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью:
Исход моей души из тела увидел я воочью!
Она и лживая – желанна, и разве это странно?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!
1966
Две ели
В лесу, где сено косят зимники,
Где ведомственный детский сад
Шумит впопад и невпопад,
Как схиму скинувшие схимники,
Две ели на холме стоят.
Одна мне кажется угрюмее
И неуверенней в себе.
В её игольчатой резьбе
Трепещет светлое безумие,
Как тихий каганец в избе.
Другая, если к ней притащатся
Лягушка или муравей,
Внезапно станет веселей.
Певунья, нянюшка, рассказчица,
Сдаётся мне, погибли в ней.
Когда же мысль сосредоточится
На главном, истинном, живом, —
Они ко мне всем существом
Потянутся, и так мне хочется
И думать, и молчать втроём.
1966
Происшествие
От надоедливой поделки
Глаза случайно оторвав,
Я встретился с глазами белки,
От зноя смуглой, как зуав.
Зачем же бронзовое тельце
Затрепетало, устрашась?
Ужель она во мне, в умельце,
Врага увидела сейчас?
Вот прыгнула, легко и ловко
Воздушный воздвигая мост.
Исчезла узкая головка
И щегольской, но бедный хвост.
Я ждал её – и я дождался,
Мы с нею свиделись опять.
В ней некий трепет утверждался,
Мешал ей жить, мешал дышать.
Как бы хотел отнять способность
Взвиваться со ствола на ствол,
И эту горькую подробность
В зрачках застывших я прочел.
Два дня со мной играла в прятки,
А утром, мимо проходя,
Сосед её увидел в кадке,
Наполненной водой дождя.
Так умереть, так неумело
Таить и обнажить следы…
И только шкурка покраснела
От ржавой дождевой воды.
1966
У магазина
Квартал на дальнем западе столицы,
Где с деревенским щебетаньем птицы
На вывеску садятся торопливо,
Заметив, что вернулись продавщицы
С обеденного перерыва.
В тени, у обувного магазина, —
Свиданье: грустный, пожилой мужчина
С букетиками ландышей в газете
И та, кто виновато и невинно
Сияет в летнем жгучем свете.
О робость красоты сорокалетней,
Тяжёлый жаркий блеск лазури летней,
И вечный торг, и скудные обновы,
О торжество над бытом и над сплетней
Прасущества, первоосновы!
1967
* * *
Ещё дыханье суеты
Тебя в то утро не коснулось,
Ещё от сна ты не очнулась,
Когда глаза открыла ты —
С таким провидящим блистаньем.
С таким забвением тревог,
Как будто замечтался Бог
Над незнакомым мирозданьем.
Склонясь, я над тобой стою
И, тем блистанием палимый,
Вопрос, ликуя, задаю: —
Какие новости в раю?
Что пели ночью серафимы?
1967
Любовь
Нас делает гончар; подобны мы сосуду…
Кабир
Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчал:
Был дик и тускл его звериный трепет.
И ярость охватила гончара:
Ужели и сегодня, как вчера,
Он жалкий образ, а не душу лепит?
Казалось, подтверждали мастерство
Чело и шея, руки, ноги, груди,
Но сущности не видел он в сосуде,
А только глиняное существо.
И вдунул он в растерянности чудной
Своё отчаянье в её уста,
Как бы страшась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоюдной.
Тогда наполнил глину странный свет,
Но чем он был? Сиянием страданья?
Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,
Которому предшествует расцвет?
И гончара пронзило озаренье,
И он упал с пылающим лицом.
Не он – она была его творцом,
И душу он обрёл – её творенье.
1967
Ночи в лесу
В этом лесу запрещается рубка.
Днём тишина по-крестьянски важна.
Здесь невозможна была б душегубка.
Кажется, – здесь неизвестна война.
Но по ночам разгораются страсти.
Сбросив личину смиренного дня,
Сосны стоят, как военные части,
Ели враждуют, не зная меня.
Я же хочу в этот лес-заповедник,
Где глубока заснеженная падь,
Не как идущий в народ проповедник,
А как земляк-сотоварищ вступать.
Словно знаток всех имён я и отчеств,
Словцо живут средь соседей лесных
Гордые ночи моих одиночеств,
Робкие ночи пророчеств моих.
1967
В кафе
Оркестрик играл неумело,
Плыла папиросная мгла,
И сдавленным голосом пела,
Волнуясь и плача, пила.
Не та ли пила, что от века,
Насытившись мясом ствола,
Сближала очаг с лесосекой,
Несла откровенье тепла?
Не та ли пила, что узнала
Тайги безграничную власть,
И повести лесоповала,
И гнуса, гудящего всласть?
Да что там, нужны ли вопросы?
Остались лишь мы на земле
Да тот музыкант длинноносый,
Что водит смычком по пиле.
1967
Союз
Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.
Есть одно – и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.
В нём тревоги твои и мои,
В этом И – наш союз и подспорье…
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.
Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятье
Состраданья, бесстрашья, добра,
И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи —
Всё вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.
И когда в отчуждённой кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я – тем сильней и всемирней —
Вместе с ней о себе говорю.
Без союзов словарь онемеет,
И я знаю: сойдёт с колеи,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.
1967
Моисей
Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким, и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям —
Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.
1967
Памятное место
Маляр, баварец белокурый,
В окне открытом красит рамы,
И веет от его фигуры
Отсутствием душевной драмы.
В просторном помещенье печи
Остыли прочно и сурово.
Грядущих зол они предтечи
Иль знаки мёртвого былого?
Слежу я за спокойной кистью
И воздух осени вдыхаю.
И кружатся в смятенье листья
Над бывшим лагерем Дахау
1967
Отстроенный город
На память мне пришло невольно
Блокады чёрное кольцо,
Едва в огнях открылось Кёльна
Перемещённое лицо.
Скажи, когда оно сместилось?
Очеловечилось когда?
И всё ли заживо простилось
До срока Страшного суда?
Отстроился разбитый город,
И, стыд стараясь утаить,
Он просит нас возмездья голод
Едой забвенья утолить.
Но я подумал при отъезде
С каким-то чувством молодым,
Что только жизнь и есть возмездье,
А смерть есть ужас перед ним.
1967
Зола
Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери – из печи.
Ещё и жизни не поняв
И прежней смерти не оплакав,
Я шёл среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»
1967
Живой
Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зелёном просторе,
Как за городом – корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живёт для живого,
Для смерти живёт неживой.
1967
Подражание Мильтону
Я – начало рассказа
И проказа племён.
Адским пламенем газа
Я в печи обожжён.
Я – господняя бирка
У земли на руке,
Арестантская стирка
В запредельной реке.
Я – безумного сердца
Чистота и тщета.
Я – восторг страстотерпца,
Я – молитва шута.
1967
Кочевники
Разбранил небожителей гром-богохульник,
Облака поплыли голова к голове,
А внизу одинокий, ни с кем не в родстве,
Загорелся багульник, забайкальский багульник
Синим с пурпуром пламенем вспыхнул в траве.
Говорят мне таёжные свежие травы:
«Мы, кочевников племя, пойдём сквозь года
Неизвестно когда, неизвестно куда,
Ничего нам не надо, ни богатства, ни славы,
Это мудрость – уйти, не оставив следа.
Полиняет игольчатый мех на деревьях.
Кто расскажет насельникам дикой земли,
Что и мы здесь когда-то недолго росли?
Мы – кочевников племя. Кто же вспомнит в кочевьях,
Что багульника пепел рассыпан вдали?»
1967
Урочище
Там, где жёсткая Сибирь
Очарована нирваной,
Есть буддийский монастырь
Оловянно-деревянный.
Кто живёт на том дворе,
И какие слышат клятвы
И молитвы на заре
Маленькие бодхисатвы?
Там живут среди живых
Скорбно мыслящие будды,
И сжимаются у них
Коронарные сосуды.
Что им будущего храм?
Что им пыльный хлам былого?
Жаль им только старых лам,
Растерявших мысль и слово.
И на небе мысли нет:
Там, с безумьем оробелым,
Чёрный цвет и серый цвет
Движутся на битву с белым.
Не вникают старики
В эти бренные тревоги,
И тускнеют от тоски
Металлические боги.
1967
Свирель пастуха
В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,
Где, может быть, таят вершины
Гнездовье допотопных птиц, —
Есть электронные машины
И ускорители частиц.
А ниже, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,
Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.
Познавшие законы квантов
И с новым связанные днём,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнём?
Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем,
Как много тысяч лет назад.
1967
Размышления в Сплите
Печальны одичавшие оливы,
А пальмы, как паломники, безмолвны,
И медленно свои взметают волны
Далмации корсарские заливы.
В проулочках – дыханье океана,
Туристок ошалелых мини-юбки,
И реют благовещенья голубки
Над мавзолеем Диоклетиана.
Но так же, как на площади старинной,
Видны и в небе связи временные,
И спутников мы слышим позывные
Сквозь воркованье стаи голубиной.
Давно ли в памяти живёт совместность
Костра – с открытьем, с подвигом – расстрела,
С немудрою лисой – лозы незрелой?
Давно ль со словом бьётся бессловесность?
Давно ли римлянин грустил державно?
Давно ль пришли авары и хорваты?
Мы поняли – и опытом богаты,
И горечью, – что родились недавно.
Мы чудно молоды и простодушны.
Хотя былого страсти много значат, —
День человечества едва лишь начат,
А впереди синеет путь воздушный.
1968
Размышления в Сараеве
Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах
Магометанское показывают время,
Где птицы тюркские – в славянских голосах,
Где Бог обозначает племя,
Где ангелы грустят на разных небесах.
Улыбка юная монаха-босняка
И феска плоская печального сефарда.
Народы сдвинулись, как скалы и века,
И серафимский запах нарда
Волна Авзонии несёт издалека.
Одежда, говоры, базары и дворы
Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,
Столпотворения последние костры.
Иль не един разноплемённый
Сей мир, и все его двуногие миры?
На узкой улице прочёл я след ноги
Увековеченный – и понял страшный принцип
Столетья нашего, я услыхал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.
Когда в эрцгерцога ты выстрел произвёл,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских школ
Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.
Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца – предвиденья замена,
Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,
Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей…
Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.
Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.
1968
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































