Текст книги "Очевидец: Избранные стихотворения"
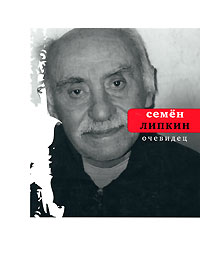
Автор книги: Семен Липкин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Спуск в гавань
Медовый месяц нэпа.
Вечерняя лиловь.
Выходит из вертепа
Усталая любовь.
Порывисто и редко
Дыханье ветерка.
На ней висит горжетка
С головкою зверька.
А вправду ли наряден
Французский пеньюар?
Подарен иль украден
Массивный портсигар?
Работать в доме тяжко,
И нужен перерыв,
И с каждою затяжкой
Ей легче… Там – обрыв,
И порт, и копошенье
Существ и их теней,
Вдали – кровосмешенье
Звезд и земных огней,
Здесь – листьев тополиных
Замедленный полет,
И в первых брюках длинных
Мальчишка у ворот.
Болезненно и сладко
Душа истомлена,
Все для него загадка:
Порт, звезды и она.
1972
Годовщина армянского горя
Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.
Персики в Эчмиадзине
Цветом цветут фиолетовым.
Свод над землёю синий,
Как над Синайской пустыней.
Ряса католикоса
Цветом цветёт фиолетовым.
Медленно, многоголосо
Звон поминальный вознёсся:
Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.
Страшная годовщина
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина —
Слово Божьего сына.
Поровну мы разделим
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем,
В поле траву расстелим.
Жертвенного барана
Мы обведём вкруг дерева.
В сердце – вечная рана,
А земля нам желанна.
Всё мирозданье в расцвете,
Всё непотребное – изгнано,
Только и есть на свете —
Дети, дети, дети,
Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.
Боже, к твоим коленям
Я припадаю с моленьем:
Да оживут убиенные
В этом саду весеннем!
В нашем всеобщем храме
Да насладятся весело
Всеми твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —
Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.
1972
По дороге
Вдоль забора к оврагу бежит ручеёк,
А над ним, средь ветвей, мне в ответ
Соловей говорит по-турецки: йок-йок,
Это лучше, чем русское «нет»,
Потому что неточен восточный глагол,
И его до конца не поймём,
Потому что роскошен его произвол,
И надежда упрятана в нём.
Я не вижу, – каков он собой, соловей,
Что поёт на вечерней заре.
Не шарманщик ли в серенькой феске своей
Появился на нашем дворе?
Пахло морем, и степью, и сеном подвод,
Миновало полвека с тех пор,
Но меня мой шарманщик и ныне зовёт
Убежать к ручейку за забор.
И когда я теперь в подмосковном бору
Соловья услыхал ввечеру,
Я подумал, что я не умру, а замру
По дороге к родному двору.
1972
Подъём
В горах, как благодарный фимиам,
Светло курились облачные дымы.
Деревья поднимались к небесам,
Как недоверчивые пилигримы.
Они бранили горную грозу,
Метель, и град, и камнепад жестокий
И вспоминали, как росли внизу,
Где так привычно следовали сроки.
Они забыли злобу топора
И цепкую пилу лесоповала,
И то, что было ужасом вчера,
В их существе, сегодня ликовало.
Но, охраняя каждый свой побег,
Брели наверх всё строже, всё упрямей,
Чтобы обнять первоначальный снег
Своими исхудалыми ветвями.
1972
Армянский храм
Здесь шахиншах охотился с гепардом
И агарянин угрожал горам.
Не раз вставало горе над Гегардом,
Мы войско собирать не успевали
И в камне прорубили крепость-храм.
И создавали мы, и торговали,
И кочевали, каясь и греша,
Уже самих себя мы забывали
И только потому не каменели,
Что в камне зрела и росла душа.
1972
* * *
Ещё и плотью не оделись души,
И прах – травой, и небо – синевой,
Ещё вода не отошла от суши,
И свет был слеп во тьме довековой,
Ещё неизречённым было слово,
И мысль спала в тиши предгрозовой,
И смерть не знала теплоты живого,
А я уже тебя любил.
И боль моя свою постигла смелость,
И свет прозрел во тьме, и твердь земли,
От влаги отделясь, травой оделась,
И души плоть впервые обрели,
И мысль проснулась в мирозданье новом,
И время, уходящее вдали,
Увидела она и стала словом
И мерою всего, что есть.
1972
Кочевой огонь
Кочевой огонь
Четыре как будто столетья
В империи этой живём.
Нам веют её междометья
Берёзкою и соловьем.
Носили сперва лапсердаки,
Держали на тракте корчму,
Кидались в атаки, в бараки,
Но всё это нам ни к чему.
Мы тратили время без смысла
И там, где настаивал Нил,
Чтоб эллина речи и числа
Левит развивал и хранил,
И там, где испанскую розу
В молитву поэт облачал,
И там, где от храма Спинозу
Спесивый синклит отлучал.
Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы – кочевая горючесть,
Бесплотный и вечный огонь?
Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?
1973
Комиссар
Торжествовала власть, отбросив
И опрокинув Колчака,
И в Забайкалье стал Иосиф
Работать в органах Чека.
Он вызывал к себе семейских,
Допрашивал, и подлый страх
Внушал им холодок в еврейских,
Печально-бархатных глазах.
Входил он в души староверок
Предвестием господних кар,
Молодцеватый недомерок,
Длинноресничный комиссар.
Мольбы выслушивал устало,
Сжимая кулачок у рта.
Порой губкомовцев смущала
Его святая простота.
Каким-то попущеньем странным
Он выжил. И на склоне дней
В Сибирь приехал ветераном
На полстолетний юбилей.
В глазах – всё той же грусти бархат,
И так же, обхватив сучок,
Туда, где свет в тайге распахнут,
Трясясь, глядит бурундучок.
1973
Хаим
Там, где мчалась дружина Гэсэра,
А недавно – жандармский полковник,
Где и ныне в избе старовера
Мы найдём пожелтевший часовник,
Где буддийские книги бурята
Разбрелись по аймакам глухим, —
Серебристо-светла, торовата,
Есть река по названью Хаим,
Будем верить преданьям не слишком:
То ль, тропой возвращаясь таёжной,
Да притом, говорят, с золотишком,
Был он голью зарезан острожной,
То ль трактир содержал он на тракте,
Беглых каторжников укрывал,
И за свой поплатился характер…
Есть река и Хаим-перевал.
Вечный дух пребывает в кумире,
В древнем свитке и в крестике малом.
Хорошо ль тебе, Хаим, в Сибири
Течь рекой и стоять перевалом?
Что мне светит в серебряных всплесках?
Иль в тайге улыбается Тот,
Кто смутил мудрецов бенаресских
И в пустыне хранил свой народ?
1973
Завоеватель
О это море, колыбель изустных
Повествований, хроник простодушных,
О Понт Эвксинский после захолустных,
Степных местечек и закатов душных!
Великолепен мир, когда он целый,
Хотя и составной, и виден глазу
Не в перекрестье ниточек прицела,
А широко, со всех сторон и сразу.
Мне хорошо с тобою, ветр солёный,
С Европой настоящей и не старой,
С атлантами, поднявшими балконы,
С театром у приморского бульвара.
По улицам, бегущим вниз, иду я
Наверх, легко дышу нектаром юга,
И, каменного герцога минуя,
Я приближаюсь к центру полукруга.
Строенья в стиле греческих колоний,
Дух Генуи в стенах полуразвалин,
И тот же известняк, что в Вавилоне, —
Он так же тёмен, порист и печален.
Бедны полупустые магазины,
Но где-то есть, я слышал, барахолка.
Всё по душе мне: шумные румыны,
У церкви – старенькая богомолка…
Фурункулёзный, круглый ростбиф-наци, —
Мне обер дал сегодня увольненье.
День без придирок, желчных ламентаций
И ожиданья трезвое волненье.
С фамилией, на Вавилон похожей,
Какой-то русский написал занятно
О здешних нравах… Кто же я? Прохожий?
Завоеватель? Мутно, непонятно,
И если правду говорить, трусливо,
Ничтожно я живу. И город вскоре
Окончится, и слева, вдоль обрыва,
Рассердится невидимое море.
А справа – кладбище, тропа к спасенью.
Спят мёртвые, убитые не нами.
Надгробья у стены, под мирной сенью,
Испещрены чужими именами.
Я не могу прочесть, но я их знаю, —
Те буквы, по которым наш Спаситель
Читать учился в мастерской отцовской,
А мать месила тесто и порою
Его кудрей касалась локотком.
О горе нам, в злодействе позабывшим,
Что убивать нельзя живых, покуда
О мёртвых память не истреблена!
1973
Отпуск во время войны
Вкруг столбов намотала сугробы позёмка,
Смутно, дробно, сквозь сумрак мерцает село.
Ты подумай, куда занесло тебя, Сёмка,
Ах, куда занесло!
«Дуглас» вырвал тебя из кронштадтской блокады,
Сутки мёрзнет на розвальнях твой чемодан,
Ты шагаешь за ним, впереди – вислозадый,
Дряхлый мерин Будан.
То ли юрты стоят, то ли избы-хибары?
То ли варится вихря и гари навар?
Там вдали – твои братья по вере хазары
Иль становья булгар?
Что же тянет тебя в сумрак снежного тыла?
Понимаешь ли сам, где родной твой очаг?
В польской пуще застыла зола, и застыло
Время в русских печах.
Ах, как много в степи ветра, холода, злобы!
Это сыплется древний иль нынешний снег?
Вкруг столбов намотала позёмка сугробы,
И далёк твой ночлег.
1973
Посредине запретки
Я прочёл сохранённые честью и чудом листы —
Арестанта записки:
«В этом мире несчастливы
Только глупцы и скоты», —
Вот завет декабристский.
Я пройду по земле, как проходит волна по песку,
Поглотив свою скорость.
Сам довлея себе, я себя самого извлеку,
Сам в себе я сокроюсь.
Мне, кто внемлет владыке времён, различать недосуг —
Где потомки, где предки.
Может быть, я умру хорошо, и убьют меня вдруг
Посредине запретки.
1973
Островок
Длинная песчаная гряда,
Синяя байкальская вода,
Костерок в таёжной тишине,
Каторжанский омуль на рожне.
А напротив – зелен островок,
Не широк, зато золотобок.
Сколько лиственниц на нём растёт!
Или это, свой прервав полёт,
Птицы собрались на островке,
Да застряли в золотом песке.
Улететь не могут никуда,
Стерегут их небо и вода.
1974
Озеро
Стекло воды озёрной
Напоминает мне
Стекло трубы подзорной,
Сокрытой в глубине.
Её приставил к глазу
Вожак подземных сил,
И по его приказу
Военный стан застыл.
Где темень словно камень,
А камень старше мглы,
Базальтовая рамень,
Порфирные стволы, —
Увидел полководец,
Когда смотрел в трубу,
Избёнку, огородец,
Песчаную тропу.
Она вела куда-то —
Быть может, в те края,
Где вертоград заката,
Где башня соловья.
Земля была как чудо,
И он смотрел туда,
Где без тебя мне худо,
Где мне с тобой беда.
1974
* * *
Если грозной правде будешь верен,
То в конце тягчайшего пути
Рай, который был тобой потерян,
Ты сумеешь снова обрести.
Так иди, терпи, благословляя
Господа разгневанную власть:
Если б мы не потеряли рая,
Не стремились бы туда попасть.
1962
Две ночи
Смятений в мире было много,
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И воскресением Его.
И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась мельчал.
Верблюжий колокольчик звякал,
Костры дымились вдалеке,
А мёртвый Бог уже не плакал
На местном древнем языке.
Но мир по-прежнему плодился
И умножал число вещей…
Я тоже, как и вы, родился
В одну из тех ночей.
1962
Волки
Когда зажжётся электричество
В двух корпусах и на столбах,
Цветенья раннее язычество
Развеет мой тоскливый страх,
И дождь уйдёт, уже откапавший,
Насвистывая на ходу,
И оживу я, точно в капище,
В благоухающем саду.
Там роза, пленница законника,
Сама как будто не своя
От страсти идолопоклонника —
Задумчивого соловья.
Там управляемых и правящих
Не восхваляется родство,
Там голоса скворцов картавящих
Не раздражают никого.
Там зелень стриженная стелется,
Там ива плачет над водой, —
Как брошенная, с нею делится
Своей мечтой, своей бедой.
Её ласкает по-отечески
Столетний дуб, сухой старик,
И слышен веток человеческий,
Хотя и ломанный, язык…
А в доме волки, всем указчики.
Одни играют в домино,
А для других в волшебном ящике
Поёт и вертится кино.
У хищников на мордах барственных
Забот и горя ни следа,
Лишь о делишках государственных
Свой рык роняют иногда.
1962
Бессребреник
Не себялюбец и не скаред,
С остатком тёплых дней в обрез,
Себя всему живому дарит
Бессребреный, бесстрашный лес.
Не для того он плодоносит,
Чтоб нравились его плоды,
Он в жертву дерево приносит
Не потому, что славы просит
Вовне или внутри среды.
Он расточает добродетель
Не для того, чтобы о ней
Кричал запальчивый радетель
Всего, что громче и видней.
Но, сквозь малинник или хвою
С ним двигаясь одной тропою,
Ты замечаешь при ходьбе:
Он не сочувствует тебе,
А сам становится тобою.
1970
Миндаль
Выпал снег. Он белый как хлопчатник:
В день весны нагрянула зима.
На садовнике – потёртый ватник,
Негустая, тусклая чалма.
Снег с деревьев стряхивает палкой
На асфальта узкую скрижаль.
Занедужив, умирает жалкий
И очаровательный миндаль.
И поёт садовник, опьянённый
Поздним хмелем старости своей,
Те стихи, что некогда влюблённый
Сочинил ширазский соловей.
Ты зачем, зима, пришла за мною?
Но поверь, что не себя мне жаль, —
Жаль, что должен умереть весною
Робко распустившийся миндаль.
1970
Взгляд
Я спросил у поэта-кавказца,
Старой дружбою с ним умилён,
Отомстит ли он, если удастся,
За угон малосильных племён?
Но дыша перегаром эпохи,
Всех виня, никого не виня,
Голубые глаза выпивохи
Он уставил тогда на меня.
Этот взгляд был такой безучастный,
И разумный такой, и дурной,
Что я понял, как все мы несчастны,
Но не понял, что будет со мной.
1972
Вечереет
Тёмный дуб достигает лазури,
Но земля ему стала милей.
Как сонет, посвященный Лауре,
Он четырнадцать поднял ветвей.
Он ведёт на заветном и звонком
Языке свой спокойный дневник:
«Был я утром сегодня ребенком,
Вечереет – и вот я старик».
1974
В голубом сосуде
В лесу июля, в голубом сосуде,
Подробно, точно вычерчены ели,
И только люди потому и люди,
Что их угадываешь еле-еле.
Как хорошо, что был Творец неловок,
Что не был увлечён задачей мелкой
И свой небрежный, свежий подмалёвок
Он не испортил тщательной отделкой.
1971
* * *
С. Б. Рассадину
В этом городе южном я маленький школьник,
Превосходные истины тешат мой слух,
Но внутри меня шепчет какой-то раскольник,
Что рисуются буквы, а светится дух.
Страстно спорят на говоре местном южане,
Но иные со мной существа говорят:
Словно вещая птица из древних сказаний,
Прилетел небывалого цвета закат.
Новым, чистым дыханьем наполнился будень,
Обозначилось всё, что роилось вдали,
Лодки на море – скопище старых посудин —
Превратились в мерцающие корабли.
Стало вольностью то, что застыло темницей,
Свет зажёгся на стертой скрижали земной.
Всё иду, всё иду за нездешнею птицей,
А она всё летит и летит надо мной.
1975
Русская поэзия
Покуда всемирный Фердыщенко
Берёт за трофеем трофей,
Уже ты на лавры не заришься,
А только бессмысленно старишься,
Мещанка, острожница, нищенка
Дворянских, мужичьих кровей.
Куда как ликующей мнимости
Слабей непреложность твоя,
А всё ж норовишь ты упрочиться,
То плакальщица, то пророчица,
То ангел из дома терпимости,
То девственный сон бытия.
Строка тем косней, чем мгаовеннее,
А крылья – неспешной даны.
Лишь в памяти зреет грядущее,
Столь бедно и глухо растущее,
И ты уничтожишь забвение
Дыханьем вселенской весны.
1975
* * *
Когда болезненной душой устану
От поздней и мучительной любви,
Под старость лет пушусь по океану,
Как Иегуда Галеви.
Заблудится ль корабль и рухнет в бездну,
К разбойникам я попаду ли в плен,
В толпе ли пилигримов я исчезну,
В пыли, у глинобитных стен, —
Я твёрдо знаю, что исчез я прежде,
Что не было меня уже тогда,
Когда я малодушно жил в надежде
На близость Страшного суда,
А между тем служил я суесловью,
Владея немудрёным ремеслом,
И слово не хотело стать любовью,
Чтобы остаться, как псалом.
1975
Время
Разве не при мне кричал Исайя,
Что повергнут в гноище завет?
Не при мне ль, ахейцев потрясая,
Сказывал стихи слепой аэд?
Мы, от люльки двигаясь к могиле,
Думаем, что движется оно,
Но, живущие и те, кто жили, —
Все мы рядом. То, что есть Давно,
Что Сейчас и Завтра именуем, —
Не определяет ничего.
Смерть есть то, чего мы не минуем.
Время – то, что в памяти мертво.
И тому не раз я удивлялся,
Как Ничто мы делим на года;
Ангел в Апокалипсисе клялся,
Что исчезнет время навсегда.
1975
* * *
Господин Весенний Ветер,
Я вас помню молодым,
Вы беседовали весело
С госпожой Акацией.
В нашем городе стояли
Иностранные суда,
И взметались, и сияли
Беспокойные года.
Господин Весенний Ветер,
Вот и стал я стариком,
И давно сожгли захватчики
Госпожу Акацию.
Словно камни под водою —
Онемелые года.
Та, что здесь всегда со мною.
Не вернётся никогда.
1976
Из тетради
Но только тот, кто мыслью был наставлен,
Кто был рукоположен красотой,
Чей стих, хотя и на бумаге правлен,
Был переписан из тетради той,
Где нет бумаги, букв и где страницы
Незримы, хоть вещественней кремня,
Увидел неожиданно зеницы,
Исторгшие на землю столп огня.
1976
Крик чаек
Семейство разъевшихся чаек
Шумит на морском берегу.
От выкриков тех попрошаек
Прийти я в себя не могу.
Мне вспомнилось: мы хоронили
Жену сослуживца. Когда
Ее закопали в могиле,
Был вечер, а мы и беда
Вступили в автобус последний,
И тут, как проказа, возник
Из воплей, проклятий, и сплетни,
И ругани смешанный крик.
То стая кладбищенских нищих,
Хмельных стариков и старух,
Кривых, одноногих, изгнивших,
Блудила и думала вслух…
Земля, человечья стоянка,
Открыла ты нам, какова
Изгаженной жизни изнанка,
Где Слово сменили слова.
Во тьме остановки конечной
Уже различаем, какой
Вращается двигатель вечный,
А движет им вечный покой.
1976
* * *
Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится,
Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти чёрточки
Пугливого простонародья.
Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Своё мятежное безволье.
Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,
И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.
1976
Новая жизнь
Новую жизнь я начну с понедельника,
Сброшу поклажу ненужных забот,
Тайная вечеря зимнего ельника
К делу и жертве меня призовёт.
Всё, что душа так испуганно прятала,
Тихо откроет, по-детски проста,
Первосвященника и прокуратора
Не убоюсь – ни суда, ни креста.
Землю постигну я несовершенную
И, искупляющей силой влеком,
Следом за нею на гибель блаженную
В белом хитоне пойду босиком.
1977
* * *
Заснуть и не проснуться,
Пока не прикоснутся
Ко мне твои ладони
И не постигну я,
Что в мир потусторонний
Мы вырвались из плена
Земного бытия.
Развеем, новосёлы,
Наш долгий сон тяжёлый
О том, что был я грешен,
И перестану я,
Твоей душой утешен,
Разгадывать надменно
Загадку бытия.
1977
Конь
Наросло на перьях мясо,
Меньше скрытого тепла,
Изменилась у Пегаса
Геометрия крыла.
Но пышна, как прежде, грива,
И остёр, как прежде, взгляд,
И четыре крупных взрыва
Под копытами дымят.
Он летит в пространстве жгучем,
В бездну сбросив седока,
И разорванным созвучьем
Повисают облака.
1977
* * *
Доболеть, одолеть странный страх,
Догореть, докурить сигарету,
Истребить себя, – так второпях
В автомат опускают монету.
Но когда и внутри и вокруг
Обостряется жизни напрасность,
У неё появляется вдруг
Полудетская мрачная страстность.
А потом начинается свет
Где-то исподволь, где-то подспудно,
Мысль прочнеет, как плоть, как предмет,
И волнуется чисто и чудно.
1977
Мгновенье
Пустившись вечером в дорогу,
Меж темных скал увидел неба
Я головокружительный кусок.
Как будто идолищу-богу
Молились горному отрогу
И разжигали звёзды алтари.
Младенческое было что-то
В сверкании вечерней бездны,
И мир мне показался так высок,
Что с плеч моих сошла забота,
Я стал пригоден для полёта,
Как тот, что сообщил благую весть.
Нездешнего прикосновенье
Ожгло меня, и уходило
Оно безмолвно, как песок в песок,
Но я запомнил то мгновенье,
Как помнят боль и откровенье
И милую отцовскую ладонь.
1977
На току
На току – молотильщик у горной реки,
Остывает от зноя долина.
«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Ударяя, свистит хворостина.
И молотят снопы два усталых быка,
Равнодушно шагая по кругу,
Пролетают года и проходят века,
Свой напев доверяя друг другу.
«Молотите, быки, молотите, быки!» —
Так мой праотец пел возле Нила.
Время старые царства втоптало в пески,
Только этот напев сохранило.
Изменилась одежда и говор толпы, —
Не меняется время-могилыцик,
И всё те же быки те же топчут снопы,
И поёт на току молотильщик.
1977
Город хвойных
Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.
Перебежчик-кот мурлычет
Обо всём и ни о чём.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильём.
За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.
Я вступаю в город хвои
Как изгой, инаковер,
Одолев своё былое
И языковой барьер.
Кто же станет придираться.
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться
В вавилонах сосняка?
1977
Ночью
Высотные скворечники
Поражены безмолвьем;
Плеяды-семисвечники
Зажглись над их становьем;
И кажется: чуть-чуть привстань,
И ты коснёшься света
Луны, пленительной, как лань
На бархате завета.
О ясность одиночества,
Когда и сам яснеешь,
Когда молиться хочется,
Но говорить не смеешь!
Ты царь, но в рубище одет,
И ты лишился власти,
И нет венца, и царства нет,
А только счастье, счастье!
1977
* * *
Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?
Ты в воздухе, в воде или в огне?
Ты в алтаре? У лопаря ли в торбе?
Иль вправду царствие Твое во мне?
Но где ж его границы и заставы?
Где начинаюсь я? Где Твой предел?
Ужель за рубежом Твоей державы
Я – кость и мясо, тело среди тел?
Не я ли, как и Ты, невидим взору?
Не я ль в Тебе живу, как Ты во мне?
Не я ль, озлясь, испепелил Гоморру
И говорил, пылая в купине?
1977
Путь к храму
Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.
Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.
Далёкий дым кадильниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.
По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.
Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не сожгут меня.
Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных словес.
Шепну я втихомолку,
Что мы – в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.
1977
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































