Текст книги "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией"
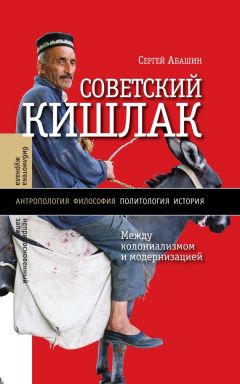
Автор книги: Сергей Абашин
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Типпс также указал, что в дихотомии современность/традиционность возникают сложности с определением выражения «традиционное общество». Последнее определяется как антисовременность, а не через перечисление его собственных характеристик, ему приписывают тотальность и неизменность, тогда как реальные сообщества, которые попадают в категорию традиционных, порой довольно существенно отличаются друг от друга и претерпевали (продолжают претерпевать) разнообразные трансформации. Типпс писал также, что такая дихотомия не учитывает взаимодействия современных и традиционных обществ между собой. Я бы добавил, что до сих пор эти общества рассматриваются как спортсмены на соревнованиях, один из которых вырвался вперед, а другие его догоняют или безнадежно отстают. Типпс говорил, в частности, что общества, прошедшие через колониализм, являются, как правило, гибридными, то есть не модерными и не традиционными4242
Tipps D. Modernization Theory. P. 213.
[Закрыть]. К понятию гибридности я еще вернусь, когда речь будет идти о (пост)колониальной критике, но сейчас, думаю, уместно вспомнить работы американского социолога-марксиста Иммануила Валлерстайна, который предложил не рассматривать социальный строй каждой страны в отдельности, а исследовать единую миросистему со своими центрами, перифериями и полуперифериями4343
См., например: Wallerstein I. The Capitalist World-Economy. Cambridge and Paris: Cambridge University Press, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1979; World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004 (русский перевод: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006). Интересную попытку использовать его теорию для анализа советского общества см.: Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Территория будущего, 2010 (оригинал: Derluguian G. Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography. University of Chicago Press, 2005).
[Закрыть]. В такой перспективе современность и традиционность становятся не изначальными характеристиками того или иного общества, а результатом неэквивалентного распределения власти и ресурсов в рамках мировой экономики. Другими словами, традиционность – это тоже современность, но современность периферии, а не центра.
Наконец, методологический изъян теории модернизации состоит, по мнению Типпса, в том, что она носит излишне обобщающий характер, сводя вместе различные процессы, которые имеют свои собственные объяснения. К тому же то, что называется современностью, обычно связано с нынешним состоянием дел, с тем, как оно видится в настоящий момент, а это придает взгляду телеологический характер. Американский социолог отметил также проблематичность сопоставления современных и традиционных обществ, которая связана с тем, что понятие «общество» применительно к разнообразным ситуациям может иметь разное толкование – речь идет о явлениях различного масштаба и, соответственно, разных способах анализа.
Вслед за критикой теории модернизации появилось множество попыток переосмыслить феномен модерна. В мою задачу не входят систематизация и критический разбор всех этих позиций; укажу лишь на несколько из них, чтобы показать общее направление рассуждений на данную тему.
Например, британский социолог Энтони Гидденс в книге «Последствия современности» попытался обойти или решить методологические проблемы, на которые указал Типпс4444
Giddens A. The Consequences of Modernity. Polity Press, 1990 (русский перевод: Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011). Об истории России с точки зрения более гибкого прочтения понятия модерна см.: Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / D. Hoffmann, Y. Kotsonis (eds.). McMillan Press Ltd.; St. Martin’s Press, Inc., 2000.
[Закрыть]. Вместо обществ он стал рассматривать модусы «дистанциации пространства и времени» как разные способы организации социальных отношений. Отказываясь от исторической телеологии и замкнутой в себе модерности, Гидденс выделил четыре институциональных кластера, которые автономны друг по отношению к другу и вместе определяют содержание современности, – капитализм, индустриализм, надзор и военная власть. Гидденс не отрицал, что модерность является по происхождению западным проектом, но, говоря о поздней модерности, или глобализации, он настаивал, что речь идет о «мировой взаимозависимости и планетарном сознании», в позднюю модерность включены «концепции и стратегии, которые происходят из незападного окружения»4545
Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 175.
[Закрыть]. Предложенная модель сохраняет, таким образом, универсалистскую перспективу для анализа истории и общественной жизни.
Попыткой выйти за пределы этноцентризма стало изучение множественной (полицентричной, альтернативной) модерности. Как писал израильский социолог Шмуэль Айзенштадт, «…процессы, на деле происходившие в модернизирующихся обществах, опровергают унификаторские и гегемонистские предпосылки, характерные для западного понимания модернизации»4646
Eisenstadt S. Multiple Modernities // Multiple Modernities / S. Eisenstadt (ed.). New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2002. P. 1.
[Закрыть]. Понятие множественной модерности позволяет различить разные институциональные и идеологические модели, которые являются современными и при этом связаны с особенностями культурных традиций и проделанного исторического пути. Это понятие позволяет также увидеть разнообразных акторов современности, даже если они привержены антизападной и антимодерной риторике, и их взаимодействие. Модерность не равна вестернизации, пишет Айзенштадт, хотя западная модель и является основной референтной ссылкой для остальных моделей. В ряду вариантов модерности он рассматривает советское общество и разного рода колонизированные сообщества, которые заимствовали элементы западной культуры и одновременно создали свои собственные, оригинальные программы и интерпретации модерна, воплотившиеся в разного рода местных идентичностях, коммунальных формах общежития и этикета, религиозных практиках и идеологиях, местных политических институтах и так далее. Тем не менее все эти модели сохраняют «базовые проблемы модерности», которыми, по мнению израильского социолога, являются глубокая рефлексивность, использование медиа, идеологизация и политизация дискуссии о современности, стремление осмыслить реалии «нового глобального контекста», высокая поляризация жизненного пространства, тотальные формы насилия4747
Eisenstadt S. Multiple Modernities. P. 21. См. также: McBrien J. Mukadas’s Struggle: Veils and Modernity in Kyrgyzstan // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2009. Vol. 15. № 1. P. 127—144.
[Закрыть].
Американский политолог Тимоти Митчелл выражает скептическое отношению к идее множественной модерности, справедливо указывая на то, что если модерность многовариантна, то неясно, в чем ее сила, которая позволяет ей становиться инструментом экспансии и власти4848
Mitchell T. Introduction // Questions of Modernity / T. Mitchell (ed.). Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2000. P. XII.
[Закрыть]. Митчелл предлагает иную концепцию. По его мнению, те социальные и политические практики, которые называются модерными, сложились как раз не в Европе, а в процессе ее взаимодействия с другими частями света; более того, он указывает, что эти практики зарождались нередко в колониях, а после этого уже переносились в метрополии. Именно в этом взаимодействии, продолжает исследователь, возникали и формировались представления о модерности и европейскости/западности с их претензиями на универсализм, единственность и гомогенизирующий эффект. Модерность производилась как западный мир, тогда как «…мир, лежащий за пределами Запада, должен был играть роль иного и внешнего, которое очерчивает пространство модерна»4949
Mitchell T. The Stage of Modernity // Ibid. P. 15—16.
[Закрыть].
Развивая свою идею о том, что модерность – это представление и даже своего рода инсценировка, Митчелл подчеркивает: «Модерн, как и капитализм, определяется стремлением к универсальности и однозначности <…> И все же полное единство и полная унификация в его рамках недостижимы. Каждый шаг на пути к модерну должен преумножать его общую глобальную историю, хотя на любом таком этапе возникают отклонения, создающие возможность противоречий, которые, в свою очередь, могут подтачивать единство и тождественность. В таком случае модерн становится не слишком адекватным, но неизбежным термином, описывающим все отклоняющиеся истории подобного типа»5050
Ibid. P. 24.
[Закрыть]. Иначе говоря, незавершенность – такая же черта современности, как и ее претензии на универсализм, этот разрыв обусловливает сложную игру вокруг категории модерности, с попытками ее присвоения, монополизации или, напротив, отторжения5151
С похожей точки зрения на модерность как на метаязык смотрит, например, американский историк искусств африканского происхождения Оквуй Энвезор, см.: Enwezor O. Modernity and Postcolonial Ambivalence // South Atlantic Quarterly. 2010. Vol. 109. № 3. P. 595—620.
[Закрыть].
Мне представляется, таким образом, что дискуссии о модерности идут в направлении усложнения понимания самого понятия модерности и способов его применения к тем или иным ситуациям. Парадокс в том, что выставленная оценка – неудача модернизации, неудовлетворенность ее результатами – не означает отсутствия существенных трансформаций, а сама по себе уже является чертой иного, чем прежде, восприятия истории и ценностей. В такой оценке уже заложены отношения, которые связывают между собой различные социальные пространства (называемые «традиционными» и «современными») и создают возможность обмена опытом и влияниями. Следовательно, тот факт, что среднеазиатское общество не стало индустриальным (капиталистическим, рациональным, секулярным и так далее), еще не говорит о том, что оно вообще никак не менялось или что эти изменения не были радикальными. Он скорее говорит о том, что в советском государстве Средней Азии отводилась определенная роль, для нее существовал собственный проект реформ и, соответственно, в ответ возникал свой опыт присвоения модерности.
Советскость
Еще одним источником вдохновения при написании книги стали для меня споры по поводу того, чем было советское время и каким образом нужно его описывать. Опять же, не буду подробно расследовать все нюансы этой дискуссии, а укажу лишь некоторые из поставленных в ее ходе вопросов, которые привлекали мое внимание и как-то пересекались с наблюдениями и размышлениями по результатам моего собственного исследования в узбекском кишлаке.
Один из вопросов я бы сформулировал, наверное, так: является ли советское общество итогом социального эксперимента, осуществленного группой облеченных властью или захвативших ее людей (большевиков или коммунистов), или же советское общество было многослойным конгломератом самых разнообразных классов, групп и сообществ, которые находились в непрерывном взаимодействии друг с другом? Или так: были ли советские люди винтиками советской машины, ее порождением и ее жертвой, либо они существовали как самостоятельные акторы со своими собственными интересами и представлениями, которые могли совпадать с интересами власти, а могли и противоречить им? В этих или несколько других вариациях данный вопрос стал активно обсуждаться среди американских историков в 1970—1980-е годы, что получило известность как спор тоталитарной школы и ревизионистской5252
В данном случае я не обсуждаю вопрос, насколько действительно такое разделение имело место. См.: Fitzpatrick Sh. Revisionism in Soviet History // History and Theory. 2007. № 46. P. 77—91; Fitzpatrick Sh. Revisionism in Retrospect: A Personal View // Slavic Review. 2008. Vol. 67. № 3. P. 682—704 (см. также обмен мнениями о ревизионизме: Ibid. P. 705—723).
[Закрыть].
О позиции ревизионистов можно судить, в частности, по работам американского историка из Чикагского университета Шейлы Фицпатрик. Она отвергает подход представителей так называемой тоталитарной школы, согласно которому советский человек был полностью подчинен абсолютной власти большевиков. Одной из главных тем ее книги «Сталинские крестьяне» становится сопротивление крестьян советскому строю5353
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001 (оригинал: Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York; Oxford: Oxford University Press, 1994). См. также работу другого историка-ревизиониста, где основной темой является особая крестьянская культура: Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York: Pantheon Books, 1985.
[Закрыть]. Сопротивление в трактовке Фицпатрик – это не обязательно вооруженные восстания и бунты, но еще и работа спустя рукава, мелкое воровство, невыходы в поле, уклонение от работы, бегство из деревни, разного рода слухи, антиправительственные и апокалиптические разговоры, различные способы саботажа, инакомыслия и так далее5454
Здесь Фицпатрик ссылается на работу Джеймса Скотта «Оружие слабых» (Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985).
[Закрыть]. Другая тема – стратегии «активного и пассивного приспособления», «манипулирования» государственными институтами в местных интересах, включая попытки крестьянина «поставить колхозы на службу собственным интересам», восходящим к представлениям об общине (моральном сообществе5555
Здесь Фицпатрик ссылается на другую работу того же Скотта: Scott J. The Moral Economy of Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press, 1976.
[Закрыть]): «Бóльшую часть всего происходившего в 30-е гг. можно рассматривать как процесс притирания, перетягивания, притяжения и отталкивания…», когда происходили постоянные «своего рода повседневные переговоры и соглашения», в результате которых государство порой шло на уступки, при этом «крестьянин мог привычно ругать колхозы <…> и столь же привычно <…> соглашаться с тем, что колхоз принес ему все мыслимые и немыслимые выгоды, причем ни одна из этих затверженных позиций не могла служить отражением его истинного мнения как мнения отдельного человека, имеющего свой собственный счет прибылей и убытков, принесенных колхозом ему лично, собственные претензии и стремления»5656
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 14, 18—19.
[Закрыть].
Придерживаясь той же логики, в следующей книге – «Повседневный сталинизм»5757
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: Социальная история советской России в 30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2001 (оригинал: Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York: Oxford University Press, 1999).
[Закрыть] – американская исследовательница делает ключевым понятием своего анализа повседневность, не упоминая больше о сопротивлении. Она опять обращается к теме стратегий выживания и продвижения, рассматривая сталинизм (или советский строй в целом) как «целый комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus»5858
Там же. С. 10.
[Закрыть]. Ее внимание соответственно смещается на этнографию советского общества и концентрируется на таких явлениях, как жилье (коммуналки и бараки), торговля и спекуляции, знакомства и связи, блат, новые формы бытового поведения, смена имен, развлечения, привилегии, ордена и знаки почета, спецпереселенцы, бомжи, семейные отношения, аборты, кухонные разговоры, самоубийства и так далее.
В книге «Срывайте маски» Шейла Фицпатрик пишет о формах самопрезентации советских людей5959
Fitzpatrick Sh. Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005 (русский перевод: Фицпатрик Ш. Срывайте маски: Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011).
[Закрыть]. Это исследование – о создании или, точнее, пересоздании идентичностей и о практиках (чистки, самокритика, доносы), которые сопровождали этот процесс. «Людям предстоит переосмыслить себя, сформировать или найти внутри себя личность, способную жить в постреволюционном обществе. Этот процесс поиска есть одновременно реконфигурация (новая интерпретация знаний о себе) и открытие (новое понимание собственной значимости). Он неизменно требует стратегических решений (“какое место я займу в новом мире?”), а порой стимулирует и глубокую онтологическую рефлексию (“кто же я есть на самом деле?”)»6060
Ibid. P. 3.
[Закрыть]. Фицпатрик рассматривает советские идентичности как эффекты, сконструированные внешними культурными и социальными порядками и нормами, при этом она употребляет метафору масок или ролей, которые человек разыгрывал в течение жизни, наполненной разнообразными ритуалами.
Книга «Срывайте маски» затрагивает тему, которая оказалась в центре новых дискуссий и провела новый концептуальный водораздел – на этот раз между условно называемыми ревизионистами и сторонниками изучения советской субъективности. Последние – их иногда называют новыми ревизионистами – в какой-то мере развивают идеи предшественников о том, что советские люди были самостоятельными акторами истории, а не марионетками в руках государства, и в то же время критикуют этих предшественников за то, что они превратили советскость в искусственную и поверхностную конструкцию, в маску, которую можно было надеть и снять. Главный тезис этой критики, проистекающий из фукольдианских идей6161
См., например: Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
[Закрыть], состоит в том, что власть – это более сложная и многомерная реальность, которая не локализуется в каком-то определенном месте, а пронизывает собой все представления, действия и практики. Это означает, что концепция противостояния или параллельного существования двух сфер – государственной власти (сталинского/советского режима) и общества – ложная, а это, в свою очередь, означает, что фокус исследования должен смещаться с изучения сопротивления или приспособления в сторону изучения стратегий и тактик освоения советскости, превращений ее в собственное «Я» жителями СССР.
Первым, как считается, сформулировал такой подход американский историк Стивен Коткин в книге «Магнитная гора: сталинизм как цивилизация». Он писал: «Сам большевизм, даже на стадии его вызревания, нельзя рассматривать просто как набор институтов, группу личностей или идеологию. Он всегда представлял собой совокупность наполненных содержанием символов и мировоззренческих установок, языка и новых форм речи, новых моделей поведения на публике и в частной жизни, и даже новых стилей одежды – короче говоря, непрерывный опыт, посредством которого можно было вообразить и воплотить в жизнь новую цивилизацию, называемую социализмом»6262
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1995. P. 14, 21—23 (русский перевод см.: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период / М. Дэвид-Фокс (сост.). Самара: Самарский университет, 2001. С. 250—328). Критика в адрес ревизионистов раздавалась не только со стороны поклонников французского мыслителя Мишеля Фуко, но и со стороны сторонников теории рационального действия, для которых анализ сопротивления с точки зрения теории моральной экономики выглядит слишком схематичным: Hughes J. Stalinism in Russian Province: A Study of Collectivization and Dekulakization in Siberia. Macmillan Press Ltd; St. Martin’s Press, 1996. P. 1—6, 209, 210, 213—215.
[Закрыть]. Аналитическим новшеством у Коткина, по сравнению с Фицпатрик, является более сильный акцент на том, как советский строй смог преобразовать человека и общество, как большевики смогли навязать свой язык, заставить или убедить людей «говорить по-большевистски» и «жить по-социалистически», принять ценности революционной утопии в качестве своих собственных. Коткин пишет о том, что советские люди имели «возможность изощренных, хотя и неравноправных, сделок с режимом», могли – до известного предела – «поторговаться» с ним, пытаясь его видоизменить, причем шли на это не только из простого расчета, но и принимая цели режима. Он отвергает попытки рассматривать советское общество в качестве варианта традиционной архаики (морального сообщества), будто бы сохранившейся под советской маской. Для него большевистская программа – вполне модернистский проект, который создавал современное, пусть и со своей спецификой, понимание человеком самого себя как индивида6363
См. также: Kotkin S. Modern Time: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika. 2001. Vol. 2. № 1. P. 111—164 (русский перевод: Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Мишель Фуко и Россия / О. Хархордин (ред.). М.; СПб.: Летний сад, 2001. С. 239—314).
[Закрыть].
С более, я бы сказал, радикальным желанием пересмотреть прежние подходы к исследованию советского общества выступил другой американский/немецкий историк Йохан Хелльбек, который назвал свою книгу «Революция в моем сознании»6464
См. его главную работу: Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard University Press, 2006.
[Закрыть]. Радикализм в данном случае заключается в том, что исследователь, используя фукольдианский подход, смотрит на советскость с точки зрения конструирования советской субъективности, советского «Я», которое осмысляется, описывается и создается в личных дневниках (а также в письмах, автобиографиях и так далее). Хелльбек возвращается, в частности, к понятию идеологии, от которого отказались ревизионисты. Он считает, что вместо изучения того, как люди сопротивлялись или приспосабливались к ней, необходимо обратить внимание на то, как идеология «распаковывалась» и «персонализировалась» в индивиде, превращая последнего в осознающего себя в качестве «советского субъекта»6565
Ibid. P. 12—13.
[Закрыть]. «Коммунистический проект, – объясняет историк, – может рассматриваться как грандиозный “Я”-проект по превращению несовершенных партикуляристских человеческих существ в универсальных социализированных субъектов»6666
Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком // Ab Imperio [далее – AI]. 2002. № 3. С. 222. Хелльбек добавляет, что «советский режим <…> был наиболее значительным, но не единственным фактором культурной среды сталинской эпохи. Другими дополнительными факторами, влиявшими на репрезентацию и интерпретацию “Я”, являлись религия и воспоминания о досоветских политических и моральных ценностях» (Там же. С. 223).
[Закрыть]. Важно уточнить, что это не означает возвращения к тоталитарной модели, поскольку Хелльбек наделяет отдельного человека правом не только слепо следовать идеологической доктрине, но и интерпретировать ее, достраивать, изменять, даже сопротивляться и оспаривать, оставаясь в рамках того понимания модерного «Я», которое было обусловлено советской доктриной6767
О теоретических позициях сторонников школы советской субъективности и их критике см.: Форум: Анализ практик субъективизации в раннесталинском обществе // AI. 2002. № 3. С. 209—417. Свои версии анализа советской субъективности предложили другие авторы: Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2000; Siegelbaum L. Introduction // Stalinism as Way of Life: A Narrative in Documents / L. Siegelbaum, A. Sokolov (eds.). New Haven; London: Yale University Press, 2000. P. 1—27; Хархордин О. Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности. М.; СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2002 (английский перевод: Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. University of California Press, 1999).
[Закрыть].
Хелльбек свой анализ применяет только к сталинскому или раннесоветскому времени, а о позднесоветском пишет неопределенно как о времени «зрелого цинизма» и «двойственного языка»6868
Хелльбек Й. «Советская субъективность» – клише? // AI. 2002. № 3. С. 402.
[Закрыть]. Это кажется несколько странным, поскольку именно в 1970—1980-е годы советская субъективность стала способом людей мыслить о себе и окружающем мире, «говорить по-большевистски» (если воспринимать слово «большевистскость» как синоним советскости) стало означать «говорить обыденной речью». Более того, именно в 1970—1980-е годы государство не прибегало к репрессиям, чтобы с помощью насилия заставить гражданина быть советским человеком. Советский человек создавал себя сам, на основе тех дисциплинарных практик, о которых писал Фуко. Этому позднесоветскому парадоксу посвятил свою книгу «Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение» американский антрополог (родом из Ленинграда) Алексей Юрчак6969
Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was no More: The Last Soviet Generation. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006.
[Закрыть].
Юрчак не принимает участия в споре между старыми и новыми ревизионистами и не ссылается ни на Фицпатрик, ни на Хелльбека, но его размышления разворачиваются вокруг тех же вопросов, которые обсуждают историки сталинизма7070
Тем не менее Шейла Фицпатрик написала весьма критическую рецензию на книгу Юрчака, см.: Fitzpatrick Sh. Normal People // London Review of Books. 2006. Vol. 28. № 10. P. 18—20. Ответ Юрчака: London Review of Books. 2006. Vol. 28. № 12. P. 7.
[Закрыть]. Как и сторонники модели советской субъективности, он видит проблему в бинарном описании советской действительности (официальная культура и контркультура, официальная и теневая экономика, тоталитарный язык и контръязык, публичная и частная субъектность, реальное поведение и притворство и так далее). Как и сторонники модели советской субъективности, американский антрополог российского происхождения обращается к анализу дискурса и форм знаний, которые не даны в каких-то зафиксированных состояниях, а постоянно воспроизводятся и реинтерпретируются в повседневности.
Алексей Юрчак полагает, что в 1950-е годы, после смерти Сталина, идеологический дискурс претерпел «гипернормализацию» и стандартизацию, в результате чего поиск правильной его интерпретации сменился простым исполнением ритуалов, указывающих на идеологическую лояльность. Поскольку же смысл идеологем стал менее важным, то у людей появилась возможность, сохраняя эту самую лояльность, создавать «новые, непредвиденные смыслы, интересы, виды деятельности и типы существования», которые могли как-то соотноситься с идеологемами, противоречить им или просто находиться в каком-то параллельном сосуществовании с ними. Однако эти практики не были сопротивлением советскому режиму: «Им не обязательно было конфликтовать с политическими и идеологическими установками системы; еще более важно то, что им даже позволялось пользоваться возможностями, ресурсами, положительными идеалами и этическими ценностями, предлагаемыми системой, избегая при этом негативного и репрессивного давления с ее стороны»7171
Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was no More. P. 28 (см. также: Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // Неприкосновенный запас. 2007. № 2. С. 81—97).
[Закрыть]. Позднесоветский режим, утверждает Юрчак, создал условия для сосуществования множества различных стилей жизни, которые были одновременно внутри и вне советскости, воспринимались как нормативные и как свои.
Споры о советскости позволяют, как мне кажется, переформулировать проблему традиционности/модерности в проблему производства эмоций, идентичности, лояльности, идеологии, культурных практик, уйдя от жесткого экономического детерминизма, который все еще нередко подразумевается, когда речь заходит об успехах или неудачах произошедших в XX столетии изменений. Была ли, стала ли Средняя Азия «советской» и что это означало, какие смыслы вмещало в себя это определение, какие последствия и эффекты влекла за собой принадлежность к сфере советского? Такого рода вопросы дают возможность перейти от внешней оценки состояния общества к внутренней (само)-интерпретации людьми своего опыта.
Колониальность
Для Фицпатрик, Хелльбека и Юрчака не актуален вопрос об имперской природе советского строя, хотя в их работах постоянно фигурируют ссылки на исследователей (пост)колониализма. Они спорят о природе власти, о том, как последняя реализует свои проекты – с применением насилия или с помощью идеологии, – о способности людей сопротивляться, приспосабливаться, формировать свое «Я» и свои идентичности, находиться одновременно внутри и вне идеологии. В этих исследованиях, за редким исключением7272
Пожалуй, лишь историк Линн Виола различает крестьянскую культуру и большевистскую, описывая экспансию последней как колониализм (см.: Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York; Oxford: Oxford University Press, 1996). О внутренней колонизации применительно к Российской империи см.: Эткинд А. Фуко и имперская Россия: Дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко и Россия. С. 166—238; Он же. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // AI. 2002. № 1. С. 265—298; Он же. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2014; см. также: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин (ред.). М.: Новое литературное обозрение, 2012.
[Закрыть], не ставится вопрос о культурных различиях, о том, как отношения власти преломляются в них. Отчасти это связано, видимо, со спецификой источников – все упомянутые авторы пишут главным образом о России и населении русских регионов, не сравнивая их с нерусскими частями СССР. Возможно, однако, что исследователи не видят какой-то особой колониальной специфики советского строя, а имеющихся в их распоряжении понятий власти, тоталитаризма, сопротивления самих по себе для них вполне достаточно, чтобы описывать реалии советского времени.
Тем не менее в историографии существует отдельное направление, которое занимается изучением советской национальной политики и форм советскости в нерусских регионах. Среди американских историков развернулась дискуссия: являлся ли СССР империей и можно ли отношения между разными частями советского общества рассматривать как колониальные? В качестве примера могу привести две точки зрения по вопросу о советской национальной политике 1920—1930-х годов – Терри Мартина и Фрэнсин Хирш7373
Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923—1939. М.: РОССПЭН, 2011 (оригинал: Martin T. The Affirmative Action Empire: Nation and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001); Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005.
[Закрыть]. Мартин считает неверным называть советское государство империей, имея в виду классические империи XIX века, и предлагает более витиеватое название – «империя положительной деятельности» (или, как чаще переводят, «позитивного действия», есть и еще один вариант – «позитивной дискриминации»), которая не столько угнетает окраины, сколько предоставляет им привилегии и даже помогает создавать сами нации вопреки, казалось бы, идее, что нации подрывают империю7474
Мартин Т. Империя «положительной деятельности». С. 33—34. Применительно к советской Средней Азии см. также: Khalid A. The Soviet Union as an Imperial Formation: A View from Central Asia // Imperial Formation / A.L. Stoler, C. McGranaham, P. Perdue (eds.). Santa Fe; Oxford: School for Advanced Research Press, James Currey, 2007. P. 113—139; Luong P. Introduction: Politics in the Periphery: Competing Views of Central Asian States and Societies // The Transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet Rule to Independence / P. Luong (ed.). Ithaca and London: Cornell University Press, 2004. P. 1—26.
[Закрыть]. Хирш, признавая особенности политики СССР, говорит, что ее интересует вопрос не «что», а «как»; при этом она обращается за помощью к работам Бенедикта Андерсона, Николаса Диркса и Бернарда Кона7575
Имеются в виду работы: Cohn B. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India. Princeton: Princeton University Press, 1996; Dirks N. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton: Princeton University Press, 2001; Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Press, 1983 (русский перевод: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001).
[Закрыть], в которых анализировались «культурные технологии управления» и колониальное доминирование в европейских империях7676
Hirsch F. Empire of Nations. P. 4—5, 12—15. Целый ряд других исследователей прямо используют колониальную рамку для изучения советской Средней Азии, см.: Michaels P. Curative Power: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003; Northrop D. Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
[Закрыть].
Пожалуй, наиболее остро ставит вопрос об имперской природе СССР немецкий историк Йорг Баберовски в книге «Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе»7777
Баберовски Й. Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН, 2010 (оригинал: Baberowski J. Der Feind ist überall: Stalinismus im Kaukasus. Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2003).
[Закрыть]. Изучая политику Российской империи и СССР (в 1920—1930-е годы) в мусульманских регионах Закавказья, он приходит к однозначному выводу не только о колониальном характере большевистской власти и столкновении разных культур, но и о том, что «большевистский стиль насилия» родился на периферии и лишь потом был перенесен в центральные регионы России, и, соответственно, «феномен сталинизма можно понять только в его имперском измерении»7878
Там же. С. 517.
[Закрыть]. Впрочем, многие исследователи склонны видеть в СССР скорее своего рода «гибридную целостность, комбинирующую элементы централизованной империи и высокомодернистского государства», что несколько размывает аналитическую схему, но в то же время позволяет гибко описывать советское общество с разных позиций7979
Dave B. Kazakhstan: Ethnicity, Language and Power. London and New York: Routledge, 2007. P. 15. См. также: Beissinger M. Soviet Empire as «Family Resemblance» // Slavic Review. 2006. Vol. 65. № 2. P. 294—303; Блитстайн П. Нация и империя в советской истории, 1917—1953 гг. // AI. 2006. № 1. С. 197—219; Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства / И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семенов (ред.). Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 163—196.
[Закрыть].
Вопрос о колониальности в СССР отчасти (но не полностью) пересекается с проблематикой сталинизма/советскости и представляет собой новый ракурс, который обычно выпадает из поля зрения ученых, занимающихся этой эпохой. В частности, с точки зрения ревизионистов, возникает дополнительный вопрос – создавала ли риторика «старших» и «младших» братьев, с ее требованием признавать элементы русской/российской культуры в качестве базовых, какие-то новые разграничительные линии, новые механизмы доминирования, сопротивления и приспособления? В аспекте проблемы советской субъективности вопрос состоит в том, была ли такая субъективность у населения, которое могло воспринимать себя (или представляться) чужим по отношению к основному – русскому или российскому – обществу?
Ссылка на колониальность кажется естественной и даже привлекательной8080
См.: Адамс Л. Применима ли колониальная теория к Центральной Евразии? // Неприкосновенный запас. 2009. № 4. С. 25—36 (оригинал: Adams L. Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia? // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 1. P. 2—8). См. реплику на эту статью тюрколога Эдварда Лаззерини: Lazzerini E. «Theory, Like Mist on Glasses…»: A Response to Laura Adams // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 2. P. 3—6. См. также: Moore D. Is the Post– in Postcolonial the Post– in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // Publication of the Modern Languages Association. 2001. Vol. 116. № 1. P. 11—128; Chari Sh., Verdery K. Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol. 51. № 1. P. 6—34; Kandiyoti D. Post-Colonialism Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia // International Journal of Middle East Studies. 2002. Vol. 34. № 2. P. 279—297; Ремнев А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // AI. 2011. № 1. С. 169—205.
[Закрыть]. Во-первых, она позволяет увидеть культурные различия между разными группами советского населения и ввести культурное измерение в анализ отношений власти. Во-вторых, она дает возможность раздвинуть рамки анализа и включить в поле зрения не только советское время, но и период вхождения Средней Азии в состав Российской империи, то есть принять во внимание более длительную временнýю перспективу и сравнить споры о советском обществе со спорами о типичности или нетипичности Российской империи8181
См.: Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851—1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. № 1. P. 74—100; Khalid A. Russian History and the Debate over Orientalism // Kritika. 2000. Vol. 1. № 4. P. 691—699; Knight N. On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // Ibid. P. 701—715 (последние две статьи в русском переводе: Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет / П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер (сост.). М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 311—323; Найт Н. О русском ориентализме (ответ Адибу Халиду) // Там же. С. 324—344). См. также: Горшенина С. Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или Войдет ли постсоветская Средняя Азия в область post-исследований // AI. 2007. № 2. С. 209—258 (французский перевод: Gorshenina S. La marginalité du Turkestan colonial russe est-elle une fatalité ou l’Asie centrale postsoviétique entrera-t-elle dans le champs des Post-Studies? // Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? / S. Gorshenina, S. Abashin (dir.). Cahiers d’Asie Centrale. 2009. № 17/18. P. 17—76).
[Закрыть]. В-третьих, ссылка на колониальность позволяет произвести сравнительный анализ опыта СССР с опытом мировых империй.
Однако само по себе называние СССР империей не упрощает задачу анализа. В исследованиях нет какой-то единой точки зрения по вопросу, что такое империя, а сами такого рода исследования по своему размаху на порядки превосходят всю литературу о советском времени, опираются на разные и даже противоречивые подходы. Приведу несколько примеров.
Книга американского литературоведа палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», которая вышла в свет в 1978 году, сразу после опубликования стала мировым интеллектуальным бестселлером8282
Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006 (оригинал: Said E.W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New York: Pantheon Books, 1978; в 1995 году Саид добавил к книге послесловие, а в 2003 году – предисловие). См. также: Said E. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993.
[Закрыть]. Саид продемонстрировал, и весьма ярко, что знание о Востоке (научное, литературное, изобразительное), последние столетия формировавшееся в европейских странах, никогда не было нейтральным по отношению к практике завоевания и подавления, которую Европа осуществляла во взаимоотношениях с неевропейскими культурами и территориями. Это знание, каким бы оно ни было – более правдивым или более ошибочным, более негативным или более положительным, всегда являлось инструментом колониального угнетения. Ориентализм как способ мысли был также «западным стилем доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком»8383
Саид Э. Ориентализм. С. 10.
[Закрыть]. Саида прежде всего интересовало, как европейские политики, ученые, художники дискурсивно создают образ «Востока» и как в этом образе формируется зависимое положение неевропейских культур, поэтому для него были важны ссылки на рассуждения Мишеля Фуко о вездесущем характере власти и рефлексия итальянского коммуниста Антонио Грамши о гегемонии.
Несколько иначе расставляют акценты приверженцы изучения так называемых угнетенных, или подчиненных (subaltern studies). Основатель этого направления в науке, индийский историк Ранаджит Гуха, в книге «Элементарные особенности крестьянских мятежей в колониальной Индии» оспаривал две позиции – марксистскую и национальную, согласно которым, поскольку в мятежах в колониальной Индии XIX века не было заметно ни классового, ни национального начала, их следует считать спонтанными и иррациональными8484
Guha R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford University Press, 1983.
[Закрыть]. Гуха же находит в этих событиях их собственную логику, указывая, что крестьянская культура имеет ряд специфических черт (в том числе общинность, разного рода региональные и кастовые лояльности, ритуальные формы поведения, «негативное сознание» и так далее), которые определяют практики и идентичности мятежников во время беспорядков. Эту скрытую культуру индийский историк, живущий в Европе, называет культурой подчиненных, подчеркивая тем самым, что элитные идеологии заставляют ее молчать и подчиняют своим схемам и интересам.
В 1990-е годы школа изучения подчиненных стала разворачиваться в сторону более критического рассмотрения европейского знания в целом и в направлении поиска аутентичных форм «своей» культуры, которые существуют за пределами западного влияния и сопротивляются ему8585
См. также: Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.
[Закрыть]. Важными для такого поворота стали работы Эдварда Саида и Джеймса Скотта, а также М. Фуко и Ж. Деррида.
Индийско-американский историк и политолог Парта Чаттерджи в книге «Нация и ее фрагменты» отказался от преимущественно марксистских рамок дискуссии, которую вел Гуха, и сосредоточился на анализе националистического прочтения колониализма8686
Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
[Закрыть]. Чаттерджи обратил внимание на парадокс: с одной стороны, идея нации была изобретена в Европе и привнесена в колонии как элемент модернизационного проекта колонизаторов, а затем заимствована местной элитой, осознавшей себя национальной, с другой же стороны, местный национализм принял антиколониальную форму и пытался отличить себя от Европы, осознать свою самость. Чаттерджи предложил разграничить мир колонизированных на две части – внешнюю (или материальную) и внутреннюю (или духовную). Во внешней части господствовал политический национализм и индийская элита говорила на универсалистском европейском языке, заимствуя у той же Европы идейный словарь и технические достижения. Внутренняя же часть, которая включала в себя язык повседневного общения, семью, женщину, общину, разные региональные и религиозные идентичности, оставалась сферой, где местные жители были самостоятельными акторами, строящими свою социальную жизнь и историю, неподвластные колониальному проектированию.
Попытку преодолеть эссенциалистские мотивы, которые неизбежно возникали при разделении внешнего и внутреннего миров, предпринял американский историк индийского происхождения Гиян Пракаш. В целом ряде работ он предложил обратить внимание не столько на разделение колонизаторов и колонизированных, сколько на сложное их взаимодействие, на противоречивое расщепление идентичностей и практик8787
См., например: Prakash G. Subaltern Studies as Postcolonial Criticism // American Historical Review. 1994. Vol. 99. № 5. P. 1475—1490; Prakash G. After Colonialism // After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements / G. Prakash (ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995. P. 3—17; Prakash G. Can the Subaltern Ride? A Reply to O’Hanlon and Washbrook // Comparative Studies in Society and History. 1992. Vol. 34. № 1. P. 168—184. Последняя статья была ответом на критику: O’Hanlon R., Washbrook D. After Orientalism: Culture, Criticism and Politics in the Third World // Comparative Studies in Society and History. 1992. Vol. 34. № 1. P. 141—167.
[Закрыть]. Проблематика доминирования и сопротивления, критика универсалистских нарративов остались в поле зрения Пракаша, но в большей степени он стал подчеркивать их неоднозначность и погруженность в исторический контекст. Пожалуй, это была попытка выйти за рамки школы изучения подчиненных, хотя ученый настойчиво определял себя в качестве ее последователя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































