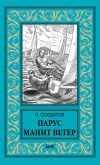Читать книгу "Хлебозоры"

Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сергей Алексеев
Хлебозоры
1. Великаны
Черемуха после войны раньше всех на ноги встала…
Березы вокруг Божьего озера еще только-только поднимались, еще чернели средь молодняка кругляши крепких пней, еловый же подросток и вовсе едва успел от земли отряхнуться, а вырубленная начисто черемуха за несколько лет выметала новые побеги, разрослась густо, зацвела буйно и запахла до головокружения. Ей бы еще расти да расти, как всякому молодому дереву – весело и бездумно, не помышляя о плодоношении, но послевоенная черемуха, видно, тоже не знала детства: росла круто, колосилась рано и ни один год не было пустоцвета.
Отец мой к той поре немного оживал. Он надевал чистую рубаху, просил, чтобы достали из сундука галифе и гимнастерку, однако еще не вставал с кровати, а лишь примеривался встать. Он подтягивался к окну, отвернув занавеску, глядел на улицу, затем бережно садился, спускал желтые ноги и подолгу играл завязками кальсон, как играет с веревочкой слабый, болезненный котенок.
Так он пережидал черемуховые холода, которые сваливались на оттаявшую и согретую землю, на свежую траву и потеплевшую нашу речку Рожоху. И когда наконец ее берег охватывался белым и отражался в тихой, стекленеющей от задумчивости реке, отец подзывал меня и вскидывал руки. Двенадцатилетним, я без труда натягивал на него гимнастерку, галифе, осторожно переворачивал со спины на живот, а если и надо – поднимал с кровати, подставляя плечо. Отец за все послевоенные годы иссох, истерся о казенные и домашние простыни, словно материно серебряное колечко на пальце. Уже тогда мне казалось, что жизнь держится в нем, как в мелком блюдце: чуть качни и – расплещется до капли.
А отец был еще молод, немного за тридцать.
Ждал тепла после черемуховых холодов не только мой отец, и не только он оживал. В первый же вёдренный день на Рожоху шли другие инвалиды – такие же молодые мужики, сопровождаемые сыновьями-няньками, шли старики и ребятишки, старухи и редко – беременные женщины. Одним словом, все домочадцы по-весеннему пустующих Великан. Здоровая часть населения тем временем пахала и сеяла на колхозных полях либо работала на ферме и в свинарнике.
От нашей избы до Рожохи было близко, но шли мы с отцом долго, хотя отец всегда торопился посидеть на цветущем берегу и посмотреть на воду, пока мать не пришла с утренней дойки. Мы обязательно останавливались у единственного в Великанах колодца, я выкручивал бадью и поил отца. Он пил маленькими глотками, через край, переводя дух, радовался:
– До чего же легонькая вода-то. Пьешь – ровно воздухом дышишь.
Вода в нашем колодце и правда была особенная, и это подтверждали все жители окрестных деревень. Едет кто мимо – непременно завернет, чтоб напиться, да еще баклагу с собой нальет. Похоже, колодец питал какой-то подземный родник, который проходил лишь в одном месте. Сколько ни пробовали копать вокруг – вода была точь-в-точь как в Рожохе.
Напоив отца, я выливал воду обратно в колодец, закрывал крышку, и мы шли дальше. Уже по дороге отец жадно вдыхал запах черемухи, блаженно тянул носом и тяжело тряс головой.
– Видишь, Степан, не цвела долго черемуха, так теперь свое берет, – говорил он каждый раз одно и то же, лишь с растущей грустью. – От корня ишь как быстро разрастается! Если б от семечка – долго ждать, а от корня надежней…
Жизнь в то время воспринималась в одном измерении – в детском, и я соглашался с отцом. Да и опыт лесопосадок уже был: весной и осенью мы шелушили сосновые шишки, веяли зерно и сеяли его на питомнике. Из семечка дерево росло так, что не дождешься. А из черемухового или талового кола, забитого в землю, за одно лето выгоняло метровые стебли и листья лопухами. К тому же семена всходили не все, а из тех, что всходили, больше половины потом засыхало на первом году. Как ты над саженцем ни трясись, как ни поливай, как от солнца ни загораживай, глядишь – обвял и изжелтел на нет. Так что отцовы размышления были мне знакомы.
И вот мы наконец приходили на берег Рожохи. Отец отпускал мое плечо и ухватывался за молодой черемушник, чтобы постоять и оглядеться. Он сдержанно кивал инвалидам, которые уже были на реке, щурил на солнце глаза и дышал глубоко, насколько позволяли изорванные в клочья легкие. Река возле Великан делала изгиб и уходила дальше, образуя подкову. Я знал, что Рожоха километров через сто впадает в большое озеро, а то, в свою очередь, соединяется рекой с другим озером, откуда берут начало еще несколько рек, однако все это было далеко и незнакомо. Бывалые мужики, исходившие землю вдоль и поперек, говорили, что мы живем чуть ли не в центре всей России. Но в детстве при упоминании слова «Россия» перед глазами всегда возникали наша речка, Божье озеро и несколько деревень в округе, где я побывал к тому времени. Одним словом, рожохинский угол, как называли это место мужики. Когда я приводил на берег отца и он начинал осматриваться, мне казалось, что ему хочется одним взглядом сразу увидеть весь наш угол. Он вытягивал шею и даже привставал на цыпочки, словно заглядывал в высокую бочку.
– Эх, на ту сторону охота! – иногда говорил он. – На том бы берегу полежать!
– Погоди, Павло! – смеялись инвалиды. – Не торопись. Скоро все на ту сторону попадем!
Отец на это обижался и хмурился.
Тепло выводило на свет божий всех больных и лежачих, а тем временем хозяйки выносили, развешивали по пряслам и плетням матрацы, подушки, одеяла – проветривали слежавшиеся за зиму постели. И если набегал ветер, то все кругом пузырилось и трепетало – белая черемуха, рубахи на плечах мужиков-инвалидов, холстинные простыни. Мне всегда казалось, что в Великанах наступил какой-то праздник…
Отец быстро уставал, и тогда я усаживал его на кромку берега. В беседах-разговорах он почти не участвовал, а только озирался по сторонам, следил за стрижами, слушал и нюхал веник из черемухового цвета. Когда он совсем уставал, я приносил попону, укладывал, и отец скоро придремывал, однако все слышал и чувствовал. Случалось, он крепко засыпал под разговоры, но потом, проснувшись, мог пересказать все, о чем шла речь на берегу.
Такая способность у него появилась после войны, а раньше, рассказывала мать, он спал как убитый, и хоть из пушки стреляй – не услышит.
Сидеть возле отцов-инвалидов было тоскливо, слушать их байки скучно. Если бы про войну что-нибудь говорили, а то разведут беседу, как бабы на посиделках: кто как раньше жил да в парнях гулял. Послушаешь, и сомнение берет: были ли они на войне-то? Больно уж робкие какие-то, не геройские. Берег рядом обвалится, так вздрогнут все разом, встрепенутся, как голуби от выстрела, и давай нас от воды понужать. А на вид – все фронтовики, в гимнастерках, битые, контуженые, безрукие-безногие. И вообще в то время почему-то не любили войну вспоминать, видно, нахлебались ее по горло. У моего отца совсем никакой фантазии не было. Лежим с ним на берегу, а в небе где-то бекасы летают, невидимые. Весенними вечерами у них гон начинается: поднимется бекас высоко-высоко, а потом растопырит хвостовые перья и пикирует к земле. Звук получается, будто у штурмовика над передовой. Когда я отцу об этом сказал, он лишь печально головой покивал:
– Дурак ты, Степка… Это же бекас летает, куличок такой. А у самолетов-то звук другой, совсем другой… Аж нутро выворачивает.
Если на берег не приходил Колька Смолянин, мы так и маялись от скуки. Ведь никуда же не отойдешь далеко, отцам да дедам то попонку перестелить, то попить, то еще чего, пока они от черемухового запаха не разомлеют и не заснут. Кольке приводить на берег было некого, потому он болтался в одиночку и поджидал нас в черемушнике. Мы бегали к нему в кусты, приносили табаку, спички – заранее задабривали, чтобы он дал мячик поиграть в лапту. Настоящий резиновый мяч был один на все Великаны. Когда наконец наши засыпали, мы собирались на краю поляны и еще долго сидели, ожидая Ильку-глухаря. Его безрукий отец был самым неугомонным, толкал засыпающих, будил и просил поговорить с ним. А еще знаками просил Ильку вертеть ему самокрутки, одну за одной. Знаки он давал губами и на первый взгляд все одинаковые – что закурить, что попить-поесть, но глухонемой Илька все сразу понимал. Играть мы не начинали без него потому, что Колька ждал Илькиного кисета, чтобы завернуть настоящую козью ножку. Уворованного нами табака хватало на две затяжки, а Илька же курил в открытую и владел отцовым кисетом. И вот когда Колька пихал в карман горсть Илькиной махорки и доставал мячик, начиналась игра. Редко когда мы наигрывались вдосталь. Обычно чей-нибудь отец просыпался, звал к себе, и тогда просыпались другие, начинали проситься домой, поскольку вечерело и от Рожохи тянуло сыростью. Но чаще всего Кольке просто надоедало, он ловил мяч, прятал его и садился в черемушнике курить. Мы бегали на берег глянуть на своих мужиков, и если там все было в порядке, шли к Кольке и у нас начинался свой разговор.
– Что, ребзики? – спрашивал Колька. – Кто сегодня со мной к Любке пойдет? Я ей скажу, она даст.
Мы помалкивали, а он сдержанно смеялся, покуривал, сбивая пепел указательным пальцем.
– Ладно, подрастете – возьму кого, – снисходительно обещал он. – Салапеты еще, гвоздики…
Колька был старше меня года на два, но уже испытал все на свете. Однажды мы поиграли в лапту – еще сыро было на поляне, кое-где снег лежал и наши неходячие отцы с дедами по избам лежали, – и Колька позвал нас на конбазу.
– Хотите поглядеть? – таинственно спросил он. – Кто хочет – айда!
Мы пошли все, поскольку отставать было нельзя и отказываться тоже. Колька зашел в конюшню к Любке, которая выгребала навоз из денников, а мы залезли на сеновал и спрятались в застрехах. Скоро на сеновале появилась Любка. Она упала на сено, покачалась на нем и затихла. Было ей тогда лет двадцать, а может, и больше, мне она казалась старой и страшной – одутловатое лицо, глаза навыкат и постоянная гримаса, будто подкрадывается к кому-то и хочет схватить. Родом Любка была из немцев, которые приехали в Великаны откуда-то с запада, еще в войну. Мы лежали в застрехах и боялись дыхнуть, ожидая, что будет, а Любка опять стала качаться на сене. Потом пришел Колька и не успел сесть рядом, как она вцепилась в него и тихонько засмеялась. Колька пыхтел, боролся с ней, а Любка смеялась все громче и громче. И от этого смеха стало страшно. Я зажмурился, вскочил и, пробежав мимо них, прыгнул в дыру, через которую подавали сено в конюшню. И следом, чуть ли не на голову мне, попрыгали все остальные ребятишки. Мы убежали на Рожоху и сели на лап-тошной поляне. Илька-глухарь вдруг отвернулся и заплакал. Мы не знали, отчего он плачет, потому что страх и ужас давно прошли, теперь было смешно и жгуче-интересно все, что видели на сеновале. Мы отчего-то громко хохотали, а Илька плакал все горше и горше, затем вообще встал и ушел в черемушники, выписывая кривули по оттаявшей, грязной земле.
– Что сбежали? – появившись, спросил Колька и усмехнулся. – Баба, как осока, неумело возьмешь – руки обрежешь.
Мы смотрели на Кольку с уважением, а он нас презирал.
– Теперь тебе жениться на ней придется, – сказал я. – А она страшная такая…
– Дураки, – сказал Колька. – Она же ненормальная и немка.
После этого случая он не то чтобы вырос в наших глазах, а вселил какую-то опаску и восхищение одновременно. Он был слишком не похож на нас, и наши маленькие дела и заботы, наверное, казались ему мелочью, детской глупостью.
Обычно все наши посиделки на берегу заканчивались военными рассказами. А попросту мы начинали хвастаться друг перед другом своими отцами и дедами, но поскольку не знали про их подвиги, то врали безбожно и лихо, придумывая отцам геройство. Или, перебивая друг друга, гордились их ранами. И побеждал тот, у кого батя признавался самым искалеченным.
– У моего ноги нет! – кричал один. – Осколком, как бритвой, срезало!
– А у моего обеих! – доказывал другой. – У моего бомбой оторвало! Да еще шесть осколков достали! Вот таких!
– Да моего двенадцать раз в госпитале резали! В документах сказано – из кусков собрали!
У кого не было отцов, те помалкивали и глядели с пренебрежением. У моего же отца руки-ноги были на месте, и в госпитале ни одной операции не делали, хотя он провалялся там целых три года. Но зато моего отца в сорок третьем убили, и похоронка в Великаны приходила. Мне всегда было обидно, что на нем нет шрамов, если не считать одного между ребер в правой стороне. Да и на шрам-то не походила красная полоса, скорее, на зажившую царапину. Однако и такого шрама никто не видел, отец не любил говорить о своей ране, тем более никому не показывал.
Кольку Смолянина такие разговоры вообще не интересовали. Едва они начинались, как он уходил, поигрывая мячиком. Мы-то знали, отчего так, лишь вслух сказать не могли, стеснялись. В войну Колькина мать украла полмешка муки в колхозе, и ее посадили. А в тюрьме у нее родился Колька. И тогда мать отпустили домой. Бабы в Великанах говорили, что она легко отделалась, и всегда почему-то жалели Смоляниху и самого Кольку, старались подкормить, угостить, словно были виноваты перед ними. Но Колька был гордый и никаких угощений не принимал. У него среди взрослых даже были настоящие враги. Один из них – дядя Леня Христолюбов. Колька ненавидел его люто, и в детстве мне казалось, я знаю причину… Дядя Леня любил играть в лапту с мальчишками, хотя ему за сорок было. Чуть услышит гвалт на поле – уже тут как тут. Ребятишки принимали его в команду на равных, и он голил в поле вместе со всеми, бегал, высунув язык, скакал козлом или ловко падал, когда его хотели осалить. Однажды мы играли с дядей Леней в одной команде, и в самый разгар Колька схватил мяч, спрятал в карман и подался в кусты на перекур. Дядя Леня уговорил сыграть еще, и Колька подал ему мяч, но дядя Леня врезал по нему так, что он со свистом улетел от поскотины до самой реки. Все думали, что мяч упал где-нибудь на берегу, возле дремлющих инвалидов или в цветущем черемушнике, но когда прибежали на реку, бодрствующий Илькин батя показал губами на середину. Мяч плыл к повороту, словно вмерзнув в остекленевшую воду. А рядом как назло ни лодки, ни плота, а вода весенняя, ледяная… Колька сначала бросился на дядю Леню с битой, но остановился в шаге, и слезы брызнули из его побелевших глаз. Затем он кинулся к берегу, сорвал с себя рубаху, штаны и нырнул. Мужики всполошились, кто-то уже гнал ребятишек за лодкой, кто-то охал – утонет малец! Ведь за мячик утонет! Но Колька уже догнал мяч, схватил его зубами и поплыл к берегу. Он выскочил из воды, не выпуская изо рта мячик, поднял свою одежду и пошел в деревню. В глазах у меня остались лишь его белое от напряжения лицо и черный рот…
Для детства причина ненависти была самая основательная и не вызывала сомнений. У дяди Лени среди ребятни, да и среди взрослых тоже не было врагов, кроме Кольки, хотя дядя Леня работал лесником и заведовал всеми лесами вокруг Божьего озера. Только вот почему-то мой отец недолюбливал его. Стоило ему появиться на берегу – а он приходил непременно, едва лишь замечал инвалидов, – как отец просил перенести попону за кусты, брел туда сам и уж больше не дремал и меня не отпускал ни на шаг. И дядя Леня к нам не подходил, сидел с фронтовиками и что-нибудь рассказывал, хохотал, отчего дремлющие инвалиды веселели, оживали и – слышно – вспоминали войну, только смешные из нее случаи. Дядя Леня дня не был на передовой, угодив в охрану завода, однако про войну рассказывал блестяще: волосы дыбом и кровь в жилах стыла. Все знали, что он сочиняет и врет, но слушали с удовольствием, разинув рты, и не считали болтуном. Только отец иногда ворчал:
– Ну, понес… Тыловая крыса. И вся ихняя порода такая…
В то время я не понимал этой обиды и как-то раз, дома, стал рассказывать сказки про Божье озеро, которых уйму знал (или придумал сам) дядя Леня. Говорил взахлеб, а отец почему-то смурнел и печалился, хотя слушал.
– Хватит болтать! – вдруг оборвала меня мать. – Нагородят тебе семь верст до небес, а ты и слушаешь… Большой уже, понимать должен!
Я не понимал и не знал, что должен понимать. Дело в том, что меня тянуло к дядя Лене, впрочем, как и другую великановскую ребятню. Я чувствовал, как и дядя Леня тянулся ко мне: встретит – обязательно в гости позовет и обязательно сунет гостинец, словно специально лежащий в кармане, – несколько конфет, баранку, пряник. А если в лапту играть, то спросит сначала, в какой команде я, и непременно попросится ко мне. Или поймает на улице, схватит и давай подбрасывать вверх так, что крыши домов видно. Тогда я думал, что все это оттого, что у дяди Лени нет своих ребятишек.
Так вот, когда на берегу появлялся дядя Леня, Колька Смолянин забирал свой мячик и тут же уходил.
– Здорово, инвалидная команда, – громко говорил дядя Леня и смеялся. – Ожили, значит? Оклемались?.. Погодка-то, а? А цвету сколь нынче! И мертвый на ноги встанет!
Мужики поддакивали, кивали, тянулись в карманы за кисетами. И вновь с пронзительной силой ощущался запах цветущей черемухи, благостное вечернее тепло, легкое марево над огородами и стремительные росчерки стрижей. Отстрелявшись, улетали куда-то штурмовики-бекасы, а на их месте, в той же вышине, паслись невидимые глазу и звонко мекали птицы, которых у нас называли барашками.
После веселой болтовни и смеха разговор на берегу начинался неторопкий и серьезный. Чаще всего шел сговор с дядей Леней: инвалиды и бабы, потерявшие кормильцев, просили его наготовить дров, а те, что сами еще были в состоянии, просили отвести делянку в березнике. Дескать, осинником хоть топи, хоть не топи – все равно изба холодная; березовых же бросил три полешка – и теплынь. Да и запах-то от березы какой! Это не горькая осинушка… Дядя Леня никому не отказывал в дровах, пилил каждый год и делал это скорее всего не от жалости к вдовам и калекам и не из желания помочь или угодить своим односельчанам, а от какого-то ребяческого азарта. Он будто играл, когда пилил дрова, и вместе с ним играли ребятишки, которых посылали ему в помощь. Дело в том, что дядя Леня владел единственной в Великанах мотопилой. Тогда их в леспромхозе-то было – по пальцам перечтешь. После лучков и краскотов мотопила казалась чудом, и этому чуду не могли нарадоваться.
– Едрит т-твою корень! – восхищенно кричал дядя Леня, отпиливая первую чурку. – Как в масло лезет! Ну придумают же, а?
Он пилил уже года три и все никак не мог привыкнуть к мотопиле, как, например, привык к машинам и тракторам. Поэтому заказы на дрова принимал с удовольствием, вот только березника не обещал и оправдывался:
– Да где ж его взять-то, мужики? Ведь подчистую на ружболванку вырубили березник-то! Вы у своих баб спросите, они рубили.
– Уж пошшибай где-нибудь, – уговаривали фронтовики. – Хоть с воз бы, хоть по праздникам да в морозы потопить. Запах-то какой, изба-то веселая делается…
– Никак не могу, мужики, – вздыхал дядя Леня. – Какая береза осталась, так запрет на нее. Вон американцы «холодную войну» объявили, грозятся все… Приклады-то из чего делать, если на нас пойдут?
– Теперь прикладов и не надо будет, – тоже вздыхали мужики. – Теперь как дадут атомом! Ведь атом какой-то придумали…
– Ничего, и у нас атом есть! – подхватывал кто-нибудь. – Мы тоже как дадим! Где только кости собирать будут!
Разговор переходил на политику, и тут уж поднимался дядя Саша Клейменов, Илькин отец. Он вскакивал, махал культями в длинных рукавах.
– Дадим, дадим! Всю землю только загадим! Разве это война, атомом-то? Мы ж люди, не крысы, чтоб друг дружку травить! Раз между нами распря выйдет, так по-людски драться надо, сила на силу. А то выходит, кто хитрей, кто со спины зайдет и вони напустит.
Тогда я еще не знал, что такое атом, но пугало само слово, пугало то, что мужики вдруг злились, крепко ругались, но в их ярости слышалась какая-то безысходность, беспомощность против этого атома. И уж если фронтовики ярились от него и забывали о дровах, о запахе черемухи, о благодатном тепле и барашках в высоком небе, то, видно, атом и в самом деле штука страшная.
– Ему ведь, гаду, по морде не съездишь, – объяснял про атом дядя Саша Клейменов. – Его руками не пощупаешь. Дыхнул только им и – готов. Он ведь, паскуда, и не пахнет ничем. Воздух да воздух, пыль да пыль…
Мой отец, лежа поодаль от мужиков, прислушивался к их голосам и вдруг начинал дышать быстро, часто, словно спешил надышаться хорошенько чистым воздухом, пока его не загадили.
Дядя Леня не дожидался, когда мужики наговорятся про атом и политику и чем этот разговор закончится. Он вдруг говорил, что все-таки найдет березовых дров по возу на брата, но только последний раз, и уж на будущий год ни полена не будет. И правда находил – валили самые кривые и самые прямослойные березы, которые не годились на приклады. После его обещаний мужики опять оживали, вертели новые самокрутки, щурились на заходящее солнышко, на белые сугробы цветущей черемухи по берегам Рожохи и прислушивались к бормотанию пасущихся в небе барашков.
– Ты мне, Алексей Петрович, сделай-ка новую ногу, – осторожно просил дядя Вася Туров, стуча по своей деревяшке. – Не подходит мне эта, жмет и шагу хорошего нету. Ты уж прости, но не подходит. Ты мне как-нибудь эдак сделай, чтоб как у Петрухи Карасева. Он на своей бегом бегает. А у меня жидковата.
Дядя Леня, кроме всего, еще и столярничал, немного бондарничал, одним словом, при дереве жил и от него кормился. После войны три великановских мужика на его протезах ходили: двум он сразу угодил, а вот Турову почти каждый год делал по новой ноге и все не так.
– Да тебе хоть живую сделай – не угодишь! – отмахивался Петруха Карасев. – Я восьмой год на своей хожу, так мне и настоящей не надо. А ты все кобенишься.
– Раз неудачная вышла? – не смущаясь, говорил дядя Вася Туров. – Для тебя бы крепкая была – мне не подходит. Ты уж сделай, Петрович! Кто знает, сегодня жив, завтра – нет. Хоть на рыбалку походить, на охоту… А на этом куда? Жидковат этот-то…
Дядя Леня соглашался, делал новый протез, но и тот не подходил, и кто знает, сколько ему было сделано этих деревяшек? Ростом Туров был в сажень, все косяки в деревне лбом считал и весом в полтораста килограммов. Дядя Леня выстругивал ему протезы соответственные, среднему мужику не то что ходить на нем, поднять-то тяжело. На деревяшки шла береза хорошая, витая, та, что годилась на приклады и топорища. Век ее не износишь. Но дядя Вася Туров ходил на новой ноге месяц, другой, прислушивался к ней, присматривался, будто свекор к снохе, и браковал.
– Ты еще маленько потерпи, Василий, – уговаривал Турова Петруха Карасев. – Сказывают, нам скоро машины будут давать, бесплатные легковушки. Вот уж покатаемся, а? Как начальство раскатывать будем!
Об «инвалидках» в Великанах знали давно и ждали, однако говорили, будто завод, что их выпускает, который год уже делает, делает и все никак сделать не может столько, чтоб всем хватило. Об «инвалидках» в Великанах мечтали, и это, пожалуй, были самые хорошие мечты на весеннем, цветущем берегу Рожохи. Да вот беда – разговоры о персональных легковушках всегда обрывал кто-нибудь из стариков или совсем уж больных инвалидов.
– Вы все тут про машины да про деревянные ноги, – неожиданно вступал кто-нибудь из них. – Ты мне, Петрович, обещай, что гроб сделаешь. Хочу, чтоб строганый, да чтоб доски-то сухие были. Ты уж, Лень, заранее построгай да сушить положи. Как раз и готовы будут…
И никто из «инвалидной команды» не обрывал говорящего, никто не спорил, не обнадеживал зря, мол, что ты помирать собрался, поживи еще, рано про доски говорить тебе. Все помалкивали, вертели по очередной самокрутке и полной грудью вдыхали сладкий, чуть вяжущий дух цветущей черемухи. Каждый год кто-нибудь не доживал до весны, до первого теплого дня, когда великановские домочадцы выбирались на разряженный в белое, праздничный берег Рожохи.
Наверное, и мой отец, преодолев свои обиды на дядю Леню, попросил бы его когда-нибудь о сухих и строганых досках. Но не успел он. Однажды я привел его на берег, уложил на попону и подсунул под голову веник из цветущей черемухи. Тишина на реке была редкая, лишь в небе бесконечно звенел невидимый жаворонок. Отец как услышал его, так сразу замахал на меня рукой.
– Иди! Иди играй! А я полежу, мне так хорошо!
А сам привстал на локтях и слушает, тянется лицом в небо, тревожный и радостный одновременно.
Я убежал играть в лапту и заигрался. Мужики один по одному проснулись, закурили и окликнули моего отца, кто-то веник из-под головы потащил…
Когда я прибежал на берег, «инвалидная команда» сидела кружком возле него, спокойно сидела, строго. И беседовали негромко, даже как-то мечтательно, словно о машинах-«инвалидках». Дескать, хорошо помер, тихо, под белой черемухой. Дай бы бог каждому так.
Я плакал и сжимался от жалости. И сжимал в руках мячик, по-настоящему упругий резиновый мячик, в утешение мне отданный Колькой Смоляниным.
С гулом валился подмытый берег, вздрагивала цветущая черемуха. А в небе над нашими головами заходил в очередное пике невидимый бекас-штурмовик…
* * *
Потом лесник дядя Леня Христолюбов увел меня на Божье озеро и рассказывал о великанах, которые жили когда-то давным-давно на берегах. Он говорил, что великаны были белые, страшно высокие, – страшно, потому что непривычно видеть людей выше деревьев. И что березы на Божьем растут только там, где ступала нога великана, – выходило, что они исследили не только берега озера, а всю округу на много километров.
О «лесных дядях» я слышал с тех пор, как помнил себя. Говорят, их совсем недавно кто-то встречал в лесу, будто еще мой дед, которого на свете уже не было. И еще один старик из Полонянки однажды столкнулся с великаном в лесу, только почему-то старик этот никак мне не хотел про свою встречу рассказывать. Потом о великанах рассказывали проезжие цыгане – они-то, может, врали, чтобы выманить у нас, ребятни, лишнее яичко. Короче, в детстве все эти россказни походили на сказки и начинались сказочно, так, что замирало сердечко: «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были великаны…» Потом я слышал ее уже в школе. Учились мы, как сводные дети в большой семье, сразу четыре класса вместе – с первого по четвертый. После войны ребятишек в школе не хватало. Одни арифметику зубрят, другие азбуку, третьи родную речь, старшие уже Тургенева знают – столько сразу намешано, что учительница и сама-то с толку сбивалась. И вот однажды потух свет, что бывало частенько, дежурный сходил к уборщице за спичками и зажег лампу. Керосину тогда не было, жгли какую-то ржавую солярку, которая давала махровую, щедрую копоть и призрачный, лунный свет. Учительница тоже обрадовалась, собрала нас плотнее и стала рассказывать про великанов. Только сейчас это уже не походило на сказку, хотя будто и слова остались те же, и герои, и даже все происходило на берегах Божьего озера. Сказочность каким-то странным образом смешивалась с реальностью, и невозможно было не поверить в великанов, но и верить без оглядки тоже нельзя. Был ли на свете, к примеру, Вольга или Микула Селянинович? Или не было их?
Но когда я услышал о великанах от дяди Лени да к тому же много чего увидел, то сразу поверил, что они были на самом деле. Как же было не поверить, если село наше называлось Великаны, если озеро – Божьим, поскольку в давние времена «лесных дядей» боялись и считали их богами.
Где уж там не верить, если я своими глазами, да не при свете коптящей лампы, а ясным днем, увидел сначала квадратные углубления с расплывшимися бровками – точь-в-точь как будто изба стояла или огромная землянка, потом и вовсе – могильные холмы, выстроенные в ряд, только такие длинные, что жуть брала, – метров до шести! А ко всему прочему тетя Варя, которая работала в лесу и подолгу жила на Божьем, копала яму, чтоб отжечь уголь для самоваров, и выкопала целую груду горшочных черепков.
– Ишь, бабье-то у них косорукое было, – сказала она так, словно речь шла о наших великановских бабах. – Сколько горшков-то перебили… И горшки хорошие были, с узором.
Все это было здесь, на берегах озера, среди почерневших пней от срубленных в войну берез. Просто когда здесь стоял лес, ни ям, ни могильных холмов не замечалось. Они скрадывались деревьями, к тому же когда ходишь по белому-белому лесу, всегда хочется смотреть не под ноги, а вверх, в кроны, или уж по сторонам; и тогда рябит в глазах от мелькания белых, с черными родинками, стволов. Но вот срубили березы, и все сразу обнажилось, как обнажаются старые шрамы на остриженной под нуль голове.
И уж совсем сразил меня лесник дядя Леня, когда показал берцовую кость – как раз ему до пояса, а потом позвал в черемуховые заросли у самой воды и, раздвинув ветки, шепнул горячо:
– Гляди!
Я обмер. На старом пне стоял человеческий череп, величиной с двухведерный чугун и такой же черный от старости.
Я глядел на череп, он на меня…
– Ну? – спросил дядя Леня. – Видал? Теперь веришь, что великаны были?
– Верю, – едва вымолвил я.
– Вот так, – подытожил он. – А больше мне никто не верит. Я всяким ученым писал, рисунок прикладывал, сюда посмотреть звал, они так и не приехали. И даже не написали. Потому что не верят.
Потом он отошел в сторону, встал между двух оставшихся берез среди молодого подлеска и глянул так грустно и пристально, что у меня мороз побежал по коже, а в голове полыхнула мысль – бежать!
Сам дядя Леня ростом был под два метра, могучий и белый, как береза. Ни дать ни взять – «лесной дядя»…