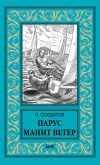Читать книгу "Хлебозоры"

Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– А вы чего смотрите? – спросил дядя у мальчишек. – Если пришли – становись в строй!
Пацаны висели на плетне и переглядывались, только Смолянина почему-то не было среди них.
– Ну, смелей, орлы! После строевой пойдем стрелять из винтовки, – пообещал дядя Федор.
Плетень зашатался, ребятишки кубарем сыпанули во двор и пошли за мной, размахивая как попало руками и шлепая босыми ногами.
– Ать-два! Ать-два! Взяли ногу! Левой! Левой! Ать-два, ать-два!
Потом он вывел нас за ворота и мы потопали за поскотину, в овраг. На середине улицы нам встретился дядя Саша Клейменов. Он отступил в сторону и вытаращил глаза.
– Шире шаг! – прикрикнул дядя. – Ать-два, ать-два!
– Ты чего это, Федор Иваныч? – спросил дядя Саша. – Ты что делаешь-то? Ты куда их?
– На огневую, – серьезно сказал он, проходя мимо. Я слышал, как пацаны дышат мне в затылок и кто-то шепчет: «Дай винтовку! Винтовку дай понесу, а?» Я молчал, как положено в строю.
– Илька – домой! – приказал дядя Саша, но Илька не понял его и продолжал топать замыкающим. Тогда дядя Саша догнал его и выпихнул из строя. – Я кому сказал – домой!
Но Илька что-то замычал, отстал от отца и пристроился в хвост. Дядя Саша остался на дороге – длинный, худой, сутулый, похожий на огромное чучело, и рукава-то болтались очень похоже…
– Эй, Шлем! – запоздало вслед крикнул он. – Ты что, в бога мать, не навоевался? Не накомандовался еще?
Но дядя Федор перекричал его.
– Бего-ом марш! – скомандовал он и тяжело потрусил рядом с нами.
С того дня все мои ровесники в Великанах бежали с утра к нам, приходили и те, что младше, а то и старше, – всем хотелось поиграть в войну, пострелять из винтовки. Только не появлялся Колька Смолянин. Мы забыли про лапту, про погонялу и бабки. Играть в войну было интереснее даже самой рыбалки, потому что нами командовал настоящий майор. Дядя Федор надевал форму с погонами и портупеей, на которой болтался не сданный в милицию «парабеллум» в кобуре, пацаны обряжались в великоватые гимнастерки и пилотки, подпоясывались солдатскими ремнями, и начинались занятия. Мы ползали по-пластунски, рыли окопы, маршировали и ходили в атаки; в завершение спускались в овраг и палили из винтовки в самодельные мишени. Каждый день кто-нибудь из матерей приходил к нам на учебное поле и просил дядю Федора отпустить сына полоть в огороде или таскать воду в баню. Товарищ майор давал увольнительную, хотя увольняемый уходил чуть ли не со слезами. Матери то ли побаивались дядю Федора, то ли стеснялись его. А может, считали, что наш «военобуч» – дело обязательное, как в войну было, потому и просили робко, как чужое. Дядя Федор же на учениях словно помолодел, и у него ни разу не заболела голова. Он водил нас в атаки, размахивая пистолетом, и бегал как лось. В поношенной линялой гимнастерке, в настоящей каске со звездой он был таким настоящим и красивым майором, таким лихим комбатом, что идти за ним в атаку было легко, весело и как-то даже торжественно, от чего дух спирало. Я напрочь забывал тот страшный сон про войну и мчался с малопулькой наперевес, обгоняя пацанов с деревянными автоматами. И ничуть не сомневался, что, окажись перед нами враг, мы бы смели его, вышибли из всех траншей и окопов, и тогда бы застрочили деревяшки и деревянные болванки-гранаты завзрывались бы, потому что впереди был настоящий командир.
– Батальо-о-он! В атаку, за мно-ой! – кричал товарищ майор, первым вставал, вскинув пистолет, и на лице его была какая-то решительность и страсть, которую можно было заметить лишь в это мгновение. Я даже не узнавал его, забывал, что он мой дядя – дядя Федор и что впереди не березовые пни с черными шляпками, а фашисты в касках. Однажды, когда мы «выбивали» немцев с берега Божьего озера, из молодых березняков вдруг вышла тетя Варя с топором. Получилось так, что мы идем в атаку на нее, и тогда товарищ майор скомандовал лечь и окопаться. Мы упали между пней и стали рыть палками землю. Тетя Варя подошла к дяде Федору и погладила вздыбленный погон на его плече.
– Ты уж сильно-то их не мучай, – попросила она. – Пускай отдохнут…
– Тяжело в ученье – легко в бою, – жестко сказал дядя Федор. – Пускай привыкают.
Тетя Варя вздохнула, поджала губы. Я думал, что дядя Федор скажет ей, что война давно кончилась, но и он обманывал тетю Варю. А она загоревала:
– Так-то оно так… Да больно малые еще… Неужто теперь и таких берут?
Она спустилась к воде, села на валежину и стала бросать камешки. Вода была тихая, цвел орех-рогульник, и круги от камешков путались и разбивались об эти цветы.
А товарищ майор вдруг дал отбой, велел мне построить отряд и вести в деревню. В тот день нас было десять человек, но мы считались батальоном. Поэтому я скомандовал: «Батальон! Стройся!» – и повел ребятишек в Великаны. Мы шли как настоящие бойцы из боя – с песней. Песня казалась боевой и красивой.
– Каждый воин – парень бравый! – орали мы. – Смотрит соколом в строю! Породни-роднились мы со славой, славу добыли в бою!
Дядя Федор отставал, брел за нами, болтая каской, словно котелком, а потом и вовсе пропал из виду. Мы вышли к поскотине и тут увидели Кольку Смолянина. Батальон без команды оборвал песню и остановился. И я тоже остановился. Колька почему-то был невеселый и молчал. Он подошел ближе, осмотрел воинство и, свернув цигарку, закурил. Табаку не просил, вынул из кармана целую пачку своего. Вдруг он шагнул ко мне и стал тянуть с меня винтовку. Я ухватился за нее и попытался вырваться, но Колька закрутил ружейным ремнем мое плечо, вывернул руку до искр в глазах.
– Я тебе покажу кордебалет! – белея глазами, крикнул он. – Я тебе дам суворовское!
Но тут же отпустил меня, запнул в кусты пилотку, упавшую с головы, и, не оглядываясь, пошел вдоль поскотины. Я чуть не плакал от боли в плече и обиды. Пацаны стояли молча и смотрели Кольке вслед. В это время нас догнал дядя Федор.
– Становись! – скомандовал он. – Шагом марш! Запевай!
Мы построились и пошли, но петь никому не хотелось.
– Запевай! – сердито повторил дядя Федор. Батальон запел, но так жидко, что сквозь пение было слышно, как мычит Илька-глухарь. Он тоже всегда пел с нами, широко разевая рот, но только по-своему.
Потом я узнал, отчего так неистовствовал и злился Колька Смолянин. В тот день какие-то проезжие мужики позвали Любку-дурочку, усадили на телегу и куда-то увезли. Сначала ее ждали, думали, что вернется, затем родители ее, немцы, ездили в соседние деревни – Полонянку, Гуськово, Рощино и Чистые Колодцы, спрашивали, но Любка исчезла без следа.
Только вот непонятно было, отчего так переживал Колька. Ведь и жениться на ней не хотел…
В середине августа настал тот день, когда меня стали собирать в суворовское. Мать не плакала сначала, но часто-часто моргала, когда утром кормила меня и когда потом складывала в сидорок белье.
– Надо бы проводины сделать, – словно пожаловалась она дяде Федору, но тот ответил круто:
– Не на фронт провожаешь – учиться!
Он обрядил меня в форму, обрядился сам, только снял погоны с гимнастерки, и посадил в коляску мотоцикла. Расформированный батальон с утра висел на плетне и грустно смотрел на сборы. А Кольки Смолянина опять не было…
Мать заплакала, когда дядя Федор заводил мотоцикл. Она стиснула мою голову, прижала к груди так, что я чуть не задохнулся, но мне не хотелось выворачиваться из ее рук, чтобы хватить воздуха. Я едва дышал носом и остро чувствовал полузабытый запах материного молока и ее тепло, которое медленно превращалось в жар и палило лицо. Потом я много раз уезжал из дома и прощался с матерью, но больше никогда не ощущал и не вспоминал этого состояния. Как все военные дети, я почти до трех лет сосал грудь и поэтому хорошо помнил это и помнил вкус молока. Но то было не просто ощущение вкуса, как, например, вкус хлеба или вкус коровьего молока; я чувствовал, что в меня входит тугая струя тепла и света и я весь согреваюсь и наполняюсь этим теплом и светом и еще каким-то ликующим состоянием, которое вовсе нельзя назвать грубым словом – сытость. Я хорошо помнил свое отношение в ту пору к материной груди: казалось, что это часть меня самого, что я не могу жить без этого источника, равно как не мог бы жить без головы или туловища. И я всегда ревниво смотрел на материну грудь, готов был защищать ее и защищал, если мать, балуясь и дразня, подносила к ней другого ребенка и даже брала его на руки.
И вот, прощаясь в тот первый раз с матерью, я на мгновение ощутил толчок и вспомнил то состояние. И почувствовал на мгновение горячую и светлую струю, ее жар, согревающий лицо. Мне не хотелось, чтобы прервалось это чувство, но было поздно: немецкий мотоцикл зарычал, выбрасывая струи дыма, и оторвал от матери…
По дороге в райцентр, когда все опять ушло в полузабытье и когда я стал замечать незнакомые леса, поля и деревушки, когда мир расширился перед глазами и посветлел, то и дым из выхлопушек показался вкусным и каким-то желанным. Я впервые ехал так далеко от дома, по местам неведомым и таинственным. А дядя Федор гнал мотоцикл с такой скоростью, что встречный ветер откидывал каску на затылок и ее ремешок брал за горло чуть выше угловатого кадыка.
В райцентре мы подрулили к военкомату, и нас встретил такой же бравый, как дядя, майор. Они козырнули друг другу, и я тоже козырнул, как был учен, однако дядя сердито заметил:
– К пустой голове руку не прикладывают! Где пилотка?
Я надел пилотку и еще раз отдал честь.
– Во какого солдата привез! – обрадовался майор и пожал мне руку. – Хоть в гвардию!
Потом они с дядей сидели в кабинете и, склонившись друг к другу, разговаривали. Дядя Федор все о чем-то просил и становился печальным. Майор же часто и виновато говорил одну фразу:
– Из министерства отказ, понимаешь? Медицина, брат…
– А самому Жукову? А если самому Жукову? – с надеждой спрашивал дядя.
Тем временем я ходил вдоль стен, рассматривал черно-белые плакаты-фотографии и читал подписи под ними. Здесь я впервые увидел, что такое атомный взрыв. На черно-белой фотографии он выглядел вовсе не страшно, наоборот, эффектно и даже красиво – эдакий черно-белый гриб, от которого несется белый ветер и сдувает деревья, малюсенькие танки и домики. А дальше ничего не рушится, только из окон многоэтажных домов валит черно-белый огонь и еще дальше совсем мирная картина – даже люди ходят и коровы на лугах пасутся. К тому же на соседних картинках были показаны всякие способы, как спастись от атома. Можно вырыть щель или залезть в погреб; если ты живешь в городе, то в подвал или бомбоубежище, а там крутить ручку, чтоб шел хороший воздух. Но самое главное – есть противогазы, в которых люди, коровы и даже лошади были на картинках, есть носилки, чтоб носить раненых, и балахоны, похожие на пастушьи дождевики. Там было много всякого, и я все сразу понял, кроме одного: солдаты, увидев атомный взрыв, ложились на землю ногами от него и подкладывали под себя автоматы. Причем на отдельных карточках было показано, как их подкладывать.
– Ну что, гвардеец, изучил? – спросил меня майор.
– Так точно, – сказал я.
Дядя с майором тоже постояли возле плакатов, поглядели, но не внимательно, а так, чтоб куда-то смотреть. Майор покачался с пятки на носок, поскрипел своими хромочами и вздохнул:
– Вот так, брат Федор. Против медицины, как против ядерного взрыва, – не попрешь.
– Значит, волчий билет? – угрюмо спросил дядя Федор.
– Почему волчий? Белый… Отслужился, гвардеец.
Меня что-то кольнуло, и показалось, речь идет обо мне. Будто меня не берут в суворовское! Я схватил дядю за руку – рука была вялая и холодная.
– Дядь Федь?.. Что, дядь Федь? Не берут?
– Тебя возьмем! – засмеялся майор. – Тебя – с руками и ногами! За дядю служить пойдешь! А сейчас, Федор Иваныч, бери направление и на медкомиссию. Веди, а то опоздаете… Там призывники приписываются, так вы без очереди…
Дядя Федор стоял и тоже качался с пятки на носок…
– Вопросы есть? – спросил майор.
– Есть, – признался я. – А зачем они автоматы под себя подкладывают?
– Зачем? – Майор грустно усмехнулся и поглядел на атомный взрыв. – Затем, чтобы не расплавились.
Я так ничего и не понял, но переспросить не успел.
– Иди, Федор, иди. – Майор сунул бумагу дяде, подтолкнул к двери. – После медкомиссии – ко мне. Все!
Дядя Федор вдруг выматерился, схватил меня за руку и потащил на улицу. И рука у него сразу стала горячая и жилистая, будто налитая огнем.
Медкомиссия проходила в стареньком клубе, возле которого сидели и стояли парни, а один очень уж хорошо играл: на гармошке. Мы прошли сквозь толпу и столкнулись с мужиком в белом халате.
– А! – радостно сказал он и крепко поздоровался с дядей. – Еще раз счастья попытать заглянул?
– Пускай он счастье пытает, – мрачно пробурчал дядя и подтолкнул меня вперед. – Отпытался я…
– Куда же ты такого махонького! – засмеялся врач. – Пускай подрастет, каши поест…
– В суворовское! – отрубил дядя. – Племяш мой.
– Это хорошо! – одобрил тот. – Пускай идет раздевается, посмотрим… Только худоват он…
– Зато жила крепкая!
Дядя привел меня в комнату, где раздевались и одевались парни, тоже веселые и дурашливые, приказал раздеться. Я стянул гимнастерку, сапоги, галифе; дядя ворчал:
– Все им не так, все им не угодишь – худоватые, глуховатые… А где хороших-то взять после такой войны? Медицина, мать ее… Снимай трусы!
Я схватился за трусы и прижался к стене. Тут еще какой-то парень засмеялся, закричал:
– Мужики! Гляньте, какого шкета привели! Ой, помру! Ой, смехотура!
И все заржали, как жеребцы, хотя сами были тощие и мосластые.
– Молчать! – гаркнул дядя, и все замолчали, а мне: – Трусы долой.
Только сейчас, прижавшись к стене, к холодной и незнакомой стене, среди незнакомых мне людей, которые непонятно зачем раздевались, одевались и отчего дурачились, я осознал, что теряю волю. Это уже была не игра в войну, и не дядя командовал мной, а другие, чужие люди в белых халатах. И отныне теперь так будет всегда… Скорее, до конца этого я не понимал, но предчувствовал, и мне становилось холодно.
– Степан? – недоуменно спросил дядя. – Ты чего? На комиссию надо в чем мать родила… Снимай, не стесняйся. Я знаешь сколько без штанов у них бегал…
– Да у него и письки-то еще нету! – подпустил какой-то рыжий парень, и все снова засмеялись.
Мне вовсе не было стыдно. Тогда я еще не понимал, что это не страх, что это противится моя душа, поскольку сама медкомиссия была неестественной в тот миг – я не болел, и никто из хохочущих парней не болел. И все мы были в равном положении. Только я от неестественности жался к стене, а они старались скрыть ее в дурашливости и смехе.
У дяди Федора лопнуло терпение. Он схватил меня поперек, сдернул трусы и потащил в комнату через коридор. Там поставил на ноги, и я увидел человек пять в белом. Все они смотрели на нас и весело здоровались с дядей.
– Сам не идет, что ли? – спросил тот, что встретился нам в дверях.
– Да кто к вам сам-то ходит? – сердито ответил дядя. – Сидите, заседаете тут… Сенат английский!
Доктора засмеялись, сказали дяде присесть, а меня повели от одного стола к другому. Меня ощупывали, разглядывали, мяли суставы, заглядывали в рот, отстукивали и прикладывали холодные стальные трубки, будто не в суворовское брали, а бычка на базаре торговали. Наконец положили на кушетку и стали водить по животу и ступням чем-то острым и холодным. Я съежился в комок.
– Ну-ка, ну-ка! – вдруг заметил один из докторов, сидящий в стороне, и стал щупать мои ноги, переглядываясь с другими. Потом заставил намочить ступни в воде и пройти по крашеному полу. Я макнул ноги в таз и прошел по холодным половицам. Они сошлись у моих следов, а дядя ожил и насторожился. Доктора смущенно переглянулись и разошлись по своим столам. Пауза затянулась, и дядя Федор не выдержал:
– Вы чего это?..
Я понял, вернее, опять почувствовал, что мужики в халатах боятся дядю, а у меня что-то нашли.
– У него плоскостопие, Федор Иваныч, – вздохнул мужик, что встретился в дверях. – В мирное время не годен…
Все, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю как кошмарный сон, хотя многое уже в полузабытьи. Пожалуй, с того же момента слово «медкомиссия» вызывало во мне чувство, будто к голому теплому телу прикасаются чем-то стальным, круглым и холодным.
Дядя Федор метался по комнате, хватал за грудки медиков, трещали белые халаты, грохотали падающие столы, звенели стеклянные приборы, а я жался к стене и стискивал в руках откуда-то взявшуюся ложку, которой прижимают язык, чтобы заглянуть в горло. Они все были одетые – я в чем мать родила.
Помню, как от порога вдоль всей комнаты метательным диском летел таз с водой, где я мочил ноги. Он вращался в полете так, что брызги веером срывались с краев и прошивали пыльные столпы света из окон. Помню, как врачи увертывались от таза и шарахались к стенам. Таз обо что-то ударился, когда мы были в коридоре. А еще над всем этим стоял невообразимый дядин мат, какого я с тех пор больше никогда не слышал.
Потом дядя тянул меня на улицу из старого клуба, но я упирался, поскольку был голый. Призывники стояли, прильнув к стенам, и лицами сливались с ними. Галифе я надел уже на крыльце, гимнастерку – возле магазина на другой улице, а сапоги в коляске мотоцикла. Пилотка моя и вовсе где-то утерялась…
Но сквозь все это я ощутил возвращение воли – теплое и светлое чувство, как от материного молока. И вместе с тем щемило и притрагивалось ко мне чувство утраты: мне никогда не быть суворовцем, не носить черной шинели с красными погонами, не дудеть в трубу, как они дудели на плакатах в сенцах колхозной конторы. Мне хотелось одновременно и плакать, и смеяться. И как потом оказалось, чувства эти настолько дружны и естественны, что живут в человеке всю его жизнь.
Дядя гнал мотоцикл – гимнастерка заворачивалась. Его каска бренчала и каталась у меня под ногами, словно ореховая скорлупа, а слипшиеся от пота дядины волосы никак не могли просохнуть на горячем встречном ветру. В одном месте он остановился, сел в дорожную пыль.
– На тебя вся надёжа была, – глухо сказал он. – Вся моя надёжа. А нас – в белобилетники, так их разэтак…
Где-то впереди ныла и бренчала расшатанными бортами машина, и пыль от нее столбом тянулась в небо, закручиваясь там в гриб, как у атомного взрыва. Дядя вдруг схватил меня за ухо, дернул до треска в голове.
– Плоскостопие у него! А босиком не бегай! Расшлепал ноги-то! Балбес!
Я думал как раз о том, что обрадуется мать, и нисколько на дядю не обиделся, даже весело стало.
– Так сапоги только в школу!
Он махнул рукой, сел на мотоцикл и поехал тихо, задумываясь и стекленея взглядом. А я в тот момент подумал, как насядут на меня теперь великановские пацаны и будут долго дразнить плоскостопым. По крайней мере прозвище мне обеспечено. У нас любили давать прозвища и посмеяться любили, поэтому мне хотелось плакать…
Избавлению от службы мать почему-то не шибко обрадовалась. Я сидел и ел молоко с хлебом, а она, подпершись рукой, тихо говорила, будто сама себе: дядя слышать не мог.
– Вот, думала, и пристроила сыночка… В люди выйдет, не то что в назьме-то жить. Там, и правда, одежа казенная, питание хорошее. Только чтоб войны не было…
Дядя наверняка не слышал и тоже говорил сам себе. Он скрипел половицами и бесцельно совался в углы.
– Весь в батю родимого!.. Толстопятый… И вся ихняя порода такая, толстопятая.
И опять от его слов веяло какой-то тревогой и непонятным страхом, который бывает, когда бежишь через темные сени в светлую избу. Идти играть не хотелось, я оттягивал минуту, когда пацаны начнут спрашивать: все уже знали, что я вернулся в Великаны. Поэтому я ушел за баню и лег на горячий песок завалинки, рядом с сонным и безразличным Басмачом. Между баней и плетнем, на залоге, уже чернел зрелый паслен – ягода кисловатая и одновременно приторно-сладкая, как сама жизнь. Я рассматривал свои ступни, выворачивал их, мял и не мог понять, где медкомиссия усмотрела плоскость. Ноги как ноги – у всех такие же. И если даже ступни плоские, то в чем же беда? Наоборот, на земле можно крепче стоять! К тому же офицеры все равно только в сапогах ходят, но подошвы-то у сапог уж точно все одинаково плоские!
Вдруг я услышал тихий свист из-за плетня и чья-то тень достала бани. За плетнем стоял дядя Леня и улыбался.
– Ну и как? – спросил он. – Взяли тебя на суворовца учиться?
Я подошел с другой стороны плетня и притулился спиной.
– Дядя Лень, по секрету, – сказал я. – У меня какое-то плоскостопие нашли. Только ты никому…
– Тогда и я по секрету: у меня тоже плоскостопие. Так что мы родня.
Он огляделся и перепрыгнул плетень.
– Так что мы с тобой в военное время только годимся, понял? Можно я твоего паслена поем?
Я пожал плечами, а дядя Леня упал на колени и стал есть ягоду. Он рвал по-воровски торопливо, сыпал в рот и жмурился.
– Говорят, она лечебная. От всяких болезней. Только в меру есть надо, а то отравиться можно… Ну а что в районе-то видал, расскажи? Народу, поди!..
У него была странная привычка пробовать на вкус все травы, ягоды и, если понравится, есть даже несъедобное. Присев где-нибудь, он тут же срывал травинку, цветок или вовсе лист с дерева, кору, молодой побег, толкал в рот, незаметно жевал и, случалось, плевался потом целый час. Но чаще проглатывал и рвал еще. На моих глазах он ел волчью ягоду, чемерицу и вёх – это из ядовитых, что я знал.
– Если горькая – значит, лечебная, – объяснил он. – Все лекарство в горечи. К примеру, осина: дерево хоть и дурное, а зайцы грызут и не болеют. Значит, польза есть.
Он наелся паслена, раздавил одну ягоду и посмотрел, что внутри.
– Я тоже в район собираюсь… К брату съездить надо, ты брата моего знаешь? Степана Петровича?
Брат дяди Лени бывал у нас несколько раз, но очень давно, так что помнил я его смутно, как во сне. Говорят, он когда-то жил в Великанах, но после войны уехал вместе с семьей, необычно многодетной даже для нашей деревни. Первый его сын был ровесником дяди Лени, а последний – года на три всего старше меня. Вот их-то я знал, поскольку они подолгу жили на Божьем озере в кордонной избе дяди Лени.
– Слыхал, будто Степан-то назад в Великаны собирается, – сказал дядя Леня. – Узнать надо и отговорить. Что ему в районе не живется?.. Кстати, на, держи!
Он сунул мне в руки скомканный резиновый шар со свистком и перемахнул через плетень.
– Ты особенно-то не расстраивайся… Я всю жизнь с плоскостопием хожу – ничего. Штука известная, подумаешь!.. Ты приходи ко мне на Божье, порыбачим, а я тебе чего-нибудь такое расскажу… Шлем-то теперь не станет, поди, под ружьем гонять? Какой толк? Только в военное время…
Мне и в самом деле уже не хотелось ходить под ружьем, лучше бы на рыбалку, за грибами подберезовиками, которых так много было на Божьем, хотя березы давно спилили. Однако я боялся спросить у дяди, что будет завтра, и загадал: если он сыграет подъем, значит, снова начнется военобуч.
Но подъем сыграли дяде Федору. Рано утром к нам подъехал милицейский «воронок», откуда выбрался худой и синий, как шинель, начальник милиции. Он разбудил дядю и сел с ним курить на крыльцо. Видно, обоим разговаривать не хотелось, и они пускали синий дым, который долго курился и реял в неподвижном воздухе, пронизанный солнечными лучами. Наконец начальник милиции сказал:
– Сдавай оружие, Федор Иваныч. Хватит, навоевались.
Дядя скрючил босые ноги.
– Зацепишь кого ненароком, или пацанва стырит. Наделают делов…
– Погоди! – оживился дядя Федор. – Возьми к себе на работу?
Начальник милиции приобнял его, вздохнул:
– На свое место, что ли, Федор? Майорская-то должность одна. А ниже сам не захочешь.
– Ниже не захочу. – Он подошел к мотоциклу и вытащил из коляски сиденье. – Забирай.
Между пружин возле задней стенки сиденья оказалось четыре пистолета и короткоствольный револьвер. Начальник милиции пересмотрел их, пощелкал курками, а дядя тем временем принес мешочек патронов килограмма на четыре.
– Хорошая коллекция, – сказал начальник.
– Оставь этот? – попросил дядя и поднял в руке большой и новенький пистолет. – Или возьми себе. Ты таких не видал. Английский, «кольт-автоматик». Дарю! А то в переплавку… Жалко.
– Спасибо. – Начальник положил «кольт» в карман, остальные сунул в полевую сумку. – Будешь в райцентре – заходи.
Дядя Федор ничего не ответил и даже не встал, чтоб проводить. Когда «воронок» упылил, дядя умылся в кадке, стоящей под водосточным желобом, и босой, безременный вышел на середину улицы и подался в сторону кладбища. Шел он покачиваясь, сутуля спину и задевая болтающимися руками «бутылки» галифе. Распущенная, вылинявшая гимнастерка делала его похожим на военнопленного, которых показывали в кино.
Вернувшаяся с дойки мать заставила сейчас же разыскать дядю Федора и на шаг от него не отходить, чтоб с собой ничего не сделал. Я нашел его на кладбище возле могилы отца. Подкрадываться к нему было хорошо, он не слышал шагов…
Впервые я увидел, как он плачет – тихо, без всхлипов, только слезы вытирает.
– Паш, ты на нее не сердись, – говорил дядя Федор. – Она ведь не знала… Тебя же убили, вот она и… А как бы ей теперь, Паш? Подумать страшно. Все из-за войны… Ты там лежи спокойно, не обижайся. Нам, думаешь, здесь легко?.. Ох, Паша, нелегко. Я из-за этой войны генералом не стал…
Ему, наверное, казалось, что он говорит шепотом…