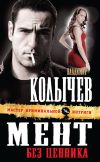Текст книги "На пороге новой мировоззренческой парадигмы"

Автор книги: Сергей Горюнков
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Мифологические смысловые абсурды
Чем более архаичные данные по истории мышления попадают в поле зрения исследователей, тем большей нелепостью, тем большим вызовом здравому смыслу они поражают, – такие наблюдения делались уже неоднократно. Можно, конечно, закрывать на них глаза, уговаривая себя, что, например, вера в существование сверхъестественных существ находит исчерпывающее объяснение в беспомощности первобытных людей перед грозными силами природы. Но никакой беспомощностью не объяснить того факта, что в мифах самых разных народов эти существа описываются нередко как одноглазые, однорукие и одноногие. Или хочется по привычке думать, что в мифах о происхождении неба и земли нет ничего кроме примитивных попыток осмысления окружающей среды. Но оказывается, что мифологические понятия «небо» и «земля» (как, впрочем, и любые другие) не имеют ничего общего с современными аналогичными понятиями. Или же напрашивается традиционная интерпретация «потусторонней» семантики в духе ссылок на ограниченность общественной практики первобытного социума. Но остаётся открытым вопрос, как можно объяснить этой ограниченностью загадку териоморфизма потустороннего мира (т. е. его понимания как мира животных).
Примеры такого рода вовсе не единичны и не случайны – они составляют самую душу первобытного мироощущения и миропонимания. В мифе ниасцев (Западная Индонезия) один из близнецов, Латуре Дане, бог нижнего мира, рождён без головы, а другой, Ловаланги, бог верхнего мира – без нижней части тела, так что только вместе они составляют единое целое. В мифе-заклинании, записанном у тямов (Юго-Восточная Азия), богиня Ногарай сбрасывает с себя кожу, и та превращается в рог носорога, из которого сочится вода; она сжигает свой кишечник, и из него вырастает дерево. В представлениях ацтеков особенно страшным обликом Тескатлипоки (одного из главных персонажей древнемексиканской мифологии) считалось тело без головы, с двумя дверцами в груди, которые то открывались, то закрывались, издавая звук, похожий на стук топора по дереву. Персонажи корякской мифологии засовывают головы в собственные внутренности и ловят там рыбу, а персонажи бурятской – вынимают из самих себя волшебные предметы. В бушменском мифе луной становится закинутая в небо сандалия, а в маорийском – горящее полено. В одном североамериканском мифе тело чудовища Тадодахо скручено «в семь узлов зла»; в другом описывается персонаж, держащий на груди Мировой Шест. В южноамериканском мифе тапир соединяется со сделанной из дерева и ожившей девушкой, и она раскалывается пополам; в мифах других народов тоже нередки деревянные брачные партнёры. Персонаж фольклора нганасан протыкает себя насквозь и оказывается в ином мире; персонаж новогвинейского мифа использует пуповину как средство передвижения. В архаическом фольклоре мансийцев находим «не имеющую сердца и печени Железную Лягушку»; в саамском – «голову старика с колодцами на темечке». Полинезийские мифы рассказывают о том, что некогда «земля повернулась к небу спиной»; о том же – в китайских мифах. В легендах нивхов «земля выворачивается наизнанку»; в мифах догонов (Западная Африка) она «прячется в своём чреве» и т. д.
Неудивительно, что феномен мифологических нелепостей начинает постепенно осмысляться как пробный камень всякой попытки объяснить сущность мифа. «Пусть мифы, рассмотренные сами по себе как есть, окажутся абсурдными россказнями, – пишет, например, К. Леви-Стросс в статье «Миф, ритуал, генетика», – но всё-таки должна быть какая-то тайная логика, которая управляет всеми этими абсурдами: какая-нибудь неясная идея, которая кажется вершиной иррационализма, на деле купается в рационализме, образуя вокруг себя нечто вроде внешней среды, до тех пор, пока строгая мысль – с появлением научного знания – не включит её в себя или пока сама эта идея не станет рациональной» [9].
Отсылка к науке завтрашнего дня уместна в данном случае не столько по отношению к узко-понимаемой сфере мифа как повествовательного жанра, сколько по отношению ко всей проблеме первобытного смысловыражения в целом. В данной области складывается ситуация, при которой заведомо остаются без ответа приобретающие всё большую актуальность вопросы: какая действительность, какие взаимоотношения природы и общественных форм должны были способствовать возникновению представлений, оторванных от практических задач и нужд? Почему социальное поведение членов первобытного коллектива выливалось в сложнейшую систему бессмысленных, забивающих голову ритуалов, контролирующих каждый шаг человека? Отчего у всех без исключения народов мира структура обряда посвящения выливалась в изощрённые формы «поглощения» неофита, его «расчленения» и «временной смерти»? Чем должны были быть обусловлены такие загадочные по своим теоретическим установкам институты, как обрезание (в том числе женское), кувада (обычай имитации мужем во время родов жены её родовых мук), строительная жертва (обычай освящать человеческой или животной жертвой место закладки нового строения или само это строение)?
Мы привыкли искать ответ на такие вопросы в сфере практических интересов и нужд первобытного человека, в особенностях первобытного производства. Но и сами эти интересы и нужды, и само это производство представляют собой один из вариантов проявления в первобытной социальной организации смысловых абсурдов. Факты свидетельствуют, что экономическая деятельность первобытных коллективов, освящённая и санкционированная мифическим прецедентом, не сводится к простому удовлетворению материальных потребностей, – она всегда означает нечто большее, чем просто физическое поддержание жизни. То есть применительно к общественно-экономической деятельности первобытных социумов приходится говорить не только об утилитарных стимулах для материального производства, но и о некоем дополнительном стимуле знаковой природы, проявления которого в специальной литературе покрываются обычно туманными, невразумительными прилагательными типа «сакральный», «ритуальный», «магический», «культовый», «обрядовый» и т. д.
В условиях возрастания научного интереса к природе и происхождению «сакрально-мифологических абсурдов» не уйти и от ещё одной совокупности вопросов: почему к каменному топору относились как к живому существу? Что должно было обусловить странный взгляд на промысловую лодку как на женщину? Откуда взялось представление об одежде человека как о его душе? Как могла возникнуть числовая символика, обязывавшая использовать при устройстве женской хижины одно количество брусьев, а при устройстве мужской – другое? – То есть приходится признать, что откровенным вызовом здравому смыслу является не только мировоззренческая и поведенческая, но и орудийно-предметная сфера мифологического смысловыражения.
Логика мифологических абсурдов
Если уточнить, что под логикой «здравого смысла» понимается исторически-обусловленный способ структурирования элементов языкового тезауруса, обеспечивающий на современном этапе развития общества относительное взаимопонимание его членов, то в загадке мифологических смысловых абсурдов мы должны будем усматривать проявление той же самой логики, но иного, более раннего исторического этапа, с присущей ему иной структурированностью языковых смыслов. Но тогда встаёт вопрос о принципах организации этой логики в её ранних формах.
Что это за принципы? – В той мере, в какой позволяет судить накопленный к настоящему времени материал, они могут быть «вычитаны» из самой мифологической семантики – из мифологических повествований о прецеденте, положившем начало существующему порядку вещей. Известно, что таким наиболее универсальным прецедентом является «происхождение от мифического первопредка (существа, персонифицированного явления или предмета сверхъестественной природы»); поэтому и задаваемую прецедентом логику мы находим воплощённой в классификациях, носящих название «мифологических», «тотемистических», «первобытных» и т. д. [10]. И хотя сведения о принципах построения таких классификаций скудны и фрагментарны, но всё же, опираясь на них, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что логическая структура классификаций существенно зависит от тех ролевых ситуаций, в которых задействованы мифические первопредки.
Приведу пример из мифологии папуасов маринданим, образно раскрывающий суть сказанного. Разумеется, этот пример не отразит реального уровня информационной насыщенности и комбинационной изощрённости первобытных классификаций; но он хорош тем, что полностью сохраняет свой основной архаизирующий признак – слабую выделенность (если тут вообще уместно говорить о «выделенности») мифологических повествований как жанра из сферы повседневно-бытового смысловыражения.
Дема (сверхъестественное существо тотемической природы у папуасов) Вокабу считается одновременно предком сомов (так как в них превратились его сыновья) и предком саговой пальмы (так как она была создана им при участии его жены Сангон и помощницы Харау); этими двумя обстоятельствами объяснялась принадлежность сомов и саго к некоему единому ассоциативному классу объектов. А поскольку саго было некогда (при первых, неудачных попытках его приготовления) превращено самим Вокабу в глину, то это служило доказательством принадлежности к упомянутому классу и глины. С другой стороны, участие жены Вокабу в создании саго выразилось в том, что она извергла материал для его приготовления из самой себя, справляя нужду; этим фактом из её биографии обосновывалась смысловая связь между саго и испражнениями (соответственно, между демой-саго и демой-испражнением). По другой версии, предка-испражнение Саруак произвели на свет сыновья Маху, демы-собаки; этим обосновывалось включение всё в тот же класс и собак. Вместе с тем опосредованная роль в некоторых мифах о предке-собаке отводилась деме-предку Арамембу, считавшемуся отцом демы-предка казуара Ягила; тем самым фиксировалась непрямая связь между собакой и казуаром. То есть казуар входил уже в иной ассоциативный класс, потому что – насколько можно судить по имеющимся данным – границы классов определялись статусом дем, а Арамемб – это дема-предок с особым, более высоким статусом (принцип иерархии, важнейший для любой смысловой классификации). А так как дема-предок казуар Ягил появился на свет вместе с демой-предком аистом Вонатаи, то казуар и аист оказывались состоящими в прямом смысловом родстве. Соответственно, в таком же родстве с ними оказывалось и творение аиста – дема-предок Уати, воплощение одноимённого растения. Но растение уати обладало одурманивающими свойствами; под воздействием приготовленного из него напитка дема Таб превращался то в черепаху, то в варана. Поэтому черепаха и варан оказывались «родственниками» уати, и т. д. [11]
Повествованиями такого рода в первобытном (мифологическом) мышлении образуется тотальная, иерархически выстроенная взаимосвязь причин и следствий – взаимосвязь, вовлекающая в себя абсолютно всё информационное разнообразие окружающего мира. Каждый элемент этого разнообразия распределён по тематическим рубрикам в соответствии с мифологическим сценарием; его родство или не родство с другими элементами целиком определяется сюжетикой сценария, задающего как бы гигантскую координационную систему межэлементных отношений. И вся эта гигантская семантическая иерархия замыкается на тех её символических элементах, которые носят наиболее фундаментальный, наиболее общий характер и принадлежат уже космологическому уровню – классу первых, «бывших всегда», родоначальников (даже у маринданим, с их слабовыраженной космологической традицией, имеются демы с особым статусом и признаками демиургов и культурных героев – прародителей других дем, от которых, в свою очередь, происходят люди, растения и животные. У других племён такие аспекты разработаны ещё основательней [12]).
При всей своей фантастичности первобытные классификационные системы оказываются весьма действенным средством ориентации в мире – средством, позволяющим задавать этому миру вопросы и получать на них ответы. Почему, спрашивается, на небе появляется радуга? Потому, что когда дему-предка кабана резали на части, из него хлынула струя крови, образовавшая радугу. Или: почему отсутствуют родственные отношения между кланом казуара и кланом саговой пальмы? Потому, что Харау, женщина-предок саговой пальмы, не ответила согласием на предложение предка-казуара Ягила «сходить с ней в лес». Или: почему жители деревни Кумбе слывут среди жителей соседних деревень простофилями? Потому, что некогда они пытались поджарить на костре самого предка-аиста Вотанаи, приняв его за обычную птицу. Или: почему лесные и береговые племена маринданим используют различную технологию изготовления лука? Потому, что в этой технологии отражены события из мифа о лучном деме-предке Кедме: когда его разорвали пополам, то лесным племенам досталась верхняя часть тела Кедмы, а береговым – нижняя.
Логика консервации абсурдов
Логика подобных вопросов и ответов строится на соотнесённости объясняемого предмета (явления, события) с тем пред-посылочным прецедентом, в котором задействован, хотя бы и опосредованно, данный предмет (явление, событие). Поэтому достаточно нарушить условную соотнесённость чисто механическим «выключением» прецедента – презумпции «происхождения от мифического первосущества», чтобы символические конструкции языка превратились в сакрально-магическую бессмыслицу, в ритуализированный абсурд. Достаточно, например, забыть об обстоятельствах, при которых возникла луна, чтобы превратилось в бессмыслицу распространённое среди маринд-аним мнение, будто она заражена кольчатым червем (род накожной болезни). Достаточно не знать мифа о происхождении раковины-жемчужницы, чтобы перестать понимать, почему люди клана мана-рек считают себя состоящими в родстве с людьми клана геб-це. Достаточно отвлечься от событий из жизни мифических предков клана йорм-энд, чтобы стал выглядеть нелепым ритуал, производимый членами этого клана в пору засухи и т. д.
В реальном историческом процессе «выключение» базовых предпосылочных суждений – явление повсеместное и постоянное. Дело в том, что любые – и первобытные, и современные – суждения существуют не сами по себе, как самодостаточные, а как «верхушки айсбергов» – смысловых слоёв, образующих предпосылочную систему любого высказывания. То есть у каждого высказывания есть некая более широкая предпосылка, в которую высказывание встроено как следствие из неё; у этой предпосылки есть ещё более широкая предпосылка, а у более широкой – ещё более широкая и так далее – вплоть до наиболее общей, мировоззренческой предпосылки. Так уж устроена смысловая структура языка, его «тезаурус», – почему и возможна наука логика, т. е наука выведения следствий из их предпосылок. Но одно дело – смысловая структура языка как предмет изучения специалистов-когнитологов, а совсем другое – мышление конкретного «среднего» человека, далёкого от рефлексии над собственным «говорением» и пользующегося в практике общения набором усвоенных с детства и юности лексических и семантических штампов. Далеко не всегда (и даже наоборот – очень редко) людьми осознаётся предпосылочная природа собственных высказываний. Ещё чаще она попросту забывается. А отсюда и проистекает то, что названо «выключением» предпосылок.
Такому «выключению» способствует ранняя письменная фиксация мифологических текстов, в результате которой предпосылочная часть текста сначала опускается как «сама собой разумеющаяся», а потом попросту забывается. «Верхушечная» же часть текста становится рано или поздно (в глазах наследников-хранителей записанных текстов) отрывочной и бессвязной. Такую ситуацию наблюдаем, например, при чтении жреческих кодексов майя («Объявляет тайну в доме при посещении <…> владыка дождя»; «На севере жертвы дерева найдутся»; «Болезни – ноша женщины, грозящие гибелью») [13], древнейших записей китайских мифов («Есть женщина, купает луны… она первая начала их купать»; Здесь обитает человек, <…> зовётся Труп Матери Второй»; «Радуги живут к северу… У каждой из них две головы») [14], древнеегипетских культовых формул («Пробудись в мире, смотрящий назад в мире, барка небесная в мире, барка Нут в мире, барка богов в мире» [15] и др.). И такое же «выключение» предпосылок имеет место при достаточно поздней записи нарратива, в результате которой глубинное понимание текста оказывается утрачено уже самими информантами. В этом убеждают примеры из дошедших до нас обрывков рапануйской космогонии («Мешающий бежать, соединившись с оставшимся до завтра, произвёл растение попоро») [16], архаического эпоса эвенов («Нулгади, славный богатырь среди земли, крутящийся до семи раз на вершине большого пальца») [17], практически всех заклинаний и суеверий (авторитетность которых обычно тем выше, чем они непонятней).
«Выключением» предпосылок стимулируется постановка вопросов, ответа на которые мифологическая традиция дать уже не в состоянии. Таковы, например, древнекитайские «Вопросы Небу» – пример эклектического, чисто механического соединения мифов различной стадиальности, «невзирая на вытекавшие отсюда противоречия и отсутствие какого-то сюжетного или идейного единства» [18]: «О, как стрелял Охотник в солнца? И как упали Воронов крыла?»; «Бог велел спуститься Разящему Охотнику, [чтоб] уничтожить бедствия народа Ся. Так почему же стрелял он в Повелителя Реки, и в жёны взял Госпожу [реки] Ло? Он с тетивы спустил метко разящую стрелу, и поразил [он] ею Гиганта-Вепря. Так почему же жертвы мясом, салом не принял [у него] Владыка-Предок»? [19]
Логика трансформации абсурдов
Уже сам факт постановки вышеприведённых вопросов свидетельствует, что в мире мифологизированной ментальности появляются какие-то новые смысловые пласты, с позиций которых и задаются вопросы. А сам факт появления этих новых смысловых пластов означает, что в процессе эволюция базовых предпосылок раннеисторического способа мышления имеет место не только их «выключение», но и их историческое видоизменение.
Причины видоизменения базовых предпосылок – самостоятельная, многоаспектная и малоизученная проблема. Решается она, во-первых, на путях изучения функциональной взаимозаменимости презумпций «происхождения от мифического первосущества», – поскольку происхождение одних и тех же предметов и явлений мифы объясняют обычно несколькими самостоятельными версиями. Отсюда – неизбежная операционализация первобытного мышления, т. е. возникновение в нём способности к обобщениям, абстрагированию, критической рефлексии, к выработке оценочных категорий. Во-вторых, она решается на путях преодоления содержащихся в ранних формах мышления противоречий методом элементарного избавления от них. Отсюда – цепь редукций, превращающих презумпцию «происхождения от мифического первосущества» – через промежуточные фазы – в современную научную презумпцию «происхождения». («Промежуточными фазами» в данном случае оказываются: размыкание циклической схемы акта творения за счёт «исторического» выпрямления последнего цикла [20], сведение множества мифических первосуществ к упрощённому монотеистическому концепту «Бога», декосмологизация монотеистического Бога, его перемещение из мифологического в историческое время [21], его окончательное упразднение в материалистической фазе становления науки). А видоизменение базовых предпосылок влечёт за собой и «перетасовку» всех других, зависимых от них, смысловых связей. Тем самым наряду со «статической» логикой абсурдов, обусловленной самой смысловой структурой ранних форм смысловыражения, в истории культуры заявляет о себе и логика исторической трансформации этих абсурдов.
Разворачивается она в ключе последовательной демифологизации классификационных структур. Данными конкретно-исторических исследований поднят и введён в научный обиход огромный материал, проливающий свет на отдельные проявления этого процесса: на десакрализацию мифологических пространства и времени (на их низведение с космологического и божественного уровней на исторический и человеческий), на деперсонификацию природных явлений и стихий, на замещение мифической событийности исторической. С «технической» точки зрения все такие процессы означают, что структура первобытных классификаций трансформируется в более специализированные формы своих проявлений: мифологические сюжетика и образность перерождаются в жанровое разнообразие и поэтическую образность фольклора; «ритуал, связанный с мифом творения, даёт в последующие эпохи начало эпосу, драме, лирике, хореографии, музыкальному искусству и другим родам и жанрам искусства» [22]; рационализирующиеся ментальные схемы и их содержательное наполнение ложатся в основу позднейших религии, морали и права, служат «исходным материалом для развития философии, научных представлений, литературы» [23].
В этом смысле очень показательна эволюция такого своеобразного аспекта предпосылочной системы раннеисторических представлений, как тройственная сущность мифических персонажей [24], являющихся воплощениями, во-первых, конкретных элементов материального мира, во-вторых, целого класса таких элементов и, в-третьих – сверхъестественных существ [25]. Уже в античной натурфилософии мы видим преобразование частей данной триады в соответствующий набор основных решений проблемы «первоначал»: наивно-материалистическое решение – в милетской школе, раннее «понятийное» – в «идеях» Платона, креационистское – у некоторых стоиков. Одновременно эволюционирует и сама идея «тройственности», причём как в направлении её формы (трёхглавость, трёхликость, триипостасность и прочие варианты триединства в самых разных религиозных традициях), так и в направлении её сути (вплоть до троичной формулы греческого богословия «ум-слово-дух»).
«Конкретная же картина того, каким образом из практики ритуальных измерений и числового “бриколажа” возникали ранние варианты математической науки, из мифопоэтических териоморфно-вегетативных классификаций возникали зоология и ботаника, из учения о космических стихиях и составе тела – медицина, из размыкания последнего этапа в текстах об акте творения – история, а из спекуляций над схемами мифопоэтических операций и лингвистического “бриколажа” – начала логики, языка науки (метаязыка) и лингвистики, – хорошо известна и многократно описана. Во всяком случае, древнегреческая натурфилософия в лице Гераклита, Пифагора, Анаксагора, история в лице Геродота, логика и математика в лице Аристотеля и Эвклида (и того же Пифагора) сохраняют живые связи с наследием мифопоэтической эпохи» [26].
Одним из первых в истории науки, кто попытался объяснить рационализирующий механизм эволюции первобытного духовного наследия критической рефлексией над его смысловой необычностью, был, видимо, Аристотель, заметивший, что «миф создаётся на основе удивительного», а «удивление побуждает людей философствовать» [27]. А ближе к современности тот же ход мысли наблюдаем у классика исторического материализма: «Что же касается тех идеологических областей, которые ещё выше парят в воздухе – религия, философия и т. д. – то у них имеется предысторическое содержание, находимое и перенимаемое историческим периодом, – содержание, которое мы теперь назвали бы бессмыслицей … И хотя экономическая потребность была и с течением времени всё более становилась главной пружиной прогресса в познании природы, всё же было бы педантизмом, если бы кто-нибудь попытался найти для всех этих первобытных бессмыслиц экономические причины. История науки есть история постепенного устранения бессмыслицы или замены её новой, но всё же менее нелепой бессмыслицей» [28].
Оставим на совести Ф. Энгельса утверждение, будто экономическая потребность – это главная пружина прогресса в познании природы (на деле мы видим обратное: экономическая потребность – это главная пружина прогресса в загрязнении и уничтожении природы). Но вот что касается мысли классика об истории науки как об истории замены её «новой, но всё же менее нелепой бессмыслицей», то устаревшей её не назовёшь и сегодня, поскольку «тупики и противоречия (читай: абсурды, нелепости и бессмыслицы. – С. Г.), возникающие время от времени в сфере научного познания, стимулируют новые идеи и оказываются источником научного прогресса» [29].
Разумеется, оптимистический смысл выражения «научный прогресс» нужно воспринимать с учётом той «менее нелепой бессмыслицы», которой характеризуется текущая внутринаучная ситуация и которая связана с тупиком «наивного исторического объективизма» [30]. Суть тупика – в самонадеянной претензии исторического материализма на непосредственное восприятие внеязыковой реальности, минуя посредническую роль смысловых структур языка. А на практике тупик выражается в попытках объяснить происхождение окружающего нас многообразия мира с помощью того, что само нуждается в объяснении – с помощью мифологической по своим истокам презумпции «происхождения» [31]. То есть тупик выражается в абсурде неизжитого наукой тавтологического образа мышления.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?