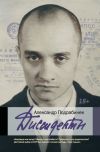Текст книги "«Гласность» и свобода"
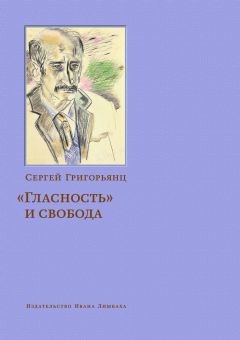
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава II
1988–1991 годы
Восстановление журнала
Разгром «Гласности» оказался большой неудачей для советских властей. В связи «Гласности» с ЦРУ никто ни в СССР, ни за границей не поверил – все эти гебешные «утки» давно набили оскомину. Ни одно из трех организованных КГБ изданий под названием «Гласность» никто за наш журнал не принимал. В мире широко – а тогда события в СССР интересовали всех – распространились журналистские материалы о том, что первый в Советском Союзе независимый журнал уничтожен. Первым был Билл Келлер, который позвонил в «Гласность» в тот момент, когда меня забирали, и успел пару фраз услышать от остававшегося внутри дачи Виктора Кузина до того, как связь была оборвана. И даже утверждения ТАСС и Федора Бурлацкого, что я – хулиган, избивающий старушек, никого не убедили. Больше того, никого в редакции «Гласности» не удалось запугать, а меня – сманить уехать за границу. Кирюша Попов снова был готов принять в своей квартире практически до основания разгромленную редакцию.
Проблема была в другом: все «ксеропаты» – то есть люди, допущенные к немногим в Москве работающим ксероксам и подрабатывавшие перепечаткой запрещенных стихов Мандельштама, Цветаевой и Гумилева, да и не только стихов, теперь уже точно знали, что перепечатывать в крайнем случае Солженицына – можно, а «Гласность» – очень опасно. Четыре месяца Андрей Шилков обходил в Москве всех допущенных к ксероксам и всюду получал именно так сформулированный отказ.
И вдруг в сентябре все чудесным образом переменилось. Андрей в какой-то забегаловке то ли закусывал, то ли пил пиво и к нему подсел высокий хорошо сложенный молодой блондин, который как-то незаметно от общего разговора перешел к ксероксам, и оказалось, что у незнакомца есть на примете печатник, который не откажет и нашему журналу. Андрей все же не зря три года просидел в лагере, а до этого несколько лет скрывался от КГБ. Новый знакомый – звали его Алексей Челноков – с его таким важным для нас предложением не вызвал у него никакого доверия. Мне он так и сказал: «Думаю, это гебня». Но, во-первых, из тюремного опыта мы оба точно знали: думать можно все, что угодно, а для обвинения нужны доказательства. Во-вторых, мы ничем не рисковали. Удастся восстановить распространение журнала – очень хорошо, не удастся – мы остаемся в том же положении, в котором и были.
В Челнокове Андрей, конечно, не ошибся, но об этом чуть позже, сперва о том, зачем КГБ понадобилось нам помогать. Может быть, разгром «Гласности» слишком портил тогда репутацию Горбачева и перестройки, может быть, кто-то в советском руководстве или в руководстве КГБ решил, что в мае они перестарались. Не знаю до сих пор. Вероятнее всего, после разгрома редакции и убийства печатника они решили, что, получив такой урок, я стану сговорчивее. Челноков вскоре попросился в «Гласность» на работу. Отказать у меня реальных причин не было, и он стал одним из ночных дежурных сформировавшейся к этому времени «Ежедневной гласности».
В течение семи лет работа «ЕГ» строилась по единой схеме. Двое дежурных корреспондентов обзванивали ночью порядка пятидесяти городов Советского Союза, где происходили или могли происходить интересовавшие нас события. Из других мест люди звонили сами, и мы им тут же перезванивали, чтобы они не тратились на оплату междугородных звонков. Событий происходило множество, страна бурлила, и всюду у нас были корреспонденты, готовые в подробностях обо всем рассказать – нередко именно они и были действующими лицами, – а единственную возможность рассказать о себе миру предоставляла «Гласность». Ночные дежурные записывали сообщения, набиралось обычно страниц семь-восемь убористого текста, а в шесть утра приезжал поочередно один из четырех редакторов (Тамара, Володя Ойвин, Виктор Лукьянов или я) и приводил тексты в порядок. Часов в семь приезжал печатник (у нас вскоре появился довольно примитивный ротатор – главным человеком, с ним управлявшимся, был Виталий Мамедов, знакомый мне еще по Чистопольской тюрьме, – печатать на нем журнал было невозможно, но для «ЕГ» он годился). В более поздние времена приезжал еще и переводчик на английский (их тоже было четверо) и переводил тексты, после чего происходила рассылка – сперва с курьерами, позже – по факсу.
Люди были молодые, очень разные и никаких особенных правил не было. Скажем, Андрей Шилков и тогда был не дурак изредка выпить, на работе это никак не сказывалось, точнее – вся организационная часть (да и не только она) лишь на нем и держалась. Но было одно жесткое правило (кроме запрета принимать подарки): ночные дежурные не могли пить, поскольку было понятно, что никакой работы в этом случае не будет. И без того трудно не спать всю ночь, а уж выпив… Запрет этот был всем известен, вполне понятен и почти никогда не нарушался. Но однажды, кажется, Володя Ойвин, приехав в шесть утра в квартиру на Литовском бульваре (Ясенево) обнаружил пару пустых бутылок – дежурили Митя Волчек и Челноков, и я их предупредил. Но через неделю опять оказалось, что они оба сильно навеселе и бюллетень практически не готов. Стало ясно, что взрослый женатый Челноков попросту спаивает девятнадцатилетнего Митю.
После второго раза я Челнокову сказал, что больше он работать в «Гласности» не будет. И заменил его другим сотрудником. То, что началось после этого, подтвердило наши с Андреем предположения. Сперва Алексей уговаривал меня его не увольнять. Но я решения не менял. Потом его жена, с которой я не был знаком, начала мне звонить и просить не увольнять мужа. Все это было очень странно. Работа в «Гласности» совсем не была подарком: платили мы немного, работа по ночам достаточно утомительна. Алексей был хорошо образованным человеком и явно мог найти себе работу получше. К тому же он не принадлежал к диссидентскому миру, так что идейных соображений, заставлявших его работать именно в «Гласности», тоже не было. Поэтому чем больше меня уговаривали, тем менее я был склонен брать Челнокова назад. И действительно, уже месяца через полтора мы увидели в «Известиях» большой подвал, подписанный Алексеем Челноковым – спецкором «Известий». Потом он проник и в «Русскую мысль», а в конце концов плотно обосновался во вполне откровенных журналах КГБ «Страна и власть» и «Компромат».
Конечно, при сравнительно большом штате «Гласности» и фонда «Гласность» (в некоторые годы по тридцать-сорок человек), с нередкими, по разным причинам, увольнениями, в журнале, «ЕГ», а потом и в фонде появлялись и другие внедренные люди. Но я к этому относился спокойно, даже бухгалтерия у нас была совершенно открыта – все сотрудники знали, от кого и сколько мы получаем, а потому не жаловались, если были задержки в зарплате. Скрывать было абсолютно нечего, очень редко бывало так, чтобы кто-то подозрительный начинал серьезно вредить (хотя однажды в «ЕГ» это случилось, а потом повторилось уже при окончательном разгроме фонда), а главное – создавать свой «комитет» и выяснять, кто есть кто, было совершенно невозможно и неинтересно. Сил и времени с трудом хватало на ежедневную работу.
Тираж журнала пришлось вновь сократить до ста экземпляров, но объем его резко вырос: до четырехсот страниц в каждом номере. Статьи и интервью обо всем, что происходило в необъятном Советском Союзе, стекались в «Гласность», и эти материалы были только у нас. Украинская католическая церковь и Народный фронт Эстонии; начинавшаяся война в Карабахе, где погиб издатель армянского перевода «Гласности», и борьба за свои права гагаузов; материалы о восстании в Новочеркасске Петра Сиуды – единственного отсидевшего «четвертак», но выжившего участника восстания (вскоре он странным образом будет убит); положение политзаключенных и проблемы вновь создаваемых общественных организаций; до пятнадцати очерков Мясникова из приемной «Гласности»1010
Раздел журнала «Прием ведет А. Мясников».
[Закрыть] и в каждом номере – публикации воспоминаний и документов в разделе «Архив «Гласности». К тому же философские и публицистические статьи Григория Померанца (к примеру – сопоставление «Русофобии» Игоря Шафаревича и понимания судьбы России Георгием Федотовым), интервью Юрия Лотмана «История есть машина выработки разнообразия», статья «Дать взятку Госплану» Василия Селюнина. Под конец, в январе 1990 года, мы даже опубликовали телефонную книгу ЦК КПСС со всеми засекреченными номерами членов Политбюро и секретарей ЦК.
Психиатрия и попытка возбуждения уголовного дела
Одна из самых сложных проблем «Гласности» неожиданно оказалась связана с психиатрией. Поток людей иногда буквально штурмом бравших нашу приемную – мы-то принимали всех, но милиция периодически начинала разгонять посетителей, собравшихся у подъезда дома, где жил Кирилл Попов, или пыталась собирать подписи недовольных соседей (а они все очень гордились, что рядом с ними «Гласность»), – вдруг выявил для нас неожиданную и страшную особенность советской жизни: не только диссидентов помещали в психиатрические больницы (истории генерала Петра Григоренко, Наташи Горбаневской, Леонида Плюща, Владимира Буковского, Кирилла Попова были уже хорошо известны в мире), но десятки, а скорее сотни тысяч других, никому неизвестных людей, будучи вполне здоровыми, насильственно помещались на долгие годы, иногда на всю жизнь, в советские психиатрические больницы и даже в специально созданные «психиатрические зоны», то есть лагеря для людей, объявленных сумасшедшими. Там они были совершенно бесправны, с ними можно было делать все, что угодно – жалобы никем не рассматривались.
Скажем, если человек начинал жаловаться, что у него в квартире прорвало канализацию и все залито дерьмом, а при этом не хотел слушать разумных объяснений, что сантехник на весь город один и у него очередь на полгода, и вообще убирать дерьмо никто у него не обязан, если человек продолжал настаивать, да еще не дай бог начинал кричать – место в психушке ему обеспечено. Это был самый простой способ решения проблем. Для приемных райсоветов, горсоветов, облсоветов в прокуратурах всех уровней на дежурстве находилась (иногда прямо там, в специально выделенной комнате) бригада санитаров, которая подхватывала наиболее недовольных или шумных жалобщиков и тут же волокла их в спецмашину. Врачи-психиатры всегда, повторяю: всегда, послушно называли таких людей больными и устанавливали им «курс лечения». А дальше их судьба (часто трагическая) зависела от многих сложных обстоятельств, но уж никак не от их психического здоровья.
Чудовищное открытие журнала «Гласность», что в Советском Союзе бесспорными преступниками были не только несколько десятков психиатров, поставивших ложные или двусмысленные диагнозы нескольким десяткам политических противников власти, но тысячи врачей, а их жертвами были едва ли не сотни тысяч человек – около миллиона было снято с необоснованного психиатрического надзора (умеренная цифра в сравнении с заключенными в лагерях и тюрьмах) – так поразило членов и Американской и Международной ассоциации психиатров и французских «Врачей без границ», что они начали присылать своих специалистов, чтобы провести амбулаторный прием людей, вырвавшихся из «психушек». «Гласность» это поставило в очень трудное положение. Во-первых, среди нас не было ни одного врача; во-вторых, приезжавшие врачи вынуждены были вести осмотр и опрос мнимых больных все в той же микроскопической квартирке Кирилла; в-третьих, нам не удавалось ни от одного профессионала получить помощь. Из тех, кто раньше занимался «карательной психиатрией» в СССР Анатолий Корягин уехал в Швейцарию; Александр Подрабинек делал вид, что все это его не касается; живший в Киеве Глузман возглавил украинскую Хельсинкскую группу и больше всего был озабочен тем, чтобы не ухудшить своих отношений с киевскими властями. В Москве Юрий Савенко создал Независимую психиатрическую ассоциацию (она замечательно работает до сих пор), но тогда она еще была мало известна в мире и все шли к нам. К тому же приходилось бороться с парой тут же созданных КГБ психиатрических ассоциаций, которые распространяли лживую информацию. Да еще Сквирский – бывший коллега Волохонского по СМОТу1111
СМОТ – Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся – одна из первых попыток создания в СССР независимого от ВЦСПС профсоюза. Образован в 1978 г. группой диссидентов. В состав совета представителей вошли Людмила Агапова (инженер), Владимир Борисов (электрик), Лев Волохонский (рабочий), Александр Иванченко (инженер), Евгений Николаев (географ), Валерия Новодворская (библиотекарь), Владимир Сквирский (геолог), Альбина Якорева (студентка, исключенная из института). Участие в деятельности СМОТ, призванной отстаивать права трудящихся, ущемляемые советской системой, приводило членов организации к быстрой потере работы и тюремному заключению, преимущественно по статьям 70 (антисоветская агитация и пропаганда) и 190 (клеветнические измышления, порочащие советский, общественный и государственный строй) Уголовного кодекса РСФСР.
[Закрыть], а теперь, конечно, член «Демсоюза» тоже знал многих таких людей и направлял для освидетельствования в «Гласность», но при этом, как внезапно выяснилось, брал с них за это деньги.
И тут Билл Келлер – корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, который перед моим освобождением написал целый разворот обо мне в газете, заказал мне от имени редакции статью о советской психиатрии. Конечно, не будучи специалистом, я не мог написать серьезную статью, к тому же среди десятков советских проблем, которыми «Гласности» приходилось заниматься, психиатрия не находилась на первом месте, но отказаться, не написать об этом было невозможно. К счастью, объем статьи был невелик, и вскоре я отдал Биллу четыре странички под жестким названием «Убийцы в белых халатах».
Статья вызвала довольно большой интерес, была перепечатана многими изданиями и распространена «Ассошиэйтед Пресс». В Париже она появилась в английской «Интернейшнл геральд трибьюн» и в «Либерасьон». Прошли месяц или полтора, и я был вызван в прокуратуру Кунцевского района, где мне объявили, что по заявлению академика Г. В. Морозова – директора института имени Сербского («Серпов»), которого я упоминал в статье, в отношении меня и газеты «Либерасьон» (по-видимому, как наиболее слабого противника) возбуждено уголовное дело о клевете.
Этого, конечно, можно было ожидать, но вот то, что выяснилось потом, повергало меня в совершенное изумление. Оказалось, что в перестроечном Советском Союзе я не могу найти ни одного адвоката, который бы осмелился меня защищать. При советской власти для сидящих в тюрьме диссидентов (в том числе и для меня) адвокаты находились, а в либеральную эпоху Горбачева их нет. Софья Васильевна Каллистратова, конечно, не отказалась бы, но она тяжело болела. Защищавший Алика Гинзбурга Борис Андреевич Золотухин, когда-то исключенный за это из коллегии адвокатов, к тому времени известный перестроечный деятель и даже депутат Верховного Совета, отказался категорически. Кто-то мне потом объяснил, что Борис Андреевич рассчитывает стать председателем коллегии адвокатов и понимает, что моя защита ему повредит. Не знаю, правда ли это. После довольно напряженных поисков Дина Каминская, жившая к тому времени в Нью-Йорке, предложила мне стать ее подзащитным. Я, конечно, согласился и был ей очень благодарен, но оставалось неясным, впустят ли ее в Советский Союз и допустят ли в качестве адвоката в советский суд.
Впрочем, до этого не дошло. Обсудив все с Келлером, я написал заявление о том, что статья мне заказана «Нью-Йорк Таймс», я не понимаю при чем тут «Либерасьон», и на следующий прием к прокурору пришел не только вместе с Биллом, но еще и с большой стопкой книг на разных языках, изданных в разных странах, о советской психиатрии и заслугах академика Морозова.
– У вас другая специальность и, возбуждая в отношении меня уголовное дело, вы, вероятно, не знали, что академик Морозов широко известен в мире, и, кроме моей статьи, упоминается по крайней мере в полутора десятках различных профессиональных исследований, – сказал я прокурору.
– Хорошо, я ознакомлюсь и подумаю, – сказал прокурор, а через неделю я получил письменное извещение, что дело прекращено, так как академик Морозов забрал свое заявление. Судиться с «Нью-Йорк Таймс» им явно не хотелось.
Первый опыт военного положения в СССР и наш арест в Армении
В восемьдесят седьмом году произошла первая из пяти или шести попыток со мной договориться. Очередной пришедший в «Гласность» посетитель сказал, что у подъезда стоят какие-то странные машины. Откуда они, было очевидно, и Ася Лащивер, которой нужно было куда-то торопиться, выпрыгнула в окно с другой стороны дома – квартира Кирилла была на первом этаже. Потом не выдержал один из посетителей – молодой человек, отсидевший срок по делу «социалистов», к которому все это явно не относилось. В окно мы увидели, что его тут же подхватили под руки. Спасать его пошла Нина Петровна Лисовская, но стало ясно, что ее тоже схватили. Делать было нечего и хотя мне очень не хотелось (я чувствовал, что выманивают меня) – пришлось идти выручать Нину Петровну. Как только я вышел, меня подхватили двое дюжих молодых людей, крепко ударили по затылку и посадили между собой на заднее сидение «жигулей».
Привезли в какой-то «опорный пункт» на Петровке, где два хорошо одетых молодых человека сказали, что хотели бы со мной поговорить. Я спросил:
– Кто вы?
– Ну, какое имеют значение наши имена. Считайте, что мы историки.
– Я не разговариваю с людьми, с которыми не знаком и которые меня к себе привозят насильно.
– Что вы, Сергей Иванович, вы же все понимаете и никуда не можете отсюда уйти.
– Ну что ж, о незаконном задержании завтра напишу в прокуратуру, а пока посплю – приходиться много работать, – завернувшись с головой в дубленку, улегся на деревянный топчан, на который меня посадили.
Около получаса сквозь дубленку слышал их уговоры:
– Как вы не понимаете, Сергей Иванович, что мы с вами делаем одно дело – партия поручила нашему комитету осуществлять демократизацию страны.
Я и впрямь начал засыпать. В конце концов уговоры прекратились. Часа через два (в допустимый по закону срок) меня выпустили. Я не собирался делать одно дело с Комитетом государственной безопасности.
И такие беседы велись по всей стране с лидерами повсюду возникавших демократических организаций – я написал об этом в статье «КГБ развлекается или действует» во втором номере журнала «Гласность». При Чебрикове его сотрудники без всякого стеснения говорили о своей руководящей роли в процессе «перестройки».
Нечто гораздо более серьезное произошло с известным армянским диссидентом и моим другом Паруйром Айрикяном, героически проведшем двадцать пять лет в советских лагерях. Мы-то хорошо понимали, хотя никогда не говорили об этом, что не все сидели в тюрьмах и лагерях одинаково. Но Паруйр был бесспорным героем. Сразу по приезде его в Москву, поговорив с полчаса у меня дома, мы решили продолжить разговор во дворе и тут же увидели отъезжающую от моих окон «Чайку», утыканную антеннами радиопрослушки, которая нагло поехала прямо за нами. Мы как-то смогли от нее уйти по слишком узким для большой машины дворам, но дня через три вышел номер «Известий» с громадной, чуть не на целую полосу, статьей, нас обоих разоблачавшей и безоговорочно от имени всего советского народа осуждавшей. На следующий день Паруйр был арестован.
Лену Сиротенко – жену Паруйра к нему все же пускали, и вскоре стало ясно, что никакого обвинения ему предъявлять не собираются, с ним просто, используя лубянскую атмосферу, хотят договориться, как, возможно, договорились с другими национальными лидерами о том, чтобы сделать их на время даже президентами, но, конечно, ручными. Паруйр ни на какие договоренности с КГБ не шел, ни на запугивания, ни на самые заманчивые предложения не реагировал, неделя шла за неделей, и власти попадали во все более трудное положение. Ни убить, ни судить его при всемирной известности было невозможно. Выпустить с тем, что он тут же обо всех переговорах и предложениях расскажет – тоже, и скандал разрастался. Влиятельные армянские общины в США и Франции требовали вмешательства Конгресса, Национального собрания1212
Национальное собрание, или Национальная ассамблея французской Пятой республики – нижняя палата парламента Франции.
[Закрыть], видных политиков.
Ко мне приехал первый секретарь американского посольства и сказал, что советские власти обратились к послу для разрешения этой неприятной ситуации и якобы по желанию Паруйра Айрикяна просят разрешить ему въезд в США. Я ответил, что в Лефортово у Паруйра не был, что он сейчас думает – не знаю, но судя по тому, что слышал от него, эмигрировать он не хочет, хочет жить и строить новую жизнь в Армении. Думаю, не получив от него устной, а возможно, поддельной письменной, просьбы о въезде в США соглашаться на это не стоит – как можно соглашаться на насильственный ввоз в США человека, который совершенно этого не желает. Выслать Айрикяна как Солженицына, договорившись, как генерал КГБ Кеворков с правительством ФРГ, в 1987 году было невозможно, да и Рональд Рейган был совершенно не похож на немецких социал-демократов. Но добиться от Паруйра, чтобы он сам попросил американцев о визе, ни правительственные чиновники, ни генералы КГБ не смогли.
Тем временем Москву с визитом посетил Рональд Рейган. Прием для диссидентов и обед были особенно многолюдными. Я все же не только для советских властей, но и для американцев был слишком неудобен и жёсток, поэтому для приветствия президенту были выбраны более покладистый и осторожный Сергей Ковалев и отец Глеб Якунин. Меня, по-видимому, в виде компенсации пригласили не только с женой, но и с двумя детьми. Тимоша сидел рядом с Колином Пауэллом – вероятно, это был первый в его четырнадцатилетней жизни живой афроамериканец, да еще такой большой, веселый, улыбающийся и к тому же – четырехзвездный американский генерал. После обеда президент еще и надписал Ане и Тимоше карточки, а поймавший меня в дверях с телевизионной камерой Генрих Боровик попытался спровоцировать вопросами об американских деньгах – впрочем, непрофессионально и безуспешно. Из сотни или даже полутораста приглашенных на обед к президенту США были двое детей Паруйра Айрикяна – я передал послу координаты Лены Сиротенко.
Попытки с ним договориться длились месяца полтора. Его готовы были сделать президентом Армении, тем более, что он был подлинным национальным героем, но с помощью КГБ. Именно это Айрикяну и не подходило. Освобождать его было постыдно, а ни одно из государств не давало согласия на незаконный насильственный ввоз неизвестно за что задержанного человека. В конце концов его в наручниках посадили в самолет и после долгого перелета Паруйр оказался в какой-то южной стране. Оказалось, что это Эфиопия, где никого не нужно было спрашивать. Привезли его в гостиницу в Аддис-Абебе и оставили с небольшим количеством денег. Въезд в СССР ему запретили.
В конце ноября восемьдесят восьмого года в Ереване комитет «Карабах», который после высылки Паруйра Айрикяна стал центром демократического и национального движения в Армении, планировал новые всенародные митинги. На предыдущих – небывалых по численности в Советском Союзе – до миллиона человек – я не только был, мы сделали сенсационные видеосъемки, показанные всеми крупнейшими телеканалами мира. На новые митинги мы с Андреем тоже были приглашены, купили билеты на самолет, кажется, на час дня, а в девять утра я должен был прийти во французское посольство, где для нескольких диссидентов давал завтрак приехавший в Москву президент Франсуа Миттеран. Я сидел рядом с президентом, что-то говорил ему о несовпадении заявлений Горбачева и того, что происходит в стране, на что Миттеран ответил:
– Но это первый советский лидер, с которым можно разговаривать.
Возразить на это было нечего, к тому же, по моим представлениям того времени, Миттеран сам был слишком левый: социалист, в правительстве которого еще недавно было четыре коммуниста.
В Ереване мы с Андреем нашли в аэропорту Звартноц такси и поехали в Союз писателей, где размещался комитет «Карабах». Но по дороге, прямо на проспекте Ленина, нас остановил солдатский патруль, пересадил в военный ГАЗик и вскоре мы оказались сперва в помещении военной комендатуры, а потом – поскольку нам никто ничего не объяснял, никаких оснований для задержания не предъявил – оказались в штабе. Там, если не ошибаюсь, генерал Родионов объявил нам, что мы задержаны, так как въехали в расположение воинской части.
– Какой воинской части? – Мы были на проспекте Ленина…
– В Ереване с утра введено военное положение, и весь он является расположением воинской части. На время военного положения срок административного ареста увеличивается с пятнадцати до тридцати суток, и вы оба задержаны, – без суда и следствия заявил мне Родионов.
Им очень хотелось завладеть большой полупрофессиональной видеокамерой, с которой приехал Андрей, но мы ее не отдали, а военные не осмелились забрать ее силой. За ней по моей просьбе приехал самый известный тогда писатель Армении Грант Матевосян, у которого мы должны были остановиться, и камеру мы отдали ему.
К вечеру мы уже были в КПЗ в центре Еревана, кажется, на улице Карла Маркса. Все это казалось скорее забавным: завтракаю с президентом Франции, ужинаю в тюрьме. К тому же кто-то смог нас с Андреем сфотографировать, переслать фотографии на Запад, а как раз дней через пять Горбачев выступал в ООН, рассказывая о правах человека в СССР и наша фотография в ереванском КПЗ, попавшая, кажется, в «Нью-Йорк Таймс», стала подходящей иллюстрацией. «Гласность» в Армении была очень популярна, новость о нашем аресте распространилась мгновенно – и уже с утра к КПЗ приходили три-четыре женщины и приносили для нас хаш, свежие овощи, сыр, горячий хлеб. Майор Карапетян – начальник КПЗ – в отчаянии говорил:
– Если я буду передавать вам еду, меня уволят. Если не буду передавать – никто дома со мной разговаривать не будет.
Все передавал и, кажется, действительно был уволен.
Президент Миттеран прислал не столько возмущенное, сколько удивленное личное письмо Горбачеву с вопросом: что происходит в СССР с диссидентами вообще, а с теми, с кем он в тот день завтракал, – в особенности?
Это была первая и сразу же из-за катастрофического землетрясения в Спитаке и Ленинакане забытая попытка введения военного положения в одной из столиц национальной республики Советского Союза, чтобы обуздать все расширявшееся и пугавшее и Кремль и Лубянку демократическое движение.
Одновременно выполнялась другая, более деликатная задача – конечно, силами КГБ, а не армии. Не только мы с Андреем, но и весь комитет «Карабах», руководивший митингами и возможными забастовками, был в тот день арестован. Но держали их не в КПЗ, а в ереванской тюрьме, в отдельных камерах. И, конечно, как до того с Паруйром Айрикяном в Лефортово, с ними вели доверительные беседы. Когда, как и нас, через месяц их выпустили, у нескольких тональность выступлений изменилась – было любопытно, каким разным по составу стал прежде довольно цельный комитет «Карабах». Естественно, ставшие более покладистым заняли ведущие посты в руководстве независимой Армении. А Паруйр, когда смог вернуться, остался лидером оппозиционной партии, хотя и менее преследуемой, чем в советские годы.
Дней через десять началось землетрясение в Спитаке и Ленинакане, страшнее которого столетия не знала Армения. Разрушились как карточные домики блочные сооружения советской поры, тысячи погибших, сотни тысяч раненных. Уж не знаю за что – по-видимому, за то, что кричали и плакали, в КПЗ попало нескольких женщин, с трудом выбравшихся из-под завалов. Ни успокоить их, ни даже смотреть на них, рыдавших дни напролет, было невозможно.
Между тем дня за три до окончания срока нам – в виде большого одолжения, конечно, – были предложены билеты на самолет, которые «достать так трудно», чтобы мы прямо из КПЗ улетели в Москву. Но мы с Андреем решили от одолжения отказаться и посмотреть, что делается в Ереване. Но теперь главным событием было чудовищное землетрясение. Все остальное отошло на второй план – демократические митинги, военное положение, арест комитета «Карабах». Недоверие к Москве, Кремлю, советской власти было так велико, что самым распространенным было объяснение землетрясения как искусственно вызванной властями с помощью подземных взрывов геологической катастрофы.
С тем мы и вернулись в Москву накануне Нового года – в это время Тома с Тимошей и Аней получили не только приглашение приехать в Париж, но даже разрешение на выезд, и, естественно, откладывали его, меняли билеты, ожидая моего возвращения из Еревана. В результате Новый год они встречали в поезде, а в Париже выяснилось, что по ошибке, случайной или намеренной, во французском посольстве им была проставлена виза не обычная туристическая, а предусматривавшая дальнейшую просьбу Томы о постоянном месте жительства во Франции. Такая виза создавала определенные трудности для выезда из Франции до подачи просьбы, с которой Тома не собиралась обращаться. К тому же в ее советском заграничном паспорте не было странички для дополнительной визы, а ей необходимо было съездить в США. Пришлось с большими опасениями, взяв с собой для подстраховки Олю Иофе (у нее и ее мужа Валеры Прохорова, крестного отца Нюши, они остановились, а потом во время длительных своих приездов в Париж, чаще всего жил и я), идти в советское посольство. Но там их приняли очень радушно, вклеили в паспорт нужную страничку и как бы невзначай сказали:
– Если вы захотите задержаться во Франции, мы, конечно, поймем и это не вызовет возражений.
Ничего подобного ни один советский человек, попавший за границу, никогда не слышал. Думаю, таким образом меня опять пытались уговорить уехать из СССР: останется в Париже жена с детьми – переберусь туда и я.
Томе нужно было ехать в Нью-Йорк из-за ряда запланированных выступлений и довольно странной ситуации, возникшей по причине несколько легкомысленного доброжелательства Алика Гинзбурга. Зная, что в СССР, и в особенности у диссидентов, царит поголовная нищета, он подарил мне свой фотоаппарат, прислал для сотрудников «Гласности» и раздачи другим гору старой (но французской) одежды, купленной на рынке, коробку каких-то старых очков и постоянно повторял по телефону, что готов прислать любые лекарства, которые могут быть нужны. И, действительно, какие-то лекарства он присылал, причем цен никогда не называл, а мы совсем ничего в этом не понимали и были уверены, что он все может. Внезапно выяснилось, что даже не сотрудник «Гласности», не ее автор или посетитель, а мой юношеский близкий приятель в Риге Леня Мещанинов умирает от врожденного порока сердца. Единственное, что может его спасти – искусственный клапан, которые уже появились на Западе, но в СССР их и близко не было. И я, получив от Алика заверения «да, да, пожалуйста» – думаю, он и сам толком не знал, о чем идет речь, – пообещал достать для Лени клапан. Но прошло недели две, оказии из Парижа приходили, а клапана не было. Я напоминал Алику – речь шла о жизни – он отвечал:
– Да, я помню, в следующий раз.
И так шли неделя за неделей. До последнего срока операции оставались считанные, может быть, еще не недели, но месяцы. Я ничего не мог понять, по-прежнему торопил Алика, и вдруг он признался: клапан – вещь очень дорогая, стоит четыре тысячи долларов. Ни он, ни «Русская мысль» купить его не могут. Но так как он пообещал и тем самым поставил меня в безвыходное положение, они с Ириной Алексеевной Иловайской, редактором «Русской мысли», попросили Солженицыных купить клапан. И Наталья Дмитриевна специально приехала в Нью-Йорк, чтобы отдать его Томе. Самое грустное в этой истории было то, что мы не знали главного: клапаны бывают разных размеров. Подаренный Солженицыными клапан случайно Лене подходил, но он, измученный ожиданием или по каким-то внутренним причинам, хотя еще оставалось недели две до крайнего срока операции и был в Вильнюсе хирург, который брался ее сделать, в последний момент от клапана отказался, подарил его другому больному и вскоре умер.