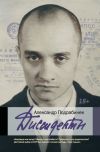Читать книгу "«Гласность» и свобода"
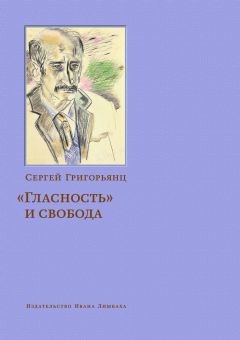
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сергей Григорьянц
Гласность и свобода
© С. И. Григорьянц, 2019
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2019
© Издательство Ивана Лимбаха, 2019
***
Посвящается сыну моему Тимофею
…Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
Арсений Тарковский
Кто хочет освободиться, видит перед собой только преграду и провозглашает только свое отрицание.
М. О. Гершензон, Вячеслав Иванов. «Переписка из двух углов»
Предисловие
Я знаю, что мои высказывания последних лет у многих вызывают недоумение, у некоторых – сожаление. Ведь я критикую людей, с которыми меня хотели бы объединить: это некоторые наиболее известные сегодня диссиденты и правозащитные организации; самые, казалось бы, демократически ориентированные средства массовой информации и их редакторы и наконец (правда, изредка), деятели современного демократического движения, которые теперь всё понимают и даже начали иногда говорить правду. Получается, что я не только поддерживаю их критику в циничной, откровенно клеветнической и окончательно продавшейся российской печати, но даже как бы ставлю их рядом, отношусь одинаково и к преступной организации, захватившей власть в нашей стране, и к ее искренним противникам.
Но это понимание ошибочное. Я никогда не ставлю рядом убийц, захвативших в России власть, и людей, по слабости или недомыслию убийцам помогавших. К наиболее известным диссидентам старшего поколения (примерно к десятку), дискредитировавшим и в значительной степени способствовавшим уничтожению демократического движения в России, я отношусь как к хорошим, но очень недалеким и тщеславным людям, когда-то исполненным лучших намерений и успевшим в вегетарианские годы правления Хрущева и в первые годы Брежнева сделать что-то полезное. Когда наступило совсем иное время, никто из них не оказался способен это понять. К власти в России шли (и пришли) убийцы, хорошо подготовленные, с мощной организацией и большим, очень специфическим опытом, но им было невыгодно обнаруживать свои цели и способы их достижения, им нужны были ширмы, а потому не себя, а наиболее честолюбивых из диссидентов они назвали победителями, сделали известными и убедили их на всех телеканалах и в газетах говорить, что в России произошла бескровная демократическая революция и теперь здесь «наша власть»11
Я еще расскажу о том, как именно эта «наша власть» пять раз громила созданный мной фонд «Гласность».
[Закрыть]. Еще хуже я отношусь к назвавшим себя демократическими СМИ, созданным генералами КГБ Аксеновым и Бобковым – всем этим телевизионным «Взглядам», «Прожекторам перестройки» и НТВ, учрежденным в 1990-е радиостанциям и газетам, игравшим в свои игры и знавшим больше, чем эти несколько диссидентов, провозглашенных ими продолжателями дела Сахарова, как будто Андрей Дмитриевич мог согласиться принять участие в уничтожении главной опоры русской демократии – миллионного движения «Демократическая Россия» и «Мемориала» как общественно-политической организации. В те годы именно «Мемориал» был силой, организующей интеллигенцию в ее борьбе за демократию в России.
Высочайшую оценку диссидентам и их движению когда-то дал их противник – капитан КГБ Виктор Орехов, подслушивавший все наши разговоры дома и по телефону, читавший все тексты и знавший о каждом нашем шаге. А в результате реально готовый отдать жизнь (и осознанно шедший на это) за помощь диссидентам так же, как шли в тюрьму и на смерть эти чистые и самоотверженные люди. И как забыть ту атмосферу любви друг к другу, готовности во всем помочь, которая была неотделима у диссидентов в те годы от стремления к правде, обновлению страны и, конечно, к жертвенности. И это были сотни, скорее даже тысячи людей по всей стране. Они никогда (или очень недолго) не называли август 1991 года «своей победой», а режим Ельцина – «нашей властью», а потому и оказались не только забытыми, но и преследуемыми. Им не давали ни радио-, ни телеэфира, не брали у них многочисленные интервью. И я рад, что я не с «победителями» и не с их бывшими руководителями и друзьями, а теперь противниками; что оказался с той тысячей «забытых» диссидентов, с теми, кто видел и понимал, что же на самом деле происходит в стране; с тысячей уничтоженных и забытых самиздатских газет и журналов – и единственной подлинно свободной печатью в истории России.
Я человек, который внезапно и совершенно того не желая, на несколько лет оказался в центре общественной жизни. Жизни, которая всегда была мне не то что неинтересна, но попросту неприятна. Меня неожиданно арестовал, желая как-то использовать, КГБ, когда я писал книгу о художнике Боровиковском и понемногу продолжал семейные коллекции. Писал я, правда, и о литературе русской эмиграции.
После Верхнеуральской тюрьмы, где я сходил с ума, где от дистрофии на распухших от отека ногах кожа была как чешуя и лопалась на ступнях, где меня каждый месяц опускали в карцер и десятки раз поднимали всегда в новую камеру с новыми уголовными соседями, после этого уголовники-любители, наводнившие Кремль и рассовывающие по карманам Россию, уже не могли меня обмануть. Им было нелегко меня убить, при моей постоянной тюремной настороженности. Труднее, чем моего сына. Поэтому я чудом выживал, но оставался по-тюремному довольно упорным. И почти двадцать лет удерживал и восстанавливал после разгромов совершенно изолированную, но немало сделавшую для русской демократии «Гласность».
При этом у меня было отвращение к митингам, я не хотел быть ни миллионером, ни министром, ни вождем, меня нельзя было купить, ведь собственную жизнь я невысоко ценил. У меня не было тщеславия и личных интересов в политической жизни, а потому я отказывался (иногда зря) от разнообразных заманчивых предложений. Я всего лишь пытался еще четверть века назад предупредить, что ждет впереди Россию и всех нас. «Гласность», как могла, пыталась сопротивляться приходу этого вполне очевидного будущего (сегодня – настоящего). Но я не был услышан – в условиях двадцатилетней блокады «демократическими» СМИ сопротивление одинокой «Гласности» оказалось недостаточным. Ничего кроме здравого смысла, способности видеть, что делается в стране и нежелания врать – чего от меня требовали со всех сторон и требуют сейчас – у меня не было. На самом деле я хотел собирать картины и писать книги, и это, оставшись один, уже без семьи, в Москве, я делаю сегодня. Но в том, что я писал и пишу, я пытаюсь говорить правду, хотя знает ее, конечно, один господь Бог.
Но и эту книгу и три других, которые вчерне завершены, я пишу не только потому что правда, даже всего лишь такая, какой я ее вижу, кому-то нужна. Есть и еще две существенные причины для высказывания.
Во-первых, в начале 1990-х годов, даже после убийства Сахарова, год или два сохранялась возможность сделать Россию чуть более европейской – хотя бы не допустить разгрома парламента, принятия полумонархической конституции и ковровых бомбардировок в Чечне. Забывать об этой упущенной Россией, как и в семнадцатом году, возможности нельзя.
И, во-вторых, сегодня, в сотни раз более слабое, чем тогда, возрождается, да еще в борьбе после дискредитации и поражения, демократическое движение. Но поскольку оно выросло в обстановке лжи и беспамятства, организованных руководимыми КГБ российскими СМИ – от коммунистов и до последнего времени хорошо устроенных, якобы всегда героических демократов, – оно не имеет ни представления о том, что еще совсем недавно происходило в стране, ни опыта сопротивления – и повторяют уже совершенные ошибки. Россия ничему не учится ни на собственной крови, ни на катастрофически упущенных возможностях.
Намереваясь хоть о чем-то напомнить, я и написал эту книгу.
Глава I
Первые дни после освобождения и создание журнала «Гласность»
«Перестройка в тюрьме» – последняя глава моих «Тюремных записок» – о том, почему именно мое освобождение в феврале 1987 года стало сенсационной мировой новостью: после возвращения из ссылки Сахарова из тюрем и лагерей в СССР освобождают политзаключенных. Из десяти первых освобожденных лишь трое жили в Москве. Но Юра Шиханович по личным причинам не хотел никого видеть, а Сергей Ковалев был реабилитирован, но не возвращен из ссылки в Твери. К тому же он не хотел встречаться с журналистами, а его ссылка не вызывала у журналистов такого интереса, как освобождение прямо из политической тюрьмы. Впрочем, возвращение из Горького Сахарова было еще большей журналистской сенсацией, и Андрей Дмитриевич, как и я, никому не отказывал в интервью.
Было ясно, что все это вполне устраивает советские власти. Я был мгновенно прописан у себя дома в Москве несмотря на то, что мой военный билет за годы бесконечных обысков куда-то делся. А ведь между первым и вторым сроком у меня был надзор: было разрешено жить только в соседних с Московской областях. Мне и тогда было очевидно, а сегодня видно по документам, что нашим освобождением, так же как убийствами и истязаниями в лагерях и тюрьмах тех, кто не подходил по их меркам и интересам для освобождения, успешно занимался Комитет государственной безопасности.
Недели две у моего дома постоянно стояли по несколько машин газетчиков и телевизионщиков со всего мира, целыми днями я отвечал на их вопросы – иногда довольно бессмысленные, поскольку большинство журналистов не могло понять, что такое советские политические лагеря и тюрьмы, за что и на какие сроки в них оказываются граждане страны Советов. Это были чуть ли не сотни материалов во всем мире, журнал «Ньюсвик» в каждом номере давал кроме все новых интервью еще и мои фотографии: то с семьей, то в одиночку. Хотя в своих бесконечных интервью я и говорил о гибели в соседних камерах в Чистополе Толи Марченко и Марка Морозова, о сотнях заключенных в политических лагерях и тюрьмах, и тысячах – в уголовных лагерях и психушках, по политическим причинам все еще ждущих освобождения, по сути своей сама эта компания создавала Горбачеву репутацию борца с репрессиями, а Советскому Союзу – страны, успешно идущей по пути к демократии. Эти интервью, как и ежедневные напоминания Сахарова, бесспорно, способствовали скорейшему освобождению и моих соседей по Чистопольской тюрьме и сотоварищей по другим тюрьмам и лагерям, а потому я считал их необходимыми, хотя адвокат Софья Васильевна Каллистратова была против.
В «Новом мире» со мной заключили договор и даже выплатили какой-то аванс за предисловие к прозе Алексея Ремизова, до этого печатавшейся только в Париже. Игорь Виноградов и Анатолий Стреляный, с которыми я был знаком еще до ареста, пересмотрели статьи, написанные мной в последние месяцы в тюрьме. Виноградов попросил на память заметку об «Исповеди Ставрогина», пропущенной главе из «Бесов» Достоевского, – ему не хотелось ее печатать, хотя там были принципиально новые вещи (например, не замеченные тогда исследователями заметки Н. Минского, повторяющие воспоминания Н. Страхова): я не забыл об этом даже в тюрьме. Другая моя небольшая статья, написанная в карцере (и даже во время голодовки) в Чистопольской тюрьме, была об имевшемся в моей библиотеке «Молитвеннике православных воинов» – бесспорном свидетельстве того, что масоны активно участвовали в подготовке Февральской революции и в антивоенной и антиправительственной пропаганде в 1914–1917 годах. Виноградов ее не взял: «И без того повсюду ищут масонов и во всем их винят». На мой взгляд, важнее была правда, чем умолчание из лучших намерений, но я не возражал – советский двусмысленный и осторожный либерализм «Нового мира» был мне не интересен. Стреляный, перелистывая страницы большой статьи о музеях, со вздохом сказал: «Очень любопытно, но написано как жалоба в прокуратуру».
Это было точное определение – двенадцать лет со времени первого ареста, кроме недолгого перерыва между сроками в Боровске, я почти ничего другого не писал.
В Москве, благодаря тому, что прежде чем стать новым редактором «Бюллетеня В» в 1982 году (после арестов Ивана Ковалева, Алексея Смирнова и эмиграции Владимира Тольца), я ввел минимальные формы конспирации22
Вопреки мнению П. Г. Григоренко и многих других диссидентов, что «в подполье можно встретить только крыс».
[Закрыть], была на свободе практически вся редакция бюллетеня. Только Федя Кизелов, за которым начали ходить по пятам, опасаясь ареста, уехал за границу. Именно его поначалу в КГБ считали редактором «Бюллетеня В», поскольку он выполнял самую открытую и рискованную часть работы – поддерживал постоянные связи с Еленой Георгиевной Боннэр, Лизой Алексеевой, Софьей Васильевной Каллистратовой. Это было необходимо и для получения новой информации, и во многих случаях – для пересылки «Бюллетеня В» за границу. «Хроники текущих событий» в это время практически не существовало, и наши выходившие каждые десять дней 30–50 страниц информации были основным источником сведений об СССР для Радио Свобода, ВВС, «Голоса Америки».
Вызывала подозрения у КГБ и отважная Лена Санникова, попытавшаяся продолжить издание «Бюллетеня В» в основном для того, чтобы отвести от меня обвинение в его редактировании. Но я уже примерно через месяц сам сказал об этом удивленным следователям: было ясно, что недели через две они это поймут, а мне хотелось лишить их удовольствия разоблачать меня и доказывать, что именно я – редактор, с помощью найденных ими, но не сразу понятых моих рукописей33
У меня, благодаря принятым мерам предосторожности, кроме лежащей на столе редакционной статьи, ничего не нашли (Федя Кизелов устроил в подвале дома хитроумный тайник, который во время трех обысков так и не был найден).
[Закрыть] и откровенных показаний переписчика.
В Москве сотрудниками «Бюллетеня В» были замечательный математик Лена Кулинская (ее первый муж Володя – единственный неизвестный КГБ курьер, который собирал у всех материалы и привозил мне в Боровск), вернувшаяся из ссылки Таня Трусова, уже готовая к аресту – материалы о ней открыто собирали – безумно храбрая Ася Лащивер и испытавший больше всех остальных Кирилл Попов.
Впервые за четыре-пять лет я мог открыто приглашать их в свою московскую квартиру и частью там, частью – на прогулках, чтобы не все становилось известно КГБ, обсуждать, что нужно делать дальше. По-прежнему, как и четыре года назад, когда все оставшиеся на воле, и особенно Таня Трусова и Ася Лащивер, самоотверженно помогали моей жене Тамаре и детям, прорывались на закрытые заседания суда в Калуге (Аню и Таню снимали с электричек), ни у кого из сотрудников бюллетеня не было и тени страха. А ведь для него по-прежнему были серьезные основания.
Всем нам было ясно, что роль свободной печати в новых условиях безмерно возрастает. Впрочем, создавать или восстанавливать предстояло совсем новый тип издания. Экономические, социальные проблемы, перспективы политических перемен в стране должны были занять главенствующие места. Это сказалось и на объеме – уже со второго номера он превратился в «толстый» ежемесячный журнал.
Почти единодушно было выбрано название «Гласность» в память о реформах Александра II и статье Солженицына, но и с прямым противопоставлением двусмысленным выступлениям Горбачева. Года через два одна из газет выделила Асе целую полосу для статьи «Гласность» Григорьянца и гласность Горбачева» – в статье, естественно, особого сходства между ними не было найдено.
Для первого номера журнала дал большое интервью Андрей Дмитриевич – это была его первая публикация в Советском Союзе после возвращения из ссылки. При этом он вполне разумно отказался войти в состав редколлегии, слегка обидев меня, не понимавшего вполне его масштаба и реальной всемирной славы, замечанием:
– Если я стану членом редколлегии, все скажут, что это Сахаров решил издавать журнал, а это не так.
Мое предложение другим известным и представлявшим разные группы диссидентам стать членами редколлегии – с тем, чтобы их материалы, их взгляды, их представления о настоящем и будущем страны появлялись на страницах журнала, – после некоторого размышления почти все отклонили (хотя поначалу все охотно согласились, поскольку понимали, сколь остро необходим серьезный оппозиционный журнал). И это уже было знамением нового, не сразу мной понятого, времени. Единства, созданного тюрьмой, больше не было – началось отчетливое размежевание политических позиций.
Еще через неделю, когда собрались у меня вторично, отец Глеб Якунин, который был возвращен к службе в храме в Пушкине, ежась от неловкости, сказал, что его вызвал к себе Ювеналий – митрополит Крутицкий и Коломенский – и категорически потребовал, чтобы отец Глеб не входил в редколлегию «Гласности». Конечно, мы все понимали, что квартира моя прослушивается – больше того, недели за две до этого соседи сверху тайком сказали жене, что их попросили целый день не приходить домой, а грохот дрелей в потолках нашей квартиры не давал говорить по телефону. Соседи рядом ничего нам не говорили, но когда открывалась дверь нашей квартиры, приоткрывалась дверь и к ним – оттуда, очевидно, наблюдали, за теми, кто вошел. Все эти игры были чрезмерными, но привычными, а вот чтобы митрополит так откровенно ссылался на данные гэбэшной прослушки – это уже слишком. Позже выяснилось, что в КГБ у Ювеналия был псевдоним «Адамант».
Один из лидеров еврейского движения Виктор Браиловский (хорошо знакомого мне по Чистопольской тюрьме Иосифа Бегуна еще не освободили) прямо заявил, что посоветовался со «своими» и ему было сказано, что это русский журнал и нечего еврею лезть в русские дела.
– Но Толя (Щаранский) ведь был членом Хельсинкской группы, – возразил я.
– Наши считают, что это отрицательный пример и что Натан сделал ошибку.
Тут и Сергей Адамович Ковалев по обыкновению не сразу, но вполне определенно высказался, что издание радикального оппозиционного журнала может повредить Горбачеву в его борьбе с реакционерами в Политбюро, и он считает неправильным принимать в нем участие.
Причина эта была более чем странной: ведь Горбачев был протеже Андропова, и его действия были чаще всего не его инициативой. Впрочем, Богораз и Ковалев, может быть, так не считали.
Лара (Лариса Иосифовна Богораз) коротко сказала, что Сережа – ее друг и как он поступает, так и она («куда иголочка, туда и ниточка»).
Не отказался только Лев Тимофеев, но это была уже не редколлегия. Недолго Лев Михайлович был моим заместителем, но вскоре оказалось, что после двух лет тюрьмы ему нужно отдохнуть на море, и редакция осталась в прежнем составе. Вскоре ее пополнили два важнейших для «Гласности» человека – Нина Петровна Лисовская и вернувшийся из ссылки Андрей Шилков.
Для Нины Петровны приход в «Гласность» был продуманным и принципиальным шагом – однажды она мне прямо это сказала. По своей высочайшей деликатности и сдержанности она никогда не осуждала друзей – Сергея Адамовича и Лару – за то, что они отказались сотрудничать с «Гласностью». Нина Петровна – одна из старейших участниц диссидентского движения, многие годы руководившая Солженицынским фондом в России и одна из самых ясных, мужественных, спокойных и бесспорных личностей в диссидентском движении (без нее его просто нельзя представить), своей работой в «Гласности» считала важным подчеркнуть единство всех демократических сил. Подчеркнуть преемственность нарождавшегося демократического и уходящего диссидентского движений.
Для Нины Петровны «Гласность» с ее массовостью, ориентацией на помощь множеству людей, приходивших к нам с жалобами и рассказами о том, что творится в России, была, как и фонд Солженицына, внутренне ближе и более оправданной, чем все больше уходившие в сомнительную советскую политику любимые друзья Лара Богораз и Сергей Ковалев. Она никогда не критиковала их вслух, приносила для публикации отчеты о собраниях «Московской трибуны»44
Инициаторами создания Политико-культурного общественного дискуссионного клуба «Московская трибуна» были Ю. Н. Афанасьев, А. Д. Сахаров, Л. М. Баткин, Ю. Ф. Карякин, М. Я. Гефтер и др. Основной формой деятельности было объявлено проведение регулярных дискуссий по наиболее важным проблемам экономики, национальных отношений, права, международной политики и культуры.
[Закрыть], но, хорошо зная Лару и Сергея Адамовича, была убеждена, что из их попытки издать собственный, более умеренный, журнал ничего не выйдет, как оно и оказалось после двух лет стараний. А главное, внятный отказ «Гласности» играть в какие бы то ни было игры с властью был ей бесконечно ближе. И Нина Петровна приводила одного за другим многочисленных своих друзей, иногда еще с 1960-х годов (например, Владимира Микуловича Долгого) для помощи «Гласности» и оставалась одной из важнейших опор журнала с первого до последнего дня. Хотя ее, конечно, пытались переубедить.
Андрей Шилков, будучи очень больным после тяжелого срока и чудовищной ссылки, являлся главной и героической опорой «Гласности». Целыми днями сидя на крепчайшем чае – почти чифире, теряя сознание в метро, он тащил на себе не только всю организационную работу, но еще и прекрасно писал, а главное – четко ощущал, вполне разделял и доводил до практического воплощения жесткую оппозиционность и неприятие как «реакционной», так и «либеральной», спускаемой сверху советской политики. Андрей, так же как и я, в отличие от большинства диссидентов, ясно ощущал, что освободили нас из тюрем и ссылок не из гуманистических побуждений и стремления к демократии, а из вполне корыстных политических расчетов двух организаций – ЦК КПСС и Комитета государственной безопасности. Он, как и я, знал и помнил соседей по пермским лагерям и тюрьмам, не подходящих для освобождения и странным образом погибших. Да и убитых КГБ – не в зонах, а на советской воле – замечательного поэта и переводчика Костю Богатырева, армянского художника Минаса Аветисяна, украинского композитора Владимира Ивасюка, литовских священников; была и неудачная попытка отравить Владимира Войновича. А скольких имен мы не знаем! Выборочные убийства тех, кого неудобно было судить, и чья смерть могла запугать остальных, были излюбленным приемом КГБ под руководством Андропова в 1970-е годы. Мы сами в разное время в тюрьмах были близки к такому концу, а главное – всё, что теперь говорили власти, что происходило вокруг, было или откровенно лживо или, уж во всяком случае, двусмысленно. Мы не верили в гуманизм КГБ ни одной минуты.
После триумфального выхода первого номера – начала свободной печати нового времени – на пресс-конференции в моей квартире, куда втиснулась чуть ли не сотня журналистов со всего мира, власти поняли, что с моим освобождением они несколько поторопились. Их ожидания, что я буду послушным объектом для рекламы перестройки и вернусь к литературоведению, не оправдались. Меня пригласил к себе Д. Ф. Мамлеев – тогда заместитель председателя Комитета по печати СССР и стал уговаривать прекратить издание «Гласности».
– Ну, зачем вам это? Вы можете печататься в любой газете и в любом журнале в СССР. Я это гарантирую.
Меня публикации в «Правде» не соблазняли, да и не только я писал и печатался в «Гласности».
– Закона о печати в СССР нет. Разрешение на издание журнала я получать не обязан. Первый номер «Гласности» вышел, выйдет и второй.
Почти каждый день Радио Свобода, Би-би-си, «Голос Америки» и «Немецкая волна» передавали сообщения об издании первого свободного журнала в СССР и материалы из него. Снова арестовать меня было для властей уж очень невыгодно, хотя аресты по политическим обвинениям, правда, несколько сократившиеся, в СССР все еще продолжались.
Проблема была в другом: для издания серьезного журнала нужны были профессионалы. Среди диссидентов, издававших «Бюллетень В», их не было. К тому же Лена Кулинская, как только представилась возможность, уехала за границу – ей до смерти надоели игры советской власти и хотелось серьезно и свободно поработать по специальности. Таня Трусова тоже с наслаждением вернулась к преподаванию русской литературы (как всегда, без оглядки на идеологических цензоров) – для нее это было дороже журнала, который могли делать и другие.
Через несколько месяцев в «Гласность» пришел, освободившись из лагеря, журналист Алексей Мясников. Но либеральные советские журналисты, в том числе и из «Нового мира», – осторожные Андрей Нуйкин, Юрий Черниченко, Отто Лацис и другие, встречаясь со мной в общественных местах, боялись даже здороваться. Впрочем, винить их не за что: идти или нет в тюрьму за желание говорить правду – каждый решает сам, а они мало верили словам Горбачева. По Москве гуляла частушка:
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена.
Память о недавних арестах была еще свежа. Более храбрый Анатолий Стреляный вскоре начал работать на Радио Свобода и тоже не нуждался в нищей «Гласности». Единственный из крупных журналистов Василий Селюнин – ведущий публицист в «Известиях» – сам предложил пару своих серьезных аналитических статей, но и то как запись его выступлений в конференц-зале «Известий», куда, конечно, сам меня провел, а перед этим передал текст.
Единственно возможным путем создания хоть в какой-то степени профессионального журнала было привлечение людей окололитературных. Так в редакцию пришли Володя Ойвин, совсем юные Митя Эйснер, Митя Волчек, Андрей Бабицкий, Виктор Резунков. У них было преимущество – благодаря молодости и дистанцированности от диссидентского движения об интересе к ним комитета можно было не думать. Позже из Новосибирска приехал Алексей Мананников, отсидевший три года в лагере за неосторожное письмо приятелю. Пришли еще несколько человек с менее очевидными для меня судьбами. Все они стали известными журналистами. Вместе с Ниной Петровной Лисовской, Андреем Шилковым и, конечно, моей женой Тамарой, с которой мы учились на факультете журналистики и которая была редактором, вероятно, лучшим, чем я, они и составили костяк редакции – первого в эпоху перестройки и единственного (по тем быстротечным временам) крупного независимого журнала в Советском Союзе. Свою холостяцкую квартиру предложил для редакции Кирилл Попов.
Андрея Черкизова, который хотел работать в «Гласности», я побоялся брать в редакцию: его связи с певцом Петровки и Лубянки Юлианом Семеновым были хорошо известны и казались мало подходящими. Полученная им через пару лет номенклатурная должность председателя Комитета по авторским правам за рубежом (контроль публикаций за границей) только подтвердила мои опасения. Его ультрадемократическая риторика меня не убеждала. И без него только что созданная «Гласность» уверенно становилась на ноги.