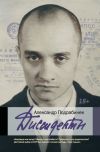Читать книгу "«Гласность» и свобода"
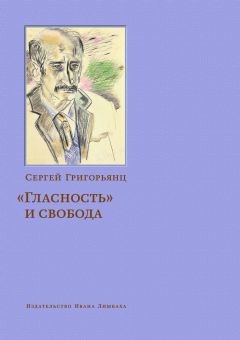
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако, чрезвычайно опытный врач Виктор Тополянский, десятки раз анализировавший причины заболеваний и гибели известных советских политических деятелей, полагает, что множественные кроваво-красные пятна на внутренней части черепной крышки – синдром ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание) могли быть следствием кровоизлияний, причиной которых могло быть некое, в том числе медикаментозное, вмешательство, но и не только. Например, в разное время перенесенные инфекционные заболевания могли быть не столько причиной, сколько дополнительным их признаком. Причем розовые пятна могли быть результатом недавнего вмешательства или заболевания и встречаются на самом деле нередко в практике патологоанатомов, как в случаях неуправляемых кровотечений (к примеру, у женщин в послеродовом периоде), так и в случае токсических или инфекционных заболеваний. По опубликованным результатам вскрытия Тополянский приходит к выводу, что клинически понять причину смерти Андрея Дмитриевича невозможно: оба его лечащие врача, Сметнев и Постнов, были образцовыми сотрудниками Четвертого управления Минздрава, подчинялись во всем Чазову (который, заметим, даже формально по должности был подчинен председателю КГБ) и всегда в своих заключениях писали то, что больше устроит высокое начальств.
Больше того, Тополянский предполагает, что причиной смерти Сахарова могли стать артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) с неадекватным лечением, а внезапный подъем артериального давления сыграл роковую роль. Это уже третий из возможных вариантов смерти Сахарова от естественных причин (еще два изложили профессор Я. Л. Рапопорт и профессор В. Серов из института им. Сеченова в статье «Болезнь академика Сахарова» в журнале «Врачъ» в августе 1995 года). Но при этом и Тополянский указывает, что бурые пятна на черепной коробке головы Сахарова, столь взволновавшие молодых людей, вероятнее всего – следствие медикаментозного вмешательства.
Таким образом, перебирая все доступные сегодня материалы о смерти Андрея Дмитриевича, а также официальное заключение патологоанатомов о его смерти1717
См.: http://www.sudmed.ru/index.php?showtopic=16373.
[Закрыть], приходиться считать, что Сахаров – человек не молодой, не очень здоровый и, бесспорно, после заседания Верховного Совета находившийся в состоянии стресса, мог умереть и естественной смертью. Но это была бы слишком большая и очень своевременная удача и для Комитета государственной безопасности СССР и для всего советского руководства. Другие имеющиеся в нашем распоряжении материалы и свидетельства заставляют меня (да и не только меня) в этой счастливой для КГБ случайности сомневаться. Я уверен, что Сахаров был убит.
Любопытным свидетельством со мной поделился Александр Грибанов в бытность свою директором архива Сахарова в Брандейском университете. Кто-то из стоявших в смежной с прозекторской комнате обратил внимание, что кроме группы близких Андрея Дмитриевича там находились два никому не известных молодых человека с радиотелефонами в руках, что было тогда очень большой редкостью. Через час или полтора после начала вскрытия, но задолго до его завершения, из прозекторской вышла Наталия Рапопорт, находившаяся там с отцом, которому был девяносто один год. Все бросились к ней с вопросами:
– Ну как? Какие результаты?
– Папу поразили бурые пятна на поверхности черепа…
Почему-то именно это сообщение очень испугало молодых людей и оба они начали звонить по радиотелефонам – по-видимому, своим начальникам:
– Они обнаружили желтые (именно желтые в рассказе Грибанова. – С. Г.) пятна на черепе.
По-видимому, получили указание не суетиться и успокоились.
Рапопорт, не имевший, естественно, опыта вскрытия тел ирландских террористов, как опытный врач находит (возможную?) причину внезапной смерти очень немолодого и далеко не здорового человека: остановка сердца в результате нарушения в аппарате регуляции сердечных сокращений.
Наталья Рапопорт вспоминает:
…Домой мы возвращались ночью. В машине папа продолжал обсуждать результаты вскрытия. Его очень поразило, что вскрытие не обнаружило следов перенесенного инсульта: Андрей Дмитриевич определенно выглядел как человек, перенесший инсульт. Елена Георгиевна рассказала, что симптомы перенесенного инсульта появились у Андрея Дмитриевича после горьковской больницы: изменилась и стала нетвердой походка, изменился почерк, появились непроизвольные движения челюсти… Несколько лет тому назад, просматривая американские медицинские справочники в поисках подходящего вещества для одного из моих проектов, я наткнулась на описание группы психотропных средств, передозировка которых вызывает точно такие же, симулирующие инсульт симптомы, какие наблюдались у Андрея Дмитриевича. Не этими ли средствами «лечили» Андрея Дмитриевича в горьковской больнице?
Еще папу поразило благополучие сосудистой системы Андрея Дмитриевича, «почти как у молодого человека». Папа сказал тогда с горечью: «Если бы Андрей Дмитриевич не умер вчера, он мог бы жить еще много лет… Хотя, конечно, такое больное сердце могло остановиться в любой момент – достаточно было, быть может, случайного и несильного толчка в грудь.
С гибелью Андрея Дмитриевича надолго отсрочилась и надежда на демократическое развитие России. Из трех сил, действовавших тогда в стране, Комитет государственной безопасности со своими сотрудниками в МИД’е, ЦК ВЛКСМ и теперь даже в ЦК КПСС был в подавляющей своей части наиболее агрессивным и наиболее тоталитарно-консервативным.
Сами похороны Андрея Дмитриевича стали характерной демонстрацией положения в стране.
Прощание с Сахаровым для людей относительно близких (не помню, по какому принципу шел отбор) было в ФИАН’е на Ленинском проспекте. Но весь проспект был запружен десятками, если не сотнями тысяч человек – многие об этом знали.
Накануне мне позвонила Ирина Алексеевна Иловайская и попросила возложить венок от имени премьер-министра Италии, с которым я незадолго до этого встречался. Из Харькова приехал Генрих Алтунян. На Ленинском проспекте милиции было мало: наблюдали за порядком, стояли в двух цепях вокруг института молодые научные сотрудники, члены демократических общественных организаций. Им вполне удавалось поддерживать порядок, объяснять, что прощание с Сахаровым и траурный митинг будет в Лужниках, а здесь только свои, близкие. Меня многие знали, и хоть мы с Генрихом пришли с довольно большим опозданием – надо было получить заказанный венок, – и в скорбной толпе, и в обеих цепях добровольного кордона нас пропускали без большого труда. Минут пять мы постояли с Еленой Георгиевной – больше было нельзя: к ней шли сотни знакомых и полузнакомых людей.
На главном митинге, по дороге к нему и после него я был где-то в массе людей. Все, что там происходило, хорошо описал Андрей Шил-ков в последнем номере «Гласности»:
Нам позволили проститься…
К сожалению, рассказ о прощании с Андреем Дмитриевичем Сахаровым приходиться начинать со слов: «Когда нам разрешили пройти…», ибо с демонстрации ИХ власти, ИХ прав началась гражданская панихида в Лужниках. Ближайшая станция метро была закрыта с утра, прекратилось движение транспорта по Комсомольскому проспекту, все подходы к Лужникам были перегорожены. Приходилось прорываться чуть ли не с боем, чтобы на площадке перед стадионом отдать последний долг Андрею Дмитриевичу. Прорывались по-разному: кто-то, собравшись большой группой, просто сметал ограждение, чтобы хоть часть из них прорвалась, кто-то искал обходных путей через железнодорожную насыпь, кто-то со вздохом поворачивал обратно… А милиция наслаждалась, то закрывая проход, то разрешая кому-то пройти. Преодолев по удостоверению «Гласности» второй круг оцепления, я услышал, как вальяжный генерал в каракулевой папахе сказал по рации: «Ну, пропускайте помаленьку, маленькими партиями…». Разрешил, значит…
Избитое сравнение «и небо плакало». Но, в самом деле, Москва, еще недавно занесенная снегом, была просто залита водой: дождь со снегом, жидкое месиво под ногами и вереницы людей, тянущиеся в одном направлении. Никто ни о чем не спрашивал. Тот, кто не знал дороги, просто присоединялся к молча бредущей цепочке и шел со всеми, пока не застревал у очередного кордона. Я не видел ни озлобления, ни спортивного азарта «прорваться», как это обычно бывает при попытках властей что-то блокировать… Было недоумение – недоумение от еще неосознанной утраты и абсурдности творившегося вокруг.
К часу дня площадка перед стадионом была заполнена. Сотни тысяч человек молча ждали прибытия траурной процессии из ФИАН’а, ждали полчаса, час… Над головами поднимались самодельные плакаты: «Простите нас, Андрей Дмитриевич, мы должны были выйти на площадь в 80-м году!», «Простите, Андрей Дмитриевич!», «Андрей Дмитриевич Сахаров – ум, честь и совесть нашей эпохи!» и сотни листков, вырванных из блокнотов, на которых ручкой написана перечеркнутая цифра 6 – графическое изображение требования отмены 6-й статьи Конституции.
Когда, уже в третьем часу, траурная процессия достигла Лужников и тысячи сопровождающих гроб с телом Сахарова присоединились к собравшимся, каракулевая папаха разрешила пустить всех желающих.
Похороны Сахарова, вероятно, гораздо более многочисленные, чем похороны Сталина, – самые трагические в русской истории. Сталинские были обагрены кровью, эти – многомиллионной скорбью о несбывшейся надежде России. Понимание утраты было всенародным. Но сила, по-прежнему, была на стороне «папахи».
Конец журнала «Гласность»
Случилось так, что гибель Андрея Дмитриевича символически совпала с прекращением издания журнала. В последнем – тридцать третьем – номере мы дали прощальное слово Андрея Шилкова, фотографии с похорон, но для серьезной статьи о судьбе и роли Сахарова в России номера уже не нашлось. Завершение издание журнала, несмотря на борьбу, которая с ним велась, на мой взгляд, было вполне естественным. Журнал при всей своей популярности в СССР и в мире, при все большем количестве знаменитых авторов за два с половиной года выполнил свою задачу: стал эпицентром взрыва свободной печати в России (собственно, это было единственное, чуть продолжившееся еще на полтора года, время в истории России, когда в ней возникла в отчаянной борьбе и в условиях ожесточенного сопротивления подлинная массовая свобода печати, уничтоженная с приходом Ельцина). «Гласность» была изданием и рупором политзаключенных – людей, которые шли в советские тюрьмы лишь для того, чтобы сохранить человеческое достоинство, внутреннюю свободу и право на самоуважение. Наконец, для десятков тысяч нищих и обездоленных советских граждан, на своем горбу испытавших отвращение к коммунизму и шедших в «Гласность» ежедневно со всех концов страны (вскоре с подачи Гайдара их назовут «демшизой»). Для этих людей журнал был опорой, хотя бы небольшой защитой. Важен был журнал и для всего мирового антикоммунистического движения – «Гласность» стала одним из его важных центров.
К девяностому году наступило совсем другое время. КГБ подбрасывал в государственные, а потому в СССР гораздо более мощные и популярные СМИ антикоммунистические материалы, что стало вполне очевидно на примере фильма и откровений Говорухина. На деньги КГБ режиссер снял нашумевшую тогда картину «Так жить нельзя». С экрана лилась чернуха, причем такая, какой почти не было в Советском Союзе. То и дело задавался вопрос: отчего все так ужасно? и следовал ответ: во всем виновата коммунистическая партия. При этом сотрудники милиции и КГБ сплошь были замечательными людьми. Обвинять семнадцать миллионов человек, во-первых, было бессмысленно, во-вторых, несправедливо, а главное – уводились от ответственности именно те категории, которые были названы на Нюрнбергском процессе виновниками схожих преступлений (СС, СД и руководство Национал-социалистической партии).
Корреспондентам Радио Свобода в Париже на вопрос, какие у него творческие планы Говорухин в интервью рассказывал: «Меня пригласили в Большой дом (Управление КГБ по Ленинградской области. – С. Г.) и предложили финансировать сразу две съемочные группы, дают два комплекта оборудования – для скорости съемок, одновременно и в СССР и за границей. Еще не выбрал название фильма: может быть, это будет «Владимир Ленин», может быть – «Великий преступник». И это в том мучительном девяностом году, когда не то что на фильмы – на хлеб у большинства гораздо более крупных режиссеров денег не было. Впрочем, и фильм Абуладзе был снят при прямой поддержке ЦК Грузии и Эдуарда Шеварднадзе. Но ведь и либеральный журнал «Огонек», и «Московские новости» тоже были правительственными изданиями.
К тому же за эти годы появились очень несходные между собой массовые организации. Выросший из подпольного диссидентского бюллетеня четырехсотстраничный журнал должен был более четко формулировать свои задачи, более точно выбирать аудиторию и искать мало-мальски прочную социальную базу хотя бы из-за резко возросшей конкуренции. Для выживания нужно было находить сравнимые с бюджетом государственных изданий деньги. Находить их за границей, что, вероятно, было не так уж сложно, я не умел, да не очень-то и хотел. В Советском Союзе достойных источников средств, конечно, не было.
За год до этого в Германии умер медиамагнат Аксель Шпрингер, финансировавший издание журнала «Континент» не только в Париже, но и в Германии. Главный редактор журнала Володя Максимов, почти пятнадцать лет до этого занимавший, как «Русская мысль» и «Гласность», резко антикоммунистическую позицию, которая естественным образом переносилась на Горбачева, на недоверие к коммунистической перестройке, в поисках денег на продолжение журнала провел в Риме конференцию, прямо противоположную по своему духу всем предыдущим, в которой Горбачев, кажется, даже участвовал лично. Журнал переехал в Москву, но Володя, не выдержав всех этих перемен и потрясений, вскоре умер, оказавшись почти в изоляции. Редактором «Континента» стал Игорь Виноградов. Он сохранил приличный характер теперь уже совсем забытого журнала, но ни при каких условиях не был и не мог быть таким активным общественным борцом, каким был Максимов.
Повторения этого пути я не хотел. «Гласность» от первого до последнего номера себе не изменяла и никакой дополнительной опоры для нее я не искал. Я не принял многочисленные предложения о помощи не только потому, что не знал, как ими воспользоваться, но, главным образом, потому, что у меня к концу восемьдесят девятого года еще не было того понимания, которое сформировалось к осени 1990-го – о том, куда идет перестройка, о неизбежном приходе КГБ и близких комитету людей к власти. К тому же мое, как и всей редакции «Гласности», отвращение к Ельцину было далеко от понимания того, кто за ним стоит и какой окажется его роль в истории. Рассказов о том, как КГБ борется с демократией в СССР, с «Гласностью» (впрочем, о себе мы мало писали), борьбе за создание и укрепление демократических идеалов, было мало для толстого международного журнала. Нужны были аналитические статьи, серьезные документальные подтверждения нового понимания пути России, но ничего этого не было и взять было негде. Это было гораздо серьезнее, чем поиски денег и сопротивление непрекращающемуся давлению КГБ.
К тому же журнал разваливался естественны образом.
Первым ушел Андрей Шилков. Он женился на дочери Аси Лащивер – Ире, появились новые заботы и интересы, тащить на себе проблемы «Гласности» ему было невмоготу. Ушел в газету «Демократическая Россия», там все было гораздо организованнее и легче, но было меньше свободы и больше органической близости к «совку». Андрей пил, возвращался в «Гласность» и в конце концов уехал с Ирой в Израиль. Потом я уволил Алешу Мясникова, который героически целые дни с утра до вечера вел прием людей, приходивших в «Гласность». Это действительно была чудовищная по физической, по психологической нагрузке работа (ведь приходили регулярно и сумасшедшие и провокаторы). Я несколько раз вел такой прием целый день и знал, что это такое. Ни Митя Волчек, ни Нина Петровна Лисовская и дня не выдерживали. А Леша не просто вел прием, не только по ночам писал очерки об этих несчастных людях, но так им сочувствовал, что зачастую помогал им писать заявления, жалобы в официальные инстанции. Его искренняя жалость и любовь к людям были так очевидны, что и те пытались как-то его отблагодарить, все чаще приносили ему какие-то деревенские продукты в подарок (и это уже в очень голодное время). Но в «Гласности» получать даже маленькие подарки от посетителей (а предлагались и совсем не маленькие) было нельзя. Ведь любой подарок мог быть использован для обвинения редакции в корыстных интересах. И после нескольких предупреждений я уволил Алексея, понимая, что его некому заменить. Для Мясникова написанных материалов и самой перестроечной среды хватило еще на пару лет издания собственного журнала «Права человека». Из подобных же, но более серьезных опасений за безопасность журнала на заседании редколлегии, где присутствовали все главные сотрудники, был уволен Алексей Мананников. Потом он говорил, что это недоразумение, что он себя оговорил, но тогда неуклонно защищал свое право на поступки, бесспорно, очень опасные для журнала.
В конце января девяностого года, вернувшись из очередной поездки в Париж (а в последний год я получал бесчисленные приглашения на зарубежные конференции, что не было благом для журнала), узнал, что Митя Волчек и Андрей Бабицкий выпустили очередной номер своего журнала «Через» со статьей Андрея, прямо противоположной по своей направленности тем, что писались им для журнала «Гласность». Поскольку «Гласность» была общественно-политическим журналом с определенной точкой зрения на происходящее, такая широта взглядов Бабицкого, способность занимать одновременно прямо противоположные позиции, мне показалась чрезмерной, и я его уволил. Но вместе с ним ушли Митя Волчек и еще один наш молодой сотрудник. На самом деле они чувствовали себя переросшими «Гласность», гораздо более уверенными журналистами, чем когда пришли в журнал, а главное, все они, работая в «Гласности», стали корреспондентами Радио Свобода, которое по нескольку раз в день обращалось к нам за информацией и ее давал тот из сотрудников, кто непосредственно этим событием был занят. Ну, а гонорары у «Свободы» были, конечно, в десятки раз выше нищенских заработков в «Гласности».
Оставались Нина Петровна Лисовская, Виктор Резунков, Володя Ойвин, Виктор Лукьянов, еще несколько сотрудников, наконец, Тома и я, но редакцию надо было формировать заново. А для этого в новое время и с новым пониманием происходящего нужны были не просто диссидентская и демократическая, но совершенно новая концепция журнала, новый круг авторов, а их у журнала не было ни в России, ни за рубежом. Все в свой срок рождается и в свой – умирает. Оставались «Ежедневная гласность», профсоюз независимых журналистов, конфедерация независимых профсоюзов, где я был сопредседателем, и масса другой ежедневной работы.
За рубежом. «Экзамен» Собчака
С середины восемьдесят девятого года, с тех пор как советские власти вынуждены были выпустить меня за границу для получения премии «Золотое перо свободы», я два-три года по несколько месяцев проводил за границей – получал множество приглашений на встречи и конференции в разных странах, и попытки помешать мне в них участвовать, конечно, оборачивались для властей политическими неудобствами, но и мне создавали массу хлопот. Оформлять визы в СССР по-прежнему было очень трудно – в основном, конечно, из-за прямого нежелания властей, но частью из-за того, что советское законодательство не было к этому готово. В обычные советские заграничные паспорта ставились разрешения на выезд из СССР (без которого нельзя было получить визу в посольстве) только для выезда по частному приглашению (скажем, родственников) или для коллективной туристической поездки. На конференции или по правительственным приглашениям ездили особо доверенные советские граждане, которым выдавали дипломатические паспорта и только в них ставились разрешения на выезд. У меня был с трудом полученный обычный заграничный паспорт, но приглашения совершенно ему не соответствовали. К тому же каждое разрешение на выезд из СССР мне давали с разнообразными приключениями. Как правило, прямо не отказывали, но оттягивали до последнего дня или часа в надежде, что я не успею получить иностранную визу. Однажды, кажется, в испанском посольстве мне проставили визу ночью; однажды пришлось получать ее по дороге в аэропорт. О приключениях в Шереметьево я еще напишу, а пока скажу, что большинство виз я получал в Париже. Это тоже было не по правилам: по общему положению виза оформляется в посольствах, находящихся в тех странах, гражданином которой является выезжающий. Считается, что посольство лучше понимает, кому оно дает визу. Но мои приглашения не были частными, а были иногда даже правительственными, положение в СССР все хорошо понимали, и только для меня все парижские посольства делали исключения, которых (при мне же) не делали для советских дипломатов – сотрудников ООН. Визы по приглашениям в Испанию, Италию, Великобританию, США, ФРГ и другие страны чаще всего я получал в Париже.
В перерывах между поездками дни мои там были загружены до отказа. Надо было много писать, были интервью на парижской студии Радио Свобода, русской службе радио «Франс Интернасиональ» и главное – в Париже была французская редакция журнала «Гласность» из двух человек (на это издание дал деньги министр по правам человека, сейчас – глава французского МИД’а, учредитель организации и всемирного движения «Врачи без границ» Бернар Кушнер) и, конечно, «Русская мысль», где я чувствовал себя как в родном доме. И суть была не просто в том, что в качестве толстой вкладки в ней перепечатывались все номера «Гласности» (парижским редактором была Наташа Горбаневская), а до моего приезда – в восемьдесят седьмом, восемьдесят восьмом годах осуществлялось и малоформатное издание для пересылки в СССР в почтовых конвертах и издания на многих языках стран Варшавского блока. Дело было не только в необычайно дружественной атмосфере редакции: жил я у Оли и Валеры Прохоровых – сотрудников «Русской мысли», любимых Томой еще с семидесятых годов в Москве. Потом Валера стал крестным отцом моей дочери Анны. Я делал международные звонки, как правило, тоже из редакции, что было для «Русской мысли» совсем не дешево, но мне это было предложено – ведь «Гласность» работала так, что практически каждый день надо было говорить с Москвой, а иногда и с другими городами и странами.
И все же главным для меня в эти годы стала ежеминутная, необычайная в своей доброте и заботливости, и – что важно – умная помощь Ирины Алексеевны Иловайской. Боюсь, правда, она меня по своей доброте несколько переоценивала: привыкнув за многие годы к некоторым особенностям, воспитанным лагерем и тюрьмой у Алика Гинзбурга, она не совсем понимала, что тюремное клеймо, заметные ошибки в ориентации неизбежны для каждого проведшего изрядный срок в заключении. Помогая мне практически на каждом шагу в политических встречах в Испании, Италии, Великобритании, в выступлениях с лекциями и встречах, скажем, с Рупрехтом Мердоком (происходивших по его инициативе, но ведь и это надо было как-то организовать), Ирина Алексеевна по своей деликатности никогда не давала советов и потому помощь ее мне, а на самом деле и через меня (но, конечно, не только) демократическому движению в Советском Союзе оказывалась – поскольку отдавалась на мое усмотрение – менее результативной, чем могла быть.
Одну из важных ошибок года через два я совершил по полнейшей неопытности и наивности в самой «Русской мысли». Из этой старейшей газеты русской эмиграции постепенно уходили, просто по возрасту и состоянию здоровья, сотрудники. Такие как добрейший Кирилл Померанцев, секретарь редакции Нина Константиновна Прихненко, умершая после тяжелой болезни Наташа Дюжева. Немногие русские журналисты из третьей волны эмиграции работали в более основательных редакциях – русской службе государственного радио «Франс Интернасьональ» или в парижском бюро казавшегося почти столь же монолитным и с гораздо более высокими окладами Радио Свобода. В газете довольно остро ощущалось нехватка профессиональных журналистов. Ирина Алексеевна изредка мне на это жаловалась. Я, постоянно ощущая такую же нехватку в Москве (а в Париже к ней прибавлялось не только различие в позициях, как, скажем, с Андреем Синявским, но еще и непростые личные отношения, неизбежные в узкой среде любой эмиграции) отнесся к проблеме практически и поскольку в лондонской редакции Радио Свобода не только моим интервьюером, но и переводчиком была очаровательная и высокопрофессиональная Алена Кожевникова, а на Би-би-си сделал со мной передачу ее муж, и каждый из них сказал, что им до смерти надоел Лондон, где активизация работы КГБ (в том числе и в их редакциях) превзошла все мыслимые пределы, я пообещал, что поговорю с Ириной Алексеевной о них и уверен, что два первоклассных журналиста, переехав в Париж, сделают «Русскую мысль» гораздо более мощным в профессиональном отношении изданием. Мне, основным опытом которого был тюремный, а единственным соображением – польза для общего дела, в голову не приходило, что Алик и Арина Гинзбурги будучи в журналистском и в репутационном отношении главной опорой «Русской мысли» очень ценили это свое центральное положение и восприняли мое предложение усилить редакцию Кожевниковыми как подкоп под их монопольное положение.
Я уехал в Москву на поезде, увозя чуть ли не десять ящиков книг, большей частью данных мне Ириной Алексеевной для продажи в киоске «Гласности» в райисполкоме на Шаболовке у Ильи Заславского, чтобы хоть как-то поддержать редакцию. На Лионском вокзале за нами безучастно наблюдал, сидя на пустой багажной тележке, симпатичный молодой человек в джинсах и туфлях на босу ногу.
– Резидент КГБ в Париже, – сказал мне Валера Прохоров, знавший их всех еще со времени работы в HTC1818
НТС (Народно-Трудовой Союз) – политическая организация русской эмиграции, издававшая журналы «Посев» и «Грани».
[Закрыть], – но большей частью они заняты торговлей русскими проститутками, нахлынувшими с их помощью в Париж.
В Москве полученные от Ирины Алексеевны, иногда в десятках экземплярах, книги мы и впрямь начали продавать вместе с журналами «Гласность» в киоске Октябрьского райисполкома. Это было единственное место, где мы сами могли распространять журнал. Несколько молодых людей, взявшихся его продавать у метро «Шабловская», были зверски избиты милиционерами – раз, потом другой, я навещал их в Боткинской больнице, лежавших с сотрясением мозга, со сломанными ребрами, но следов изувечивших их милиционеров найти не удалось. Ребята бодрились, говорили «хорошо, что не убили», но подставлять новых было невозможно, хотя в те восторженные годы желавших распространять «Гласность» было множество, как и десятки людей приходили ее брюшюровать, склеивать, переплетать.
Внезапно Гинзбург устроил мне по телефону дикий скандал из-за того что в киоске продаются книги, напечатанные издательством «Русской мысли».
– По условиям контракта их разрешено только раздавать бесплатно, а не продавать, – кричал мне Алик.
Вероятно, так и было, но я об этом не знал. Ирину Алексеевну это не волновало. Я только выругался по телефону в разговоре с Андреем Шилковым. Андрей из Иерусалима приехал в Париж, наслаждался городом, временной работой в «Русской мысли» (а в ней он готов был работать хоть дворником) – как мне кажется, это было недолгое и самое счастливое время в его жизни1919
Через много лет, чувствуя, что умирает, он опять приехал на несколько дней вдохнуть парижский воздух, попытался покончить с собой, выбросившись из окна на пятом этаже в квартире моей жены, но все же дал отправить себя в Иерусалим (тоже любимый) и вскоре умер. Это был один из лучших людей, кого я знал в своей жизни, а в этом я далеко не беден (в новой России он был включен в список «невъездных»).
[Закрыть]. Алик, случайно или нет, по параллельному телефону услышал наш разговор с Андреем, и я счел именно этот разговор причиной резко изменившегося отношения ко мне Алика: от трогательной заботливости к полному неприятию (и это длилось до тех пор, пока он, что было совершенно недостойно, не начал бороться с Ириной Алексеевной, которой был всем, даже жизнью, обязан. Как позднее выяснилось, и Алик и Арина в случае необходимости прибегали к выдвижению Ирине Алексеевне ультимативных условий). Для начала он без всяких объяснений снял мою большую статью, написанную специально для «Русской мысли», и больше ни одна моя статья там напечатана не была. Во время раскола в «Ежедневной гласности» использовал только хронику, подготовленную ушедшей, впрочем, замечательной группой. Представителями «Русской мысли» в Москве попеременно (и неудачно) становились до этого совершенно неизвестные в Париже Саша Подрабинек, Лев Тимофеев, Екатерина Гениева, но не «Гласность».
Хотя это и было очень обидно, не взаимное непонимание с Аликом было для меня проблемой, а гораздо более существенное, основополагающее непонимание всего происходящего и мое несоответствие ему определяли один за другим мои отказы от предоставлявшихся возможностей, как в Европе, так и в Америке.
Приведу самые простые примеры. В Париже мэрия выделила дом для тогда гораздо менее известных китайских диссидентов. Мне передали, что я без труда могу получить гораздо лучший для «Гласности». Не помню, к кому я должен был обратиться с просьбой – к мэру Парижа Франсуа Шираку или министру по правам человека Бернару Кушнеру. С обоими я был знаком, понимал, что это и впрямь не трудно, но не пошел, потому что не понимал, для кого и для чего нужен этот дом.
Примерно тогда же мне передали, что знаменитый французский актер и певец Ив Монтан, теперь уже немолодой и совершенно не доверяющий советской пропаганде, хотел бы выступить в пользу «Гласности» – кстати говоря, с этой же целью предлагала дать несколько концертов знаменитая американская актриса Джейн Фонда. Особенного интереса к актерам у меня не было, «Гласности», пусть с трудом, хватало моих гонораров, для кого и как я буду получать деньги от концертов, я не понимал, и ни с кем не стал встречаться.
Но особенно горькой для меня стала неудача с книгой. Известное французское издательство «L’Ade d’Homme» заключило со мной договор о том, что в течение года я напишу для них книгу, и выплатило довольно крупный аванс, который, к стыду моему, я так и не вернул (сперва, как и все мои гонорары, этот был истрачен на «Гласность», а когда деньги у меня появились, оказалось, что издательство их просто списало). Договор со мной был естественным – множество людей слышало мое имя, кто-то читал статьи и интервью и теперь от меня ждали книгу, тем более что все знакомые или уже написали воспоминания или готовили их. Но в Москве у меня не было для этого ни минуты свободной, в Париже тоже времени не хватало и я, чувствуя себя неловко, однажды пожаловался на обстоятельства Ирине Алексеевне. Иловайская, как всегда, готова была мне помочь, и через неделю я, отменив все свои встречи, уже ехал по заказанному мне «Русской мыслью» билету первого класса на TGV экспрессе в Тулузу, в течение месяца поработать в доме у Элен Пельтье-Замойской. Пригород Тулузы был застроен стоящими впритык друг к другу сотней или двумя трех-четырех ярусных колоколен. Было совершенно непонятно, к чему столько храмов один рядом с другим. Меня встретила Элен, повезла на своем «жуке» в небольшой городок поблизости, где у нее и был дом – перестроенная ферма XVII века. По дороге я опять увидел колокольню и спросил Элен, что это за странное предместье. Она сперва не могла понять, о каких церквях я говорю, но когда поняла, улыбнулась, почти стесняясь моего незнания очевидных вещей: