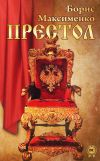Текст книги "Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия"

Автор книги: Сергей Кисин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Михаил тоже был популярен и этим крайне опасен. Его надо было устранить. Но Каховский в полубреду. Зато у Кюхельбекера нервы оказались стальные, недаром Пушкин в лицеистские годы написал на него эпиграмму, стоившую поэту дуэли на черешневых косточках.
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно,
И стало мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
Кюхля подскочил к великому князю с пистолетом (был заряжен уже отнюдь не косточками) и выстрелил. То ли порох отсырел, то ли осыпался с полки, но произошла осечка, спасшая Михаилу жизнь, не то точно было бы кюхельбекерно ему с выстрела в упор. Он писал: «Бродя между рядами, он не дрогнул, прицелился в нескольких шагах на брата своего государя; жизнь последнего была спасена только совокупным мгновенным движением трех матросов того же морского экипажа, который стоял в строю мятежников.
– Что он тебе сделал? – закричали они, и один вышиб из рук Кюхельбекера пистолет, а оба другие начали бить его прикладами своих ружей. Имена этих людей – Дорофеев, Федоров и Куроптев. По настоятельному ходатайству самого великого князя преступник подвергнут был наказанию слабейшему, нежели какое следовало по закону, а избавители его и их семейства щедро были им упокоены и обеспечены…»
Генерал-адъютант Илларион Васильчиков придвинулся к Николаю:
– Ваше величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь.
– Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?
– Чтобы спасти вашу империю.
«Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно все; или, пощадив себя, жертвовать решительно государством» – так объяснял Николай свои действия.
Есть и другая версия. К нему подъехал начальник Главного штаба 1-й армии граф Карл Толь и жестко сказал: «Ваше величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола».
Труднейший выбор. Усеять путь к престолу трупами своих подданных, стать в их глазах «кровавым», окончательно озлобить дворянство и гвардию? Да и что скажет Европа? Плевать на «общественное мнение», но Священный союз, короли и императоры? Однако, если уж он хотел стать самодержцем, надлежало сделать и этот шаг.
Испробовал последний довод – послал к восставшим Сухозанета, чтобы тот сказал о «последнем доводе короля».
Шел пятый час противостояния. Темнело. Холодало (минус восемь градусов). Со стороны правительственных войск к бунтовщикам доносились крики: «Вы только до темноты продержитесь, а там мы пособим». Пособили ли? Стали совещаться, решили, что Трубецкой предатель, выбрали в диктаторы Оболенского. Он тоже не знал, что делать дальше. Командовать «в штыки» на батарею? Так ведь там свои, пойдут ли гвардейцы на гвардейцев? Чай не на французов.
Ждать было уже невозможно. Вернулся обстрелянный из пистолетов Сухозанет и грустно посмотрел на императора. Жребий был брошен. Требовалась Большая Кровь.
Николай не желал смотреть на эту мясорубку. Скомандовал стрелять и развернул лошадь к Зимнему дворцу. Фас каре сковал ужас – там не верили, что артиллеристы решатся лупить по ним.
Было 16.15. Поручик лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады Илья Бакунин (двоюродный дядя идеолога народничества Михаила Бакунина, неплохой поэт, переводил на французский пушкинское «Клеветникам России») махнул рукой. Тишина. Фейерверкер правофлангового орудия уронил пальник в снег и с дикими глазами смотрел на поручика: «Свои, ваше благородие…» Бакунин в ярости подскочил (он не видел, что императора сзади уже нет), пинком вышиб фейерверкера от ствола, сунул пальник…
Батарея дала залп. Николай Бестужев, вокруг которого сразу рухнуло семь солдат, писал, что «в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием».
У фейерверкеров тряслись руки, целились как попало. Правофланговое брызнуло картечью аккурат в каре, сделав коридор из трупов, соседнее взяло выше и шарахнуло по Сенату, среди колонн которого засели зеваки (трупов черни потом никто даже не считал).
Все было кончено в считаные минуты. Разбитые повстанцы бросились на Английскую набережную, но там их стала рубить конница. К Сенату – оттуда ударила пушка Михаила. Бестужевы попытались было выстроить матросов на льду, чтобы повести на Петропавловскую крепость и закрепиться там, но два картечных выстрела их рассеяли, а ядра разбили лед, утащив на дно неизвестное число повстанцев. Об отходе на Пулковские высоты уже не могло быть и речи. Началось повальное бегство кто куда.
Бунт был подавлен. Остальное поручили Бенкендорфу, который в тот же день наконец-таки по известным всем спискам начал аресты. Наводить чистоту на залитых кровью и заваленных трупами улицах обязали городские власти. Навели так, как и положено в России. Обер-полицмейстер Дмитрий Шульгин приказал трупы бросать в Неву. Христианские души бросили как бездомных псов. Это посеяло настоящий ужас в обывателях – со стороны Васильевского острова много трупов примерзло ко льду, и брать воду в этом месте никто не решался до самого весеннего ледохода.
Век гвардейских переворотов закончился. Последний «котел янычаров» оказался продырявлен картечью.
Вечером того же дня Зимний дворец напоминал Смольный образца октября 1917 года – двери не закрывались, сновали флигель-адъютанты, донесения от Бенкендорфа и Васильчикова об арестах поступали постоянно. «Когда я пришел домой, комнаты мои были похожи на главную квартиру в походное время». Спать император в ту ночь вовсе не ложился. Николай написал командующему 1-й армией графу Фабиану Остен-Сакену и брату Константину письма приблизительно в одних и тех же выражениях: «Я ваш законный государь, и Богу было угодно, чтобы я стал самым несчастливым из государей, потому что я вступил на престол ценою крови моих подданных! Великий Боже, какое положение!»
Французский посол Огюст де Лаферронэ тем же вечером отправил депешу в Париж: «Думаю, нет необходимости объяснять, в какой степени это прискорбное событие потрясло императора. Но для тех, кто был свидетелем достойного поведения этого монарха, было очевидно его великодушие, его величественное спокойствие, его невозмутимое хладнокровие, которые восхищали с одинаковым энтузиазмом и войска, и старых генералов».
Начинаются царства с виселиц
Николай I – Константину Павловичу
Санкт-Петербург, 17 декабря 1825 г.
…Пишу вам несколько строк, только чтобы сообщить добрые вести отсюда. После ужасного 14-го мы, по счастью, вернулись к обычному порядку; остается только некоторая тревога в народе, она, я надеюсь, рассеется по мере установления спокойствия, которое будет очевидным доказательством отсутствия всякой опасности. Наши аресты проходят очень успешно, и у нас в руках все главные герои этого дня, кроме одного. Я назначил особую комиссию для расследования дела; она состоит из военного министра, Михаила Кутузова, Левашева, Бенкендорфа и Александра Голицына… Впоследствии для суда я предполагаю отделить лиц, действовавших сознательно и предумышленно, от тех, кто действовал как бы в припадке безумия.
Константин Павлович – Николаю I
Варшава, 20 декабря 1825 г.
…Великий боже, что за события! Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела, и составила заговор против него! Чего же им нужно? Это чудовищно, ужасно, покрывает всех, хотя бы и совершенно невинных, даже не помышлявших того, что произошло!.. Генерал Дибич сообщил мне все бумаги, и из них одна, которую я получил третьего дня, ужаснее всех других: это та, в которой о том, как Волконский призывал приступить к смене правления. И этот заговор длится уже 10 лет! как это случилось, что его не обнаружили тотчас или уже давно?
Провал декабрьской аферы предопределил и еще более авантюрный провал мятежа Черниговского полка через месяц под Киевом, так же стремительно подавленный, но уже малой кровью. Число арестованных было огромным, Петропавловская крепость всех не вмещала, были забиты все гауптвахты. Некоторых из заговорщиков привозили их родственники, многие являлись сами. Через пять дней после событий на Сенатской площади Николай I особым манифестом объявил амнистию всем рядовым участникам выступления и учредил Верховный уголовный суд для ведения процесса над офицерами-заговорщиками.
«Я увидела в нем как бы совсем нового человека», – писала в своем дневнике 15 декабря императрица Александра Федоровна.
«Эта ужасная катастрофа придала его лицу совсем другое выражение», – отмечала «мамаша» Мария Федоровна, которая теперь была совершенно отодвинута на задворки политики.
«Сквозь тучи, затемнившие на мгновение небосклон, – столь поэтично заметил 20 декабря 1825 года Николай I французскому посланнику графу Лаферронэ, – я имел утешение получить тысячу выражений высокой преданности и распознать любовь к отечеству, отмщающую за стыд и позор, которые горсть злодеев пытались взвесть на русский народ. Вот почему воспоминание об этом презренном заговоре не только не внушает мне ни малейшего недоверия, но еще усиливает мою доверчивость и отсутствие опасений. Прямодушие и доверие вернее обезоружает ненависть, чем недоверие и подозрительность, составляющие принадлежность слабости… Я проявлю милосердие, много милосердия, некоторые скажут, слишком много; но с вожаками и зачинщиками заговора будет поступлено без жалости и без пощады. Закон изречет им кару, и не для них я воспользуюсь принадлежащим мне правом помилования. Я буду непреклонен: я обязан дать этот урок России и Европе».
За победу над мятежниками нижние чины получили от императора по 2 рубля, по 2 фунта говядины и по 2 чарки зелена вина. Был образован Следственный комитет во главе с военным министром графом Александром Татищевым, а Николай лично допрашивал офицеров, желая знать их мотивы участия в бунте. От этого зависело не только понимание общих настроений гвардии, но и вектор дальнейшего его царствования, начавшегося столь трагично. Тем более что масса заговорщиков была ему лично знакома.
Несостоявшийся диктатор Сергей Трубецкой был арестован в вечер восстания. Николай коброй накинулся на него, целя монаршим пальцем в лоб Рюриковича: «Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилиею, вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой! Как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью? Какая милая жена! Вы уничтожили вашу жену! Какое счастье, что у вас нет детей! Ваша участь будет ужасная!» Кстати, княгиня Екатерина Трубецкая (урожденная Лаваль, дочь французского эмигранта) до восстания за пять лет брака украсила супружеский альков не детьми, а лишь ветвистыми рогами. Однако после ссылки мужа добровольно отправилась за ним на Нерчинские рудники и там родила ему восьмерых.
Никита Муравьев («образец закоснелого злодея») был совершенно подавлен. Настолько подавлен, что не в состоянии был даже оправдываться (впрочем, подавленность легко объяснялась ранением в голову, полученным на Сенатской площади). Лишь качал головой, подтверждая все обвинения. «Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностию он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он его высказал, я ему отвечал:
– Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть – преступным злодейским сумасбродством?»
По окончании допроса автор Конституции вообще лишился чувств, и император ЛИЧНО вместе с генерал-адъютантом Василием Левашовым (член Следственного комитета по делу декабристов) под белы рученьки несли из кабинета на кушетку человека, который готовился лишить Николая трона.
Генерал Михаил Орлов, зная о близости брата к трону, оказался крепким орешком. Он просто улыбался на вопросы государя и ушел в полную «несознанку», неся околесицу о том, что единственным обществом, в котором состоял, был литературный «Арзамас».
Любопытны определения, которые Николай давал самим декабристам. По его мнению, Орлов, «пользуясь долго особенным благорасположением покойного государя… принадлежал к числу тех людей, которых счастие избаловало, у которых глупая надменность затмевала ум, считав, что они рождены для преобразования России. Орлову менее всех должно было забыть, чем он был обязан своему государю, но самолюбие заглушило в нем и тень благодарности, и благородства чувств».
Павел Пестель, которого привезли из Киева сразу закованного и держали тайно, вел себя вызывающе, когда император допрашивал его в библиотеке Эрмитажа.
«Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг».
Его коллеги по Южному обществу, по мнению Николая, были под стать ему. «Артамон Муравьев был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство. Подл в теперешнем положении, он валялся у меня в ногах, прося пощады!»
Его брат «Матвей Муравьев, сначала увлеченный братом, но потом в полном раскаянии уже некоторое время от всех отставший, из братской любви только спутник его во время бунта и вместе с ним взятый, благородством чувств, искренним глубоким раскаянием меня глубоко тронул».
Еще один Рюрикович просто позабавил царя. «Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый, он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека».
Именно «набитый дурак» фактически подставил генерала Ермолова, написав Пестелю о своем впечатлении от поездки на Кавказ, где якобы «готов восстать» Кавказский корпус под командованием «проконсула Грузии». Ермолов об этом, конечно, ни сном ни духом, но осадочек у Николая остался.
Хотя были и другие примеры. Известный писатель и активнейший участник восстания Александр Бестужев-Марлинский сам явился во дворец в парадной форме при сабле. «Взошед в тогдашнюю знаменную комнату, он снял с себя саблю и, обошед весь дворец, явился вдруг, к общему удивлению всех во множестве бывших в передней комнате. Я вышел в залу и велел его позвать; он с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал:
– Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.
Я ему отвечал:
– Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу виновность; будьте откровенны в ваших ответах и тем докажите искренность вашего раскаяния».
Розену он долго смотрел в глаза и, не заметив смущения, начал упрекать в том, что всегда доволен был его службой, отличал его и приводил в пример другим. Но поручик уперся и ни в какую. Собственное участие он не отрицал, да и глупо было бы, но никаких имен более не назвал. Трижды император заходил в кабинет для допросов, читал показания. «Император был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел сам слышать, все сам читать». Но, видимо поняв, что с этим офицером бесполезно играть в откровенность, устало бросил: «Тебя, Розен, охотно спасу!»
Полковнику Булатову, который откровенно признался, что «вчера два часа стоял я в двадцати шагах от вас с двумя заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас, но возьмусь за курок, и сердце мне отказывает», Николай тоже пообещал помочь. Но полковник не стал ждать – разбил себе голову о стену тюремной камеры.
Жене Рылеева (любил его стихи, тот сложил оду на рождение наследника) государь послал 2 тысячи рублей, через несколько дней императрица еще тысячу. Взял на себя заботу об их дочерях.
Совершенно преобразился Каховский. После ареста он уже перестал напоминать всем полоумного маньяка, бредившего идеей «тираноубийства». Будучи очарованным государем, он настолько разоткровенничался, что выложил как на духу все, что знал о тайных обществах и их руководстве. «Причину заговора, относя к нестерпимым будто притеснениям и неправосудию, старался причиной им представлять покойного императора. Смоленский помещик, он в особенности вопил на меры, принятые там для устройства дороги по проселочному пути, по которому Государь и Императрица следовали в Таганрог, будто с неслыханными трудностями и разорением края исполненными. Но с тем вместе он был молодой человек, исполненный прямо любви к отечеству, но в самом преступном направлении». Каховский, кстати, заметил Николаю, что тот очень мудро сделал, что сам не стал подходить с уговорами к каре, ибо у Каховского было такое «состояние», что тот мог и пойти на «тираноубийство».
Генерал Бистром (сам был под подозрением из-за своего странного поведения в день восстания – он не отходил от Егерского полка, не желая участвовать в подавлении мятежа, ссылаясь на то, что якобы егеря сами колебались), встретив в коридоре арестованного князя Оболенского, своего адъютанта, горестно вздохнул: «Что вы наделали, князь, вы отодвинули Россию по крайней мере на пятьдесят лет назад».
Поведение мятежников под арестом вообще тема скользкая. Вели они себя очень даже по-разному. Одни считали недостойным врать государю, и на допросах писцы едва успевали за ними записывать (таковых было большинство); другие о себе говорили как на духу, но ничем не выдавали своих товарищей (к примеру, Лунин заявил: «Я поставил себе неизменным правилом никого не называть поименно»); третьи выгораживали себя как могли, топя других; четвертые считали, что, лишь рассказав правду на следствии, можно поведать правительству о бедственном положении в империи.
Интересное замечание бросил историк Карамзин: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и в лимфе».
В очередной раз удивил Константин. Он так и не приехал в столицу на «разбор завалов», но сделал совершенно парадоксальный вывод из случившегося.
Как следует из его письма Николаю в ответ на отчет (!) царя-победителя фактически спровоцированного цесаревичем мятежа: «Когда я перечитал его три раза, внимание мое остановилось на одном замечательном обстоятельстве, которое поразило мой ум: список арестованных содержит только имена лиц до того неизвестных, до того незначительных самих по себе и по тому влиянию, которое они могут иметь, что я вижу в них только передовых охотников и застрельщиков шайки, заправилы которой остались сокрытыми до времени, чтобы по этому событию судить о своей силе и о том, на что они могут рассчитывать. Они виноваты в качестве застрельщиков-охотников, и по отношению к ним не может быть снисхождения, так как в подобных вещах нельзя допускать увлечения; но вместе с тем нужно разыскивать подстрекателей и руководителей и непременно найти их на основании признания арестованных».
Мало того, что Константин оторвался от России в какие-то космические дали, утверждая, что ему «неизвестны» имена не только знаменитых героев Отечественной войны, гремевших на всю армию, но и вообще представителей фамилий Рюриковичей и Гедиминовичей, куда как породовитее Романовых (Трубецкой, Оболенский, Щепин-Ростовский, Голицын, Волконский, Нарышкин, Одоевский и пр.). Да и собственного адъютанта Михаила Лунина тоже было бы неплохо «вспомнить». К тому же Константин просто носом тычет императора в непременное, по его мнению, существование мифических сил, заставивших мятежников выступить. Уж не себя ли цесаревич имел в виду?
К примеру, французский посол Огюст де Лаферронэ был куда как дальновиднее: «Русские заговорщики в подавляющем большинстве принадлежали к привилегированному классу. Тенденция к ограничению привилегий аристократии характерна для последнего царствования, судя по всему, была главным побудительным мотивом для подготовки мятежа. Революция, которую они намеревались возглавить, замысливалась ими в интересах привилегированных классов, и именно это обстоятельство отличало русских заговорщиков от аналогичных демагогов из других стран Европы. Недостаточная зрелость их планов, трусливое малодушие, проявленное заговорщиками, поспешившими немедленно раскаяться ради спасения своих жизней, наглядно показывают, что эта революция не была серьезной, и в этом ее отличие от революций, происходивших в других странах». Кстати, французский посол уже 1 января 1826 года вручил управляющему российского МИДа графу Карлу Нессельроде ноту, в которой выражалась полная поддержка действий русского правительства по подавлению мятежа.
Заметим, что Николай НИ СЛОВОМ не упрекнул старшего брата в том, что тот не приехал и не «убрал за собой». Убирать приходилось самому императору, днями просиживая за допросными листами и письмами самих декабристов.
Кстати, и Каховский, и Муравьев («Поверьте, всемилостивейший государь, что где бы я ни находился и какой бы участи я ни подвергся по своей вине, я не перестану благословлять вашей благости за то, что вы не отказали мне в единственном утешении, которое я мог иметь»), и Одоевский («Я не постигаю, как я мог замешаться в столь презренную толпу злодеев и убийц»), и Якубович («Не имея теперь ничего общего с человеками, в каземате, когда меч правосудия висит над моей головой, хочу хотя истиной служить Отечеству и как награды за сей поступок, прошу, Государь, доверенности к моим словам, она поведет к счастию миллионы граждан и даст Вам прочную славу в благодарности подданных и любви потомства»), и Владимир Штейнгель («Из мрачной темницы моей, возносясь духом любви к Отечеству, духом верноподданнического к Вашему Императорскому Величеству усердия, припадаю к священным стопам Вашим»), Александр Грибоедов (его вызвали из крепости Грозной и арестовали, но не смогли доказать соучастия в тайных обществах), и многие другие строчили из заключения покаянные послания. Хотя в некоторых письмах, когда остыл бунтарский пыл и тюремные камни охладили вулканы страстей, звучали вполне здравые и рациональные мысли, объяснявшие монарху причины, по которым в среде дворянского офицерства заговор получил такой размах. Лично просматривая все письма, Николай не мог не сделать своих выводов по поводу того бедственного положения, в котором находилась империя к его восшествию на престол. Трезвые мысли были у многих, даже у тех, кто этой трезвостью похвастаться не мог до своего участия в мятеже.
Каховский: «Государь! Я сделался пред Вами преступником, увлекаясь любовию к отечеству. Я никогда не мог принадлежать никакому обществу, ибо никогда ничего не желал себе; я принадлежу благу общему и всегда готов запечатлеть любовь мою к человечеству последней каплей крови моей. Намерения мои были чисты, но в способах, вижу, я заблуждался. Не смею просить Вас, простить мое заблуждение; я так растерзан Вашим ко мне милосердием. Я не способен никому изменять; я не изменял и обществу, но общество само своим безумием изменило себе.
Государь! Верьте, я не обману Вас! Могу ошибиться, но говорю, что чувствую: невозможно идти против духа времени, невозможно нацию удержать вечно в одном и том же положении; зрелость дает ей силу и возможности; все народы имели и имеют свои возрасты. Благодетельные правители следовали по течению возмужалости духа народного и тем предупреждали зло. Государь! От Вас зависит устроить благоденствие наше».
Якубович: «Государь! Ветхое здание государственного управления требует важных изменений. Империя, с небольшим сто лет вышедшая из мрака грубого невежества, всякие четверть века совершенно изменяется в образованности идей и нравственных потребностях. Облегчите и обеспечьте состояние хлебопашца. Сравняйте преимуществами Ваших воинов, уменьшив срок службы, решительными законами и строгим их исполнением введите каждого в его обязанности, распространите свет наук и просвещения, дайте ход торговой деятельности, ободрите Вашим благоволением робкую добродетель, и недовольные, или карбонарии, исчезнут, как тьма пред лицом солнца, Вы будете благодетельный спаситель отечества от многих бедствий, и любовь благодарных пятидесяти двух миллионов Ваших подданных, будет только преддверием бессмертной Вашей славы».
Штейнгель: «Умоляю Ваше Величество благом многих миллионов людей, коих Вы нареклись отцом, умоляю собственной Вашей славой и самой безопасностью: не презрите моих наблюдений и сведений; удостойте прочесть все нижеследующее до последней строчки, прежде, нежели произнесете строгий суд о свойстве и самой цели настоящего моего подвига. Дерзаю представить обнаженную истину: она должна быть доступна Престолу мудрого Монарха, восприявшего бразды правления с намерением – жить для Отечества. В Высочайшем Манифесте о восшествии Вашем на престол, как бы в утешение народа, сказано, что Ваше Царствование будет продолжением предыдущего. О, Государь! ужели сокрыто от Вас, что эта самая мысль страшила всех, и что одна токмо общая уверенность в непременной перемене порядка вещей говорила в пользу Цесаревича».
Подполковник Гавриил Батенков 31 марта 1826 года в Петропавловской крепости вообще провел сравнительную характеристику возможных фаворитов императора. Он писал Василию Левашеву: «Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневать его – значит уже лишиться уважения.
Аракчеев зависим, ибо сам писать не может и неучен; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным.
Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвалиться силою у государя всеми средствами; Сперанский любит критиковать старое, скрывать свою значимость и все дела выставлять легкими.
Аракчеев приступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы; все исполнит, что обещает; Сперанский приступен на все просьбы о добре, охотно обещает, но часто не исполняет, злоречия не любит, а хвалит редко.
Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: на на что постороннее не смотрит; Сперанский нередко смешивает и увлекается особыми уважениями.
Аракчеев решителен и любит наружный порядок; Сперанский осторожен и часто наружный порядок ставит ни во что.
Аракчеев ни к чему принужден быть не может; Сперанского характер сильный может заставить исполнять свою волю.
Аракчеев в общении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично, к подчиненным совершенно искренен и увлекается всеми страстями; Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным.
Аракчеев с трудом может переменить вид свой по обстоятельствам; Сперанский при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид.
Аракчеев богомол, но слабой веры; Сперанский набожен и добродетелен, но мало исполняет обряды.
Мне оба они нравились как люди необыкновенные, но Сперанского любил душою».
Николая крайне занимала возможная причастность к планам заговорщиков тех самых, кого они прочили в будущее правительство, – Сперанского, Мордвинова, Ермолова. Но никаких реальных доказательств их даже осведомленности о планах декабристов выявлено не было.
Секретарь Следственного комитета по делу заговорщиков Александр Боровков составил так называемый «Алфавит декабристов», в который были включены все подозреваемые и «сочувствующие» по этому делу. В их число попали и будущий председатель Военно-следственной комиссии по делу петрашевцев и генерал-губернатор Оренбургской и Самарской губерний Василий Перовский (брат министра внутренних дел Льва Перовского), будущий глава Третьего отделения генерал Леонтий Дубельт, литератор Александр Грибоедов, полковник Николай Раевский. Серьезные подозрения были по поводу поэта Александра Пушкина, который впоследствии на прямой вопрос Николая, что бы тот делал, если бы не находился в ссылке в Михайловском, откровенно ответил: «Присоединился бы к восстанию».
Всего в «Алфавит» включено 579 человек. Из них 121 осуждены, 57 – наказаны во внесудебном порядке. 290 человек – подследственные, признанные невиновными, а также «прикосновенные» лица, вовсе не привлекавшиеся к следствию; остальные – вымышленные имена, упомянутые в показаниях подследственных.
Однако следовало отделять мух от шницелей – здравый смысл должен был подсказать царю, что репрессиям можно подвергнуть только злостных заговорщиков, действовавших осознанно. Не следовало озлоблять и без того негативно настроенное титулованное дворянство, делегировавшее столько представителей в «Алфавит». Тем более что многочисленные и влиятельные родственники, которые сами привозили их под арест, тут же пустили в ход и свои широчайшие связи при дворе, пытаясь облегчить участь «своим» заговорщикам. С этим также нельзя было не считаться. Следовало крайне аккуратно подходить к выбору «неисправимых», «весьма опасных» и «добросовестно заблуждающихся». Поэтому по степени «трудового участия» все декабристы были определены Николаем в восемь разрядов наказания. При этом самодержец лично вычеркивал из «Алфавита» имена «замаранных» на следствии командиров гвардейских полков, генералов и полковников, оставляя лишь низшее офицерство, что должно было подчеркивать вроде как малозначительный и маловлиятельный состав «карбонариев». Низших чинов, действовавших по приказу командиров, вообще старались полностью освободить от наказания, переводя из гвардии в армию и распыляя по России. Из них создали сводный полк двухбатальонного состава и в феврале 1826 года направили на границу с Персией, где намечалась очередная война. Искупать кровью прегрешения перед государем и Отечеством.
В итоге Верховный уголовный суд в составе более чем из 60 членов под председательством князя Петра Лопухина приговорил к смертной казни 36 участников путча, 25 из которых Николай I заменил казнь пожизненной каторгой, а еще шестерым – каторгой сроком на 20 лет с последующей пожизненной ссылкой. К смертной казни через повешение были приговорены только те, которые, по мнению императора, особо отличились в своих действиях и идеях: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол.
Пестель призывал к физическому устранению всей императорской фамилии, без различия пола и возраста. Рылеев – к убийству императора Каховским. Тот – оставил за собой два трупа. Бестужев и Муравьев (оба авторы «Православного катехизиса», призывавшего к свержению самодержавия и установлению республики) повели невинных и ничего не понимавших солдат на явный убой, стоивший жизни многим, в том числе и брату Ипполиту Муравьеву-Апостолу. Неудивительно, что никакого снисхождения к ним не применялось. Да и в каком бы государстве они его заслуживали? Они были осуждены вне разряда, лишены всех прав состояния и повешены 13 июля 1826 года на Кронверкской куртине Петропавловской крепости. Если бы не выжили порубанные генералы Фредерикс и Шеншин, не дай пистолет Кюхельбекера осечку, болтаться бы в петле рядом с ними князю Щепину-Ростовскому и поэту Кюхле. Повезло.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?