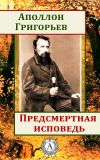Текст книги "Русский диверсант"

Автор книги: Сергей Михеенков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Значит, ночью он всё-таки миновал и своих, и немцев. Прошёл обе-две линии и ничего не заметил. Вот тебе и разведчик… Обычно незанятые участки обороны контролируются хорошо укреплёнными опорными пунктами. Так делают и наши, и немцы. Но не занятое войсками пространство в этом случае тщательно минируется. Значит, ночью он прошёл по минному полю. А может, и по двум сразу. От этой мысли Воронцов почувствовал неприятный холодок внутри. Как будто пуля пролетела у самого виска, так что волосы колыхнуло.
– Так кто ты, курсант или разведчик? – снова начал допытываться стрелок. Видимо, его начала беспокоить неопределённость положения, в которое попали они с лейтенантом.
– И то, и другое, – отмахнулся Воронцов очередной неопределённостью.
Стрелок пристально смотрел ему в спину. Воронцов это почувствовал. И понял, что дальше, тем более если очнётся лейтенант, такие ответы не пройдут и надо будет лётчикам говорить что-то определённое. Но как им расскажешь правду? Кто в неё поверит? Они здесь, по эту сторону фронта, всего несколько часов, а он… Они и войну знают разную. У них она – одна. У него – другая. И он решил молчать, пока не очнётся лейтенант. Всё-таки старшим по званию среди них был лётчик, и уж если кому-то докладывать, то только ему. А сержант-стрелок, которого распирало любопытство и одновременно донимала тревога, подождёт.
– Ты бы потише кашлял, сержант, – предупредил его Воронцов.
– Не могу. Мутит. Внутри будто гарь стоит. Как будто ожог внутри. Дыма наглотался.
– Хочешь воды?
Они остановились. Лейтенант застонал. Воронцов помог ему повернуться набок.
– И фляжка у тебя, курсант, ненашенская…
– А вода? – усмехнулся Воронцов, не сводя со стрелка пристального и холодного взгляда.
– Вода-то в норме, – напряжённо засмеялся стрелок. – Наша водичка. Но её, как известно, и немцы пьют.
Что ж, разговор зашёл в тупик.
– Всё. Привал. Надо разжечь костёр. Лейтенанта колотит. Жар не спадает. Да и ты бухаешь… – Воронцов осмотрел голову лейтенанта, осторожно поддел пальцем бинты. – Рану ещё раз промыть надо. Отваром. Иначе загубим твоего командира.
– А ты, курсант, нас не сдашь? – спросил вдруг стрелок, и в голосе его Воронцов почувствовал страх.
– Сейчас я беспокоюсь только об одном: как бы не попасться вместе с вами. Я, пока шёл, костра ни разу не разжигал. А теперь, под самым носом у немцев, получается, что надо.
– Тогда, может, и обойдёмся без костра? А, лейтенант?
– Лейтенанту, если ничем ему не поможем, лучше не станет. Только хуже. А спасти попытаться можно. Сделаем давай так: когда костёр разгорится, ты заступаешь в охранение. И ещё: больше ни о чём не расспрашивай. А то уйду. Понял?
– Нет, курсант, ты только не уходи. Не бросай нас. Командира надо вынести. Один я с ним не справлюсь. Тяжёлый. Не донесу.
– Ты лучше с ним договорись, чтобы он тебя на выходе в Особый отдел не сдал.
– Не сдаст. Это он бредит.
– Смотри… Как бы потом его бред в протоколе не оказался.
И они пошли собирать хворост.
Глава пятая
Стрельба в стороне траншеи стала постепенно затихать. Григорьев то привставал на корточках, то снова садился, прислушивался. Там, за деревьями, прогрохотали танки. Похоже было, будто трактора возвращались с пахоты. Нелюбин даже прикрыл глаза от внезапных сладких воспоминаний, когда всё в окружающем мире происходило правильно, без особой обиды для людей, когда люди не гонялись друг за другом, чтобы поймать на мушку или всадить в живот штык. Было ж и такое хорошее время. Эх, какое хорошее время было! Ушло. Разом обрезало. В одно утро.
– Григорьев, ты, ёктыть, голову убери. Пока не прошли. А то заметят…
– А видать, поздно, взводный, – голос сержанта Григорьева разом задеревенел, осип. – Идут… Вон они…
Нелюбин приподнялся на локте и посмотрел туда, куда неподвижным истуканом глядел сержант Григорьев.
И правда, по коровьей стёжке, держа как раз на их осину, под которой они залегли в надежде переждать контратаку, шли трое немцев. Один с автоматом, двое с винтовками. В солнечных бликах поблёскивали гофрированные коробки противогазов, мелькали каски, обтянутые камуфляжной материей и утыканные берёзовыми веточками.
– Если не поднимем руки, перебьют нас. А, Кондратушка?
Никто во взводе не звал его по имени. Отделённые иногда звали по имени и отчеству. И это «Кондратушка» так резануло по сердцу, что Нелюбина сдавило мгновенной жалостью не только к своему лучшему во взводе сержанту, но и к самому себе. В голове замутилось: что делать, господи?! И в это мгновение немцы, видать, заметили их.
– Halt! – послышалось от стёжки, и короткая очередь осадила листву над головами, пули рванули осиновую кору.
Григорьев уже стоял с поднятыми руками. А Нелюбин, понимая, что ничего сделать нельзя, рванул зубами чеку гранаты.
– Не надо, Кондратушка… – услышал Нелюбин жалобный голос своего отделённого, и сердце его снова зашлось смутной надеждой, и он не смог разжать пальцев, чтобы отпустить скобу взрывателя.
Немцы приближались. Теперь они шли не гуськом, а охватывали их полукольцом.
– Steht! Steht! – кричали они, вскидывая стволы винтовок, откуда в любое мгновение могло плеснуть огнём и прекратить все мучения.
Ну, стреляйте же, стреляйте… Душу не выматывайте… Нелюбин так и не встал. Он сидел, привалившись потной спиной к дереву, будто пристыл к шершавой коре, и крепко сжимал в руках ребристое округлое тельце гранаты – свою последнюю надежду. Уж она-то не выдаст.
Немцы долго не подходили, стояли за деревьями шагах в десяти и переговаривались, курили, что-то решали. Никто их не торопил – ни стрельба, ни командиры.
– Kom! – позвал один из них и махнул автоматом Григорьеву.
Тот послушно побежал к ним, держа над головой винтовку и ремень с подсумками. В плену ни разу не был, а сдаваться умеет, с запоздалой злостью подумал о сержанте Нелюбин и крикнул ему:
– Стой, Григорьев! Вернись!
Сержант Григорьев замедлил шаг, оглянулся и, свесив голову и опустив плечи, поплёлся к стоявшим за деревьями немцам. Нелюбин видел, как автоматчик взял у него из рук винтовку и отбросил её в кусты. Туда же полетел и ремень с подсумками. Немцы что-то говорили Григорьеву. Тот послушно кивал, оглядывался на взводного. На что-то ж моего Григорьева подбивают, злодеи чёртовы, подумал Нелюбин. Он всё ждал оттуда пули, но немцы почему-то не стреляли.
– Кондрат, – вскоре позвал Григорьев, – кинь ты её в кусты. Отвоевались.
– Не могу, – чужим голосом сказал Нелюбин, – пальцы свело. Не пойду я в плен, Григорьев. А ты как хочешь…
– Не дури, взводный. Что зазря умирать?
Немец с автоматом толкнул Григорьева к Нелюбину, что-то показал рукой.
– Погоди, взводный, я тебе помогу! Погоди, Кондрат!
Григорьев прижал скобу и разжал пальцы младшего лейтенанта. Теперь граната была в его руке.
– Ну, что теперь будешь делать? – Нелюбин смотрел на сержанта Григорьева злыми глазами.
– Ты мне теперь не командир, младший лейтенант, – сказал тот, тоже не узнавая своего голоса, и отшвырнул гранату в кусты.
Осколки зашлёпали по берёзам, обрывая листву и сбивая к ногам ветки ивняка. Как жаль, что ни один из них не влепил ему в лоб, вздохнул Нелюбин и отвернулся от Григорьева. Ему не хотелось больше смотреть на бывшего своего отделённого. А ведь считал его хорошим младшим командиром… Вот как бывает! Выходит, не знаешь ты совсем человека, хоть и служил с ним бок о бок немалое время, и повоевал порядочно, когда друг друга люди узнают за несколько часов боя.
– Пойдём, Кондратушка, – услышал он сквозь звон в ушах голос сержанта. – Держись за меня, – да, он не ошибся, это был снова голос сержанта Григорьева, лучшего отделённого третьего взвода.
И Григорьев подхватил младшего лейтенанта Нелюбина под руку и помог подняться на ноги. Нет, Григорьев его всё же не бросал. И Нелюбин опёрся на его руку.
Их повели той же коровьей стёжкой, по которой полчаса назад они пытались уйти в лес и затаиться, переждать контратаку. Немцы шли следом, курили и тихо переговаривались. Вот, Кондрат, и опять опрокинулась твоя фронтовая жизнь, корил себя за малодушие младший лейтенант Нелюбин. Ну что тебе стоило разжать пальцы? Сейчас бы летела душа в рай. И не мучился бы, не мучил бы ни Григорьева, ни себя. Как всё неладно вышло… Господи, как неладно… Сходили, называется, в атаку…
Лес кончился. По чистине их погнали бегом. Немец в кепи с длинным козырьком подтолкнул Григорьева прикладом:
– Schnell, Iwan! Schnell!
Вот и началось, подумал Нелюбин. И сказал Григорьеву:
– А ты думал, нас тут баранками кормить будут…
Григорьев ничего не ответил, а только крепче перехватил взводного под руку и потащил через луговину. Ноги у Нелюбина всё ещё заплетались.
Вскоре спрыгнули в пыльную, разбитую минами траншею, укреплённую изнутри прутяными матами. По отводному ходу их повели в глубину, к вершине холма. Нелюбин угрюмо смотрел по сторонам и, видя, как основательно, в несколько линий, укрепились немцы на этой проклятой Зайцевой Горе, подумал: а мы, дураки, ротой хотели прорвать на всю глубину… Вон сколько пулемётов у них во всех местах порасставлено. Запасные позиции отрыты. Блиндажи. Судя по ступеням, глубокие. Не то что у нас, там, внизу, в болоте, – только на карачках и влезешь на нары, а под жердями в чёрной воде тритоны плавают. Половину взвода малярия катает от сырости и ночных холодов. Другая половина чирьями покрылась. А вон у них и миномёты спрятаны. Умно, в лощинке, снизу и в бинокль не разглядишь. Но воронок и у них полно. Видно, наши артиллеристы всё же научились засекать их огневые. Тоже небось много кишок по кустам развешано…
Их втолкнули в тёмную землянку, по всей видимости, штабную. И Нелюбин с удивлением обнаружил, что стены внутри землянки обшиты тёсом. Да ещё и струганым. И потолок тёсом забран. Ну прямо вагон-ресторан. За столом возле керосиновой лампы сидел пожилой немец. В углу молодой солдат-телефонист, совсем мальчишка. Связист с любопытством разглядывал их. Нелюбин тоже смотрел на него и думал: видать, и у них детей стали в армию забирать. Взгляды их встретились. Немец отвернулся. Следом за ними вошли ещё двое, судя по шитью на погонах, тоже офицеры, но рангом, видать, пониже пожилого. Один из вошедших что-то спросил немца, который их конвоировал. Тот долго рассказывал. Потом указал на младшего лейтенанта Нелюбина, дёрнул его за петлицу. Немцы некоторое время молча смотрели на его руки. Видать, конвоир рассказал им про гранату, догадался Нелюбин.
– Ну что, младший лейтенант, закурим? – вдруг заговорил один из офицеров и вытащил портсигар.
Нелюбин успел разглядеть тот портсигар. Узкий, вполовину меньше обычного солдатского и, должно быть, серебряный. На крышке, которую не то этот самый немец, не то русский ловко открыл перед ним, была выгравирована Спасская башня Кремля и надпись: «Москва». Что ж, раз дают покурить, надо воспользоваться, подумал Нелюбин. Содержимое их карманов, в том числе и кисеты с табаком, немцы очистили ещё в лесу. Он собрал все свои силы, прицелился и, удерживая дрожь в руке, взял не одну, а сразу две сигареты. Одну тут же передал сержанту Григорьеву, стоявшему рядом.
– Курите, курите, младший лейтенант, – офицер снял фуражку, бросил её на топчан, застланный красноармейскими шинелями. – И приготовьтесь ответить на некоторые вопросы, которые вам задаст господин полковник. Отвечать советую точно, по возможности кратко.
После допроса их погнали дальше в тыл. Уже вечерело, когда они увидели впереди наполовину выгоревшую деревню. Печные трубы, как аисты, стояли вдоль дороги. Другая сторона уцелела. В огородах, прикрытые нарубленными берёзами, стояли танки, средние Т-IV и несколько бронетранспортёров. Возле «гробов» ходил часовой. Вот бы куда закинуть несколько тяжёлых снарядов, подумал Нелюбин, оглядывая огороды, забитые техникой. Он вспомнил офицера, его безупречно подогнанную форму, тщательно начищенные сапоги и узкий серебряный портсигар. Видать, из господ. Русский. Говорит без акцента. Но и по-немецки лопочет без запинки. Обещал, что нас сразу же после допроса накормят. Где там, хорошо, хоть не расстреляли. А то шлёпнули бы где-нибудь в дальней траншее, чтобы через пару часов не завоняли.
Их загнали в приземистый сарай на краю деревни. В сарае пахло овечьим помётом и извёсткой.
– Видать, овчарня до войны была, – сказал сержант Григорьев. Это были первые его слова после леса.
И Нелюбин покосился в его сторону и кивнул:
– Овчарня, она и есть овчарня. Для таких баранов, как мы.
В сарае, на соломе, сваленной в углу, лежали другие пленные, всего человек шесть.
– Смотри-ка, взводный, и Гальченко с Савчуком тут. А мы думали, их убило во время бомбёжки, – Григорьев посмотрел на него так, будто хотел сказать ещё что-то, но понял, что и этого довольно. И Нелюбин всё понял: не зря сержант опять начал называть его взводным. Видать, в себя пришёл. Страх в плену держит человека только в первые минуты, а потом всё постепенно проходит.
– Ты ж вроде от меня отказался. А, Григорьев? – покосился на сержанта Нелюбин.
– Да струхнул я малость, товарищ младший лейтенант. Прости уж за ради Христа.
– Что, прошло?
– Да нет, ещё трясёт.
Гальченко и Савчук ещё три дня назад числились в его взводе.
Теперь они стояли в стороне от других пленных и о чём-то разговаривали, настороженно глядя на вновь прибывших. Своего взводного они узнали сразу. Но виду не подавали и наблюдали за происходящим издали.
Эти два бойца исчезли из его взвода во время ночной бомбёжки. Других потерь в роте не было. Утром немцы, как всегда, контратаковали. Поэтому в суматохе некогда было искать исчезнувший расчёт ПТР. Григорьев доложил, что прямое попадание. Бомба действительно разворочала кусок траншеи. Нашли искорёженную бронебойку и лопнувшую пополам каску. Но, видать, рано списали Савчука и Гальченко по списку безвозвратных потерь. Живые. Стоят, покуривают. Настороженно поглядывают в их сторону. Глаз не опускают, смотрят бодро, даже с нахалинкой.
Григорьев помог взводному добраться до соломы, а сам сел на корточки рядом, привалившись к шершавым брёвнам, обгрызанным овцами и пахнущим овчарней.
– Ну что, Григорьев, – наконец не выдержал один из бронебойщиков, – и ты со взводным – хенде хох?
Григорьев отвернулся. Бронебойщики сдержанно засмеялись.
– Живой-то хоть кто остался? Или весь взвод положили? – снова махнул в их сторону цигаркой Савчук. Первым номером расчёта ПТР был он. Но и младший лейтенант Нелюбин, и сержант Григорьев знали, что горластый и задиристый Савчук послушно ходит под рукой тщедушного и внешне неприметного Гальченко. Взводный знал, что до войны Гальченко работал бухгалтером в какой-то организации по заготовкам. Такие жизнь понимают глубоко. А Савчук – колхозник, такой же, как и большинство бойцов их роты. Вот и теперь Гальченко напряжённо молчал, слушал трёп своего первого номера и наблюдал за младшим лейтенантом и сержантом.
– Что это со взводным? – наконец спросил он Григорьева. – Он вроде как не в себе. Глаза вон заводит.
– Оконтузило малость. Полежать ему надо.
– Да он с рождения, видать, контуженый, – зло ухмыльнулся Савчук. – В атаку нас гонял по два раза на дню.
Нелюбин шевельнулся, поднял тяжёлую голову. Лица Савчука и Гальченко расплывались, терялись в сумеречном пространстве овчарни, но он всё равно узнавал их. Как же их не узнаешь. Больше двух недель в одной траншее. Своего бойца и в аду узнаешь.
– Эй, бронебои, – позвал он, и те сразу затихли. – Я ж вас по форме бэ пэ списал. А вы вон, ёктыть, живые. И табачок курите. Неужто фрицы вам кисеты оставили? Нас вон сразу обобрали. А вам оставили. За какие ж такие заслуги? – Нелюбин, говоря это, пристально смотрел на Гальченко. Всё он сразу понял.
– Навоевались, – заговорил вдруг Гальченко, задетый словами своего бывшего взводного, особенно тем, что Нелюбин говорил с ним как со своим бойцом. – Хватит червей кормить. Комбат на сухом острове со своей блядью из медсанбата спирт жрёт и тушёнкой закусывает, а нас – под пули?.. Небось ни разу с нами в атаку не сходил.
– Мой паёк от твоего, Гальченко, мало чем отличался. И в бою мы рядом были. А что до комбата, так я за него не ответчик. И ты сейчас не перед ним стоишь.
– А я про тебя, взводный, ничего такого и не говорю. Ты свой командирский котелок втихаря не жрал. И от пули не прятался. Это верно. Тебя самого вперёд гнали. А ты нас подгонял. Медальку-то вон тоже имеешь. Тебе её начальнички, видать, именно за это и дали. Что нас не щадил и под пули, как скот, под автоматом гнал.
– Медаль? Мне мою медаль не начальники дали. Медали не начальники выдают, а Родина. Начальники только приказы отдают. Но и эти приказы, какими бы они ни были, тоже исполнять надобно. Я их и исполнял. И вам приказывал исполнять. На то мы и солдаты. А скажи ты мне, Гальченко, учёный человек, тебе-то с Савчуком кто медали выдаст? Или вас пока за ваши заслуги только кисетами наградили? Чего ж вы тогда в рукав курите? Угостите братву табачком!
– Я тебе сейчас, сволочь краснопётая, угощу! – и Савчук, схватив обломок жердины, которой, видать, когда-то, в колхозные времена, закладывались изнутри ворота, кинулся к Нелюбину.
Но его тут же перехватили, сбили на затоптанный пол и некоторое время держали так, пока не нахлебался оскаленным ртом вонючей пыли. Гальченко всё это время, припёртый к столбу двумя танкистами в изодранных на локтях и прожженных комбинезонах, стоял, вытянув худую шею, и не произнёс ни слова.
– Отпустите, сволочи! Ну я вам завтра!.. – вопил Савчук, собирая раздутыми ноздрями рыжую пыль поскотины.
Утром их вывели из овчарни и построили на луговине перед воротами.
Нелюбин уже надёжно держался на ногах. Он шагнул за ворота. После прогорклого, спёртого воздуха замкнутого пространства под низким, набранным из осиновых жердей потолком, заросшим серой паутиной, утренний простор, даже в неволе, показался благодатью. Он с жадным любопытством разглядывал открывшееся перед ним божье утро, как будто стараясь запомнить всё лучшее, что его окружало и что судьба посылала увидеть ещё раз. Сержант Григорьев шёл следом. За ним плелись танкисты и несколько бойцов. Ночью Нелюбин успел поговорить и с ними – все из соседнего батальона, в плен попали два дня назад во время очередной атаки полка. Они были из недавнего пополнения, из маршевой роты, сформированной в Калуге. Такие роты приходили из тыла почти каждый день. И каждый день их посылали на Зайцеву Гору, на колючую проволоку, на минные поля. И каждый день санитарный обоз увозил туда же, в Калугу, в тыл тех, кому повезло выжить, – с перебитыми ногами и осколками под рёбрами.
– Что-то ж, братцы, и сегодня жратвой не пахнет, – вздохнул один из бойцов.
– Сейчас они тебя накормят, – стиснул зубы танкист.
Нелюбин ещё с вечера заприметил его: лет тридцати, широкоскулый, немногословный, ходил по овчарне, будто кот перед прыжком. Танк их был подбит во время позавчерашней атаки. Попали в болото. Механик-водитель дал задний ход, но в это время гусеницу сорвало болванкой. Выскочили, начали выбивать искорёженное звено и натягивать гусеницу, а тут – контратака. Пехота откатилась. Окружили, навалились… Механик-водитель кинулся было к автомату, но его тут же закололи штыком.
Танкисты держались вместе. Верховодил среди них широкоскулый. Под комбинезоном на гимнастёрке виднелись петлицы младшего сержанта. На лбу над левым глазом подсохшая ссадина. Во взгляде его старшина не увидел тоски, которая уже заполнила глаза бойцов. Той же решительной злобой, видать, светились глаза и самого Нелюбина.
В воротах они переглянулись. Танкист кивнул, и крылья его ноздрей заострились, стали тоньше и будто внимательнее. Танкист принюхивался к воле. Но воли за воротами не было.
– Тут, браток, нельзя, – с пониманием шепнул ему Нелюбин. – Видишь, некуда…
– Ладно, подождём, – ответил тот и пошёл вперёд развалистой широкой походкой человека, в котором чувствовалась та внутренняя сила, которая скорее толкнёт на плаху, чем позволит унижение.
Снова появился холёный офицер и снова заговорил по-русски. Голос его звенел – бодрый, как в театре. Он говорил и в такт своим рубленым, видать, хорошо заученным фразам похлопывал загорелой ладонью с узким обручальным кольцом по чёрной массивной кобуре. Кобура оттягивала ремень, и переводчика, видимо, это возбуждало, придавало азарта. Другая его рука была в перчатке.
– Обращаюсь к вам как русский к русским! Смоленский комитет предлагает вам, добровольно сдавшимся в плен германской армии, вступить в русскую роту. Рота формируется для борьбы с большевистскими бандитскими элементами по эту сторону фронта. Гарантируется хорошее питание. Каждый доброволец будет получать ежедневно мяса, жиров, сахара и табака не меньше, чем германский солдат. Кроме того, предусмотрены ежемесячное денежное довольствие и прочие выплаты в зависимости от дисциплинированности, исполнительности и доблести каждого из добровольцев. В самое ближайшее время каждый из вас, кто изъявит желание служить делу новой России, получит оружие. Все будут обмундированы в новую форму со знаками различия Русской освободительной армии. Всем вам будут сохранены звания, которые вы имели в Красной армии. Вчера во время собеседования некоторые из вас уже выразили желание пойти на службу в русскую роту будущей Русской освободительной армии. Ефрейтор Савчук! Рядовой Гальченко! Вы подтверждаете своё первоначальное решение?
– Так точно! – выкрикнули из шеренги бывшие бронебойщики из взвода младшего лейтенанта Нелюбина.
– Можете выйти из строя и встать вот здесь, рядом со мной.
И тотчас оба бывших бронебойщика третьего взвода вышли из строя.
– Надеюсь, вашему примеру последуют другие?
Шеренга шевельнулась и замерла.
– Ну, кто ещё? Деньги, которые будут регулярно зачисляться на ваши личные счета, вы сможете пересылать вашим семьям. Если, конечно, они находятся на территории, освобождённой германской армией от большевиков. Остальные области и города будущей новой России освободите вы сами с оружием в руках! Там ждут вас ваши семьи, жёны и дети как освободителей от большевизма и жидо-коммунизма.
Шеренга стояла, будто окаменев. Офицер хлопнул ладонью по кобуре и выкрикнул:
– Остальные будут отправлены этапом в лагерь для военнопленных в город Рославль, где вам тоже будет хорошо!
И шеренга вновь колыхнулась, загудела разноголосо. Вышли ещё двое – из соседнего батальона. Они затравленно оглядывались то на немецкий конвой, то на офицера-переводчика, то на своих товарищей, оставшихся позади.
– Слыхал, взводный? В лагерь погонят. Хана нам там. Слышь? – Григорьев теребил плечо Нелюбина, вздыхал оторопело и мучительно.
– Иди, если хочешь. Я тебя не держу. Тут каждый за себя.
– И там – неволя, и тут – неволя. А там хоть поживём. Слыхал, даже платить будут?
– За что? За что платить, ты подумал?
– Оружие получим. А там и рванём к своим. В первом же бою перейдём.
– При такой мене дурака в придачу берут. Про такое ты, Григорьев, слыхал?
– Оно так. Но и другая меня не наша. А в Рославле пропадём.
– Не пропадём. До Рославля ещё дорога будет. Несколько дней, несколько ночей, – и Нелюбин крепко сдавил руку Григорьева. – Держись меня и слушайся беспрекословно. Что скажу, то и делай. Как в бою. Понял?
Переводчик начал обходить строй. Остановился возле танкистов.
– Вы! – и он толкнул пальцем в грудь младшего сержанта.
– Младший сержант Петров.
– Где ваш четвёртый член экипажа, младший сержант?
– Погиб смертью храбрых в бою за Родину.
– Похвально, похвально. Я вижу, и вы человек смелый.
– Я жив остался, а механик мой погиб…
– Это хорошо, что вы сохранили свой экипаж. Разрешаю вам переговорить со своими товарищами и персонально предлагаю всем экипажем вступить добровольцами в русскую роту. Вы ведь русские люди, младший сержант?
– Я – русский. Малашенко – украинец. А Николаев – мордвин. Лукашик был белорус. А все мы вместе конечно же русские.
Переводчик дёрнул бровями. Хотел что-то возразить, но передумал, сдержался и кивнул:
– Вот и хорошо. Подумайте. Будете служить в Русской освободительной армии.
– Мы всю ночь думали. Присяга один раз даётся. Вы – офицер. Вы это лучше нас должны знать.
Переводчик усмехнулся и пошёл дальше. Остановился напротив Нелюбина.
– Вы!
– Командир стрелкового взвода младший лейтенант Нелюбин.
– У нас вы получите чин подпоручика и хорошее жалованье.
– Благодарствую. Я – командир Красной армии. Не к лицу мне присяге изменять. Присяга, господин хороший, – не баба. Да и годов мне порядочно. В такие-то годы и бабу стыдно обманывать.
Шеренга загудела иным гудом. Переводчик тоже сдержанно засмеялся.
– Вы не теряете чувства юмора даже в таких непростых для вас обстоятельствах. Вдвойне похвально. У нас вы будете офицером. И тоже командиром.
– Эх, ваше благородие! Когда в одно ухо два ветра дуют… Ветрам-то, им что? Дуют и дуют себе. А голове – беда.
Когда добровольцам скомандовали «направо», старшина сказал бронебойщикам:
– Ну, ребята, теперь у вас уж точно пайка сытнее моей будет!
– Сталин теперь тебя накормит!.. – услышал он в спину. Кричал Савчук. Гальченко конечно же промолчал.
Оставшихся перестроили в колонну по три и погнали по просёлку на юго-запад. Солнце поднималось, напаривало. Хотелось пить. Снова заныло в затылке. Нелюбин вспомнил слова Маковицкой: контузия быстро не проходит и может сказаться месяцы, а то и годы спустя. Эх, какие уж тут месяцы?..
Часа через полтора вышли к шоссе и повернули на запад.
– Варшавка, – сказал скуластый танкист, с которым Нелюбин и Григорьев попали в одну шеренгу.
И Нелюбин посмотрел на него, потому что слова танкиста явно означали больше, чем тот сказал.
Конвоиров было двое. Один шёл впереди, другой – замыкающим. Вскоре, когда они проходили какую-то полуразбитую деревню, к их колонне присоединили ещё шестерых пленных. Выглядели они совсем неважно. Обросшие, грязные, бледные, оголодавшие. Одеты в тряпьё, в котором почти не угадывалась красноармейская форма. Вместо сапог и ботинок обуты кто в опорки из шинельного сукна, кто в обрезанные красноармейские валенки, подвязанные проволокой. И где они раздобыли те валенки? Нелюбин и танкист снова переглянулись, когда поняли, что конвой с увеличением колонны остался прежним. В той же деревне конвоирам передали повозку. Гнедой конь, как видно кавалерийской выучки, тащил широкую телегу на железных осях. В телеге лежали двое раненых. Нелюбин успел разглядеть лежавшего спереди – пожилой артиллерист, вроде капитан. А может, даже и майор. В петлицах – шпалы. Сколько, не разглядел.
Один из пленных жестами начал уговаривать конвоира, чтобы тот позволил ему сесть на телегу.
– Nein, – сказал конвоир и оттолкнул пленного от повозки.
Тот снова подошёл и указал на ногу. Под разодранной штаниной виднелась грязная повязка. Из-под повязки багровыми сгустками сочилась сукровица. Пленный, конечно, понимал, что в таком состоянии он до Рославля не дойдёт. О том, что будет с отстающими, их уже предупредили.
– Пан солдат, разреши ему ехать, – начали просить за раненого его товарищи.
– Плохой он, пан солдат.
– Кранк. Посмотрите на его ногу.
– Не дойдёт же…
– Пожалейте, пан солдат.
Конвоир, видимо, понимал немного по-русски.
– Никт дойдёт? Никт дойдёт? – закричал он и сдёрнул с плеча винтовку. – Дойдёт! Карашо дойдёт!
– Дойдёт, дойдёт, – замахали руками пленные и затолкали раненого в середину колонны.
Шли медленно. Впереди похрустывали на камнях железные обода телеги. Конвоиры через каждый километр менялись. При этом один из них шёл замыкающим и видел всё, что происходило на дороге.
Однажды им встретилась войсковая колонна. Она двигалась к фронту. Кони, запряжённые парами, тащили просторные фуры, выкрашенные в болотно-зелёный цвет. Конвой снова начал окриками и прикладами теснить пленных к обочине. Немецкие пехотинцы с любопытством смотрели на них из-под запылённых кепи. Некоторые, привстав в телегах, прицеливались в пленных, выбирая то одного из них, то другого.
– Пуф, Иван! Пуф!
Немцы весело гоготали. Горячий пыльный воздух над дорогой так и колыхало здоровыми, не знающими ещё никакого горя голосами. А другая колонна тем временем молчала, провожая встречных угрюмыми взглядами.
– Под Зайцеву Гору пошли, – заговорили в колонне, оглядываясь на последнюю фуру, на которой лежали пулемёты и какие-то ящики, тоже выкрашенные в зелёный цвет.
– На усиление.
– Маршевые…
– Ишь, весёлые какие.
– Ничего, под Зайцевой и им лапти сплетут…
– Мы туда, к той проклятой горе, тоже весёлые шли, с гармошкой.
А Нелюбин подумал вот о чём: немцы едут на телегах, значит, не может Гитлер все свои войска обеспечить машинами. И танков у них поменьше стало, чем зимой. Тогда вон какой силой пёрли! И где теперь их танки? Он-то знал: под Иневкой да под Малыми Семёнычами. Под Наро-Фоминском да под Вязьмой. Вот где они свои танки растеряли.
В другой раз их догнал санитарный обоз. Тоже на телегах. Немцы вывозили в тыл своих раненых. Вот тут повеселело на душе и у Нелюбина, и у других пленных. А танкист, проводив цепким взглядом холодных голубых глаз очередную подводу, подхохотнул зло и тихо процедил сквозь стиснутые зубы:
– Это, братцы, называется: сходили на танцы в чужую деревню…
Понял ли что конвоир, или понял по-своему, но ехавший впереди немец вдруг соскочил с телеги и пошёл гулять прикладом – по головам, по плечам, по выброшенным вперёд рукам. Не понравилось.
– Тебя как зовут, танкист?
– Демьяном, – ответил тот, трогая свою засохшую ссадину над глазом. – А ты разве не слышал, как меня мои ребята окликают?
– Слышал. А теперь от тебя самого услышал. А меня – Кондратом.
– Ну и что, Кондрат, ты мне хорошего скажешь? – скосил цепкий взгляд Демьян.
– Да ничего пока.
– То-то и оно-то, что половина колонны уже никуда не побежит. А некоторые действительно верят, что в Рославле их гречкой с маслом сливочным кормить будут. А что мы им, Кондрат, можем предложить против котелка горячей гречки на сливочном масле?
– Да я бы и сам сейчас хорошенько присел возле такого котелка.
– Какая ж живая душа такому не возрадуется?
Прошли ещё километр. Километры Нелюбин считал по сменам конвоиров на телеге.
Солнце палило над дорогой, мучило жаждой и без того выбившуюся из сил колонну. И когда впереди, в лощине, в ольхах, блеснул ручей, пленные, сгрудившись и сбивая шаг, инстинктивно шатнулись всей своей зыбучей массой к обочине. Конвоиры сразу всё поняли.
– Steht! Стоять! – скомандовал старший конвоир.
Немцы о чём-то переговорили. Второй конвоир взял у старшего фляжку, отстегнул от ремня свою и спустился с насыпи вниз, к ручью.
– Ну, Григорьев, приготовься…
– Давай, взводный, сперва напьёмся. А так сил никаких нет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?