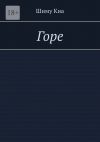Текст книги "История смерти. Как мы боремся и принимаем"

Автор книги: Сергей Мохов
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Причины популярности биологического понимания горя в XX веке
Концепция горевания как физиологической реакции организма на утрату сформировалась благодаря особому культурному и социальному контексту. Уже упомянутые эволюционизм и утилитаризм стали ее философскими столпами, но были и другие факторы.
На ученых, сделавших вклад в развитие этой концепции, не могли не влиять ужасы Первой мировой войны: использование оружия массового поражения (в том числе химического и газового) и невиданное до тех пор вовлечение мирного населения в военные действия – со смертью и разрушениями столкнулись буквально в каждом доме. Свою роль сыграло активное развитие фотографии и распространенность документальной съемки: поля битв и жертвы сражений стали видимы[18]18
А также активное развитие фотографии и ее доступности, сделавшее поле битвы и жертв наглядным примером для жителей больших городов.
[Закрыть]. Психиатры, в частности Фрейд, изучавшие бывших солдат или родственников погибших, выявили множество тяжелых состояний. Но главной целью врачей было вернуть солдат к нормальной жизни – насколько это возможно. Впрочем, через 20 с небольшим лет – совсем небольшой срок по меркам исторического процесса – на старые раны вновь сыпется соль: люди столкнулись с потрясениями Второй мировой войны, холокоста и последствиями применения атомного оружия. Это навсегда изменило человечество.
Врачам и ученым потребовались новые интерпретации. Было очевидно, что в новой концепции горя должен быть предусмотрен сам механизм переживания, исправления последствий. Психоаналитический взгляд на горе как на эмоцию, которую, проработав (сделав выводы), можно обратить себе на пользу, позволил переосмыслить болезненное наследие. Неудивительно, что именно после Второй мировой войны публичные интеллектуалы и политики стали часто оперировать категориями «травма», «стыд» и «вина»[19]19
Suleiman, S. R. Crisis of memory and the second world war. Cambridge, MA; L.: Harvard University Press, 2006.
[Закрыть]. Главная работа того времени – «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии», написанная в 1946 году немецким философом Карлом Ясперсом, которая и дала мощный старт публичному обсуждению вины за преступления нацизма и ввела основные категории в общественную дискуссию.
Горе быстро переплелось с новыми понятиями «коллективной травмы» и «исторической памяти». Словно по Кюблер-Росс, общественное переживание ужасов мировой войны последовательно проходило стадии отрицания, торга и принятия. Характерен пример психоаналитика Виктора Франкла, который пережил концлагерь и столкнулся с каждодневными утратами, а в 1945 году выпустил основанную на своем переработанном опыте книгу «Сказать жизни „Да!“. Психолог в концлагере».
Еще один яркий пример стадиальности – публичная дискуссия в Германии. В 1950-е военная агрессия нацистов рассматривалась исключительно как продукт коварства гитлеровского режима: хитрым эсэсовцам удалось обмануть целый народ, немецкое общество предстало жертвой политического строя. Позднее, благодаря усилиям немецких социал-демократов, позиция отрицания сменилась комплексом вины за холокост и преступления нацизма. В начале 1980-х, в результате титанических усилий федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля по регулированию общественных дискуссий, немецкое общество наконец приняло свое прошлое как опыт, который невозможно изменить, но стоит учитывать в будущем. Программным документом Коля стала новая партийная программа, в которой провозглашался принцип «достижения свободы и единства для всего немецкого народа». Произошло «оздоровление» нации. Эта трансформация убедила всех в правильности подхода к гореванию, который можно сформулировать как «мы должны сделать выводы и жить дальше». На нём строятся и современные исследования исторической памяти, исходящие из необходимости прожить утрату, отгоревать и проработать травму.
В этом контексте любопытен советский опыт. СССР победил в войне, но пострадал от разрушений и колоссальных людских потерь, так что в советском мире горе было естественным элементом повседневности, а не болезнью. Его вписали в идеологию советского человека формулой «наши потери стали нашей победой». Проявлялась она, в частности, в публичных практиках скорби: советская культура не воспринимала горе как процесс постепенного принятия утраты, она буквально сконструировала себя через трагедию. Горе – это кризисный момент, момент героизма и установления последней правды, то, что формирует национальное «мы». Никто не стремился забыть ужасы и потери Великой Отечественной – их постоянно вспоминали, переживали вновь и вновь; а еще они стали примером того, что может случиться очень скоро – если страхи холодной войны и ядерная угроза материализуются в реальности.
Возможно, одной из причин подобного отношения к горю было отсутствие самого дискурса травмы и понимания горевания как стадиального процесса – не важно, индивида или целого общества. Советскую школу психоанализа, которая активно формировалась в 1920-х, уже в 1930-х постигла та же участь, что и многие другие идеи в сталинское время, – она оказалась под запретом[20]20
Miller, M. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven: Yale University Press, 1998.
[Закрыть]. Сабина Шпильрейн, ученица Карла Юнга и Зигмунда Фрейда, которая продолжала свою научную работу в СССР после отъезда из Европы, трагически погибла во время Великой Отечественной войны[21]21
К идее влечения к смерти (все люди подсознательно стремятся не только к созиданию, но и к деструкции) положительно отнеслись психологи Лев Выготский и Александр Лурия, которые написали предисловие к русскому переводу работы Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Однако в 1930-х советская школа психоанализа подверглась гонениям со стороны сталинского режима, и дальнейшего развития этих идей в советской культуре не произошло.
[Закрыть].
После войны прикладное психологическое консультирование, то есть помощь при ментальных расстройствах, стало ассоциироваться с карательной психиатрией, борьбой с инакомыслием с помощью димедрола, электрошока и изоляции в больницах лагерного типа. Никите Хрущеву даже приписывается фраза: «Против социализма может выступать только сумасшедший»[22]22
Как лечить инакомыслящих. URL: https://arzamas.academy/materials/1168.
[Закрыть]. Уже после распада СССР психологическое консультирование расцвело в форме эзотерического знания: на улицах городов появились тысячи гадалок и ясновидящих, выполнявших прикладную функцию помощи населению. Первые англоязычные работы по психологии начали переводить в 1990-х – например, все ту же Кюблер-Росс. В рамках постсоветской школы психоанализа появляются и оригинальные стадиальные концепции горя; среди них – фазы острого горя психотерапевта Федора Василюка (шок и оцепенение, фаза поиска, фаза острого горя, фаза остаточных толчков и реорганизации, фаза завершения). Но по-настоящему широкая публичная дискуссия вокруг темы горя возникла только в последние несколько лет.
Таким образом, в современном мире горе изучается и публично репрезентируется как психологический и биологический феномен, естественная реакция человеческого мозга на утрату привычной связи с каким-либо объектом. Эти болезненные реакции требуют обязательного прекращения или вмешательства специалистов со стороны. При этом социальные исследователи справедливо отмечают роль культурного контекста, в котором находится тот, кто переживает ситуацию горя, и полагают, что горе не так однородно и биологично, как мы привыкли думать. Этот парадокс убеждает в том, что тезис о необходимости переживания горя – всего лишь идеологема, пусть и весьма распространенная и активно поддерживаемая. Настолько, что кажется нам объективной истиной.
Но является ли горе болезнью на самом деле?
Горе как часть культуры
Биологизаторская интерпретация обнаружила несколько слабых мест в концепции «горя как болезни». Так, не очень понятно, что именно заставляет мозг (и заставляет ли) переживать стресс от утраты – изначально заложенное природой желание обладать объектами или что-то другое? Очевидно, что речь в этом контексте идет об оценках события, причинившего горе, а оценка всегда детерминирована социумом и культурой, в которой это происходит. Мозг не знает, как реагировать на потерю, если ценность и значение теряемого объекта не определены. Следовательно, изучение феномена горя стоит перевести в контекст оценки критериев болезненности утраты. Важно разобраться, почему одно событие способно травмировать индивида, а другое – нет.
Как отмечает социолог Норберт Элиас, в широком смысле эмоции имеют сразу несколько составляющих – и физиологическую, и соматическую, и культурную. При этом не до конца ясно, в каком соотношении и подчинении они находятся между собой и какая из составляющих наиболее влиятельна[23]23
Elias, N. On human beings and their emotions: A process-sociological essay // The body: Social process and cultural theory / ed. by M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner. London: Sage, 1991. P. 103–125.
[Закрыть]. Следовательно, не совсем понятно, какая реакция на горе является нормой: плач, смех, сдержанная грусть? Существует ли эта норма в принципе? И есть ли связь между выражением эмоций и реальным их переживанием?
Мой собственный опыт подтверждает: если человек причитает и бьется в истерике, это вовсе не значит, что он переживает всю гамму негативных чувств. Об этом же писал британский антрополог Альфред Рэдклифф-Браун, своими исследованиями обративший внимание на значение эмоций в ритуальной жизни человека. Рэдклифф-Браун пытается ответить на вопрос, почему люди плачут не только на похоронах, но и в другие важные моменты: например, во время ритуала инициации мальчиков или ухода невесты из родительского дома. Он приходит к мнению, что выражение эмоций в виде плача – вполне контролируемый акт, и поэтому не в полной мере принадлежит сфере эмоционального. Плач регламентирован: например, когда мертвое тело выносят из дома, ритуал предписывает его усиление. Таким образом, Рэдклифф-Браун призывает разделять собственно эмоции (например, грусть и скорбь) как некоторые биологические переменные и способы их выражения. По мнению исследователя, не эмоции рождают ритуал и его форму, а ритуал и его функции задают необходимый эмоциональный настрой, формы выражения которого, в свою очередь, строго регламентированы культурой (плакать, например, можно тихо всхлипывая, в японской традиционной культуре, или в голос причитая, как в русской традиционной культуре). В понимании Рэдклифф-Брауна плач – один из способов передачи нужного эмоционального состояния, своего рода обряд и инструмент проведения границ между разными группами, участвующими в ритуале. То, как ты выражаешь или контролируешь эмоции, указывает на твой статус. В качестве примера Рэдклифф-Браун приводил ритуал инициации, в ходе которого мальчик должен съесть черепаху. Женщины племени тем временем интенсивно плачут и пытаются разжалобить инициируемого. Рэдклифф-Браун отмечает, что мальчик ни в коем случае не должен поддаваться на слезы, ведь его задача – продемонстрировать ожидаемые от мужчины стойкость, хладнокровие и независимость.
Другие исследователи уверены: несмотря на общепринятое мнение о том, что выражать эмоции, связанные с горем, хорошо и правильно, культурные нормы могут допускать и более сдержанное осознание утраты. Так, американский антрополог Нэнси Шепер-Хьюз в своем классическом исследовании не-оплакивания смертей младенцев в Бразилии отмечает, что слишком широкая распространенность потерь в этом сообществе ослабляет связи между людьми, заставляя их реагировать на смерть почти безразлично: «Хотя у меня нет сомнений (и я достаточно хорошо показала это), что местная культура организована так, чтобы защитить женщин от психологически разрушительного характера скорби, я полагаю, что культура здесь весьма преуспела, и мы можем воспринимать слова этих женщин именно так, как они есть, когда они говорят: „Нет, я не чувствовала скорби. Смерть ребенка была благословением“»[24]24
Выборочная часть из книги Шепер-Хьюз переведена и опубликована в журнале «Археология русской смерти», т. 6 Тема номера: «Смерть и технологии».
[Закрыть]. Своей работой Нэнси Шепер-Хьюз обратила внимание на то, что горе не универсально.
К схожим выводам приходят и исследователи, изучающие отношение к смерти в эпоху разрушительных войн и массовых эпидемий. Очевидно, что тотальность и крайне широкая распространенность смерти способны снижать эмоциональную чувствительность к потерям, в том числе близких людей[25]25
Thompson, J. Psychological Aspects of Nuclear War. Leicester: British Psychological Society, 1985.
[Закрыть]. Например, в блокадном Ленинграде, насквозь пропитанном ежеминутной борьбой за выживание, горе часто смешивалось с ненавистью и становилось повседневностью. В дневнике молодого врача Израиля Назимова, который в годы блокады был главой здравотдела Кировского района Ленинграда, это описывается так: «Когда говорят, что человека постигло то или иное горе, то в прошлом это понятие ассоциировалось с тяжкими переживаниями. Горе – это тяжелые моральные страдания. Теперь же тяжесть страданий настолько велика, что, применяя термин „горе“, не отражаешь в нем всей сути, всей глубины исключительных по своему характеру, разнообразию переживаний, посеянных войной»[26]26
Ленинградцы. Блокадные дневники: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады. Лениздат, 2014.
[Закрыть].
Примером горевания, притупленного контекстом, может быть и описание быта советских рабочих и крестьян в 1920-х в романе-дневнике «Голод» пролетарского писателя Сергея Семенова. Автор рисует ужасающую картину притупления привычных человеческих эмоций перед лицом постоянного голода. Отец готов не просто объедать родных детей, но даже совсем лишать их пищи, а гибель близких кажется не горем, а избавлением от лишнего рта. Схожие дегуманизирующие примеры мы находим и у Андрея Платонова в его повести о деревенской жизни «Происхождение мастера»: «Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак – один отряд пошел побираться к Киеву, другой – на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору – и одичали. Ушли почти одни взрослые – дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать. Была одна старуха – Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала: „Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!“ Игнатьевна стояла тут же: „Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает…“ Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли. „Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, – нечего больше дать. Спасибо тебе“. Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила: „Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношоная-переношоная; прибавь хоть платочек аль утюжок подари“…» Описанное совсем не похоже на наше представление о «правильном» переживании горя, но возьмемся ли мы осуждать героев?
Антропологи замечают: реакция на утрату не только может меняться в связи с историческим контекстом, как вынужденная мера адаптации, но и изначально быть другой. Например, по-разному горюют представители разных социальных классов, люди с разным образованием и гендерной самоидентификацией. Вдовы, как правило, переживают утрату острее, чем вдовцы, а люди старшего пенсионного возраста и низкого социального статуса справляются с горем хуже, чем более молодые и обеспеченные[27]27
Tomarken, A. et al. Factors of complicated grief pre-death in caregivers of cancer patients // Psychooncology. 2008. № 17(2). С. 105–111.
Doorn, C. van et al. The influence of marital quality and attachment styles on traumatic grief and depressive symptoms // The Journal of Nervous and Mental Disease. 1998. № 186(9). С. 566–573.
Stroebe, W., Schut, H. Risk factors in bereavement outcome: a methodological and empirical review // Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping, and Care / ed. by M.S. Stroebe et al. Washington, DC: American Psychological Association, 2001. С. 349–371.
Neimeyer, R.A. Lessons of Loss: A Guide to Coping. New York: McGraw-Hill, 1998.
[Закрыть]. Кроме того, интенсивность переживания меняется в зависимости от объекта утраты. В повседневных разговорах мы часто ссылаемся на разные представления о ценности человеческой жизни: одних людей мы жалеем больше, чем других, и поэтому их смерть нам кажется более несправедливой или несвоевременной. Так, смерть старого человека более логична, а значит, не так оплакиваема, как смерть ребенка.
Таким образом, одна из главных проблем психобиологизаторства, то есть объяснения горевания исключительно естественными причинами, – невозможность провести четкие границы между эмоциями индивида и нормами социума, в котором он существует. Перечисленные примеры доказывают, что скорбь не универсальна, а «горе как болезнь» – продукт западной культуры, в которой сформировалась особая научная парадигма. Теперь, разобравшись с тем, как исторически сложилось современное понимание горя, давайте попробуем понять, что значит «горевать» в наши дни.
Горе и скорбь в XXI веке. Медикализация, индивидуализация и феминизм
За свою долгую писательскую карьеру Лев Толстой рассказал о самых разных смертях, начиная с трагического самоубийства Анны Карениной и героической кончины князя Андрея Болконского и заканчивая мучительной смертью пожилого чиновника Ивана Ильича от неизвестной болезни. И если смерти молодых Карениной и Болконского меланхолично-романтичны и вызывают у читателей глубокое сострадание, то смерть старого чиновника провоцирует скорее отвращение и страх. При этом разница не только в сюжетном контексте или символическом значении этих смертей. Толстой фантастически точно описал принципиально разные формы смерти, характерные для разных эпох. Смерть молодых героев – то, чем живет общество весь XIX век. Героическому самопожертвованию сопутствует меланхоличное чувство утраты. Пожертвование воспевается в национальных балладах, стихах и картинах. Смерть же заурядного стареющего Ивана Ильича от непонятной боли в боку – то, чем общество XIX века восторгаться не может. Это смерть неинтересная и даже глупая. «Плохое умирание» Ивана Ильича выглядит как вызов «хорошей смерти», воспеваемой XIX веком. Я бы сказал, что кончина Ивана Ильича – это пролог к тому, как умирает человек современности[28]28
Furedi, F. Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. London: Routledge, 2004.
[Закрыть].

Дафна Тодд. «Последний портрет моей матери» («Last Portrait of Mother», 2010).
Среднестатистическая смерть человека в XXI веке действительно чаще напоминает кончину старого провинциального бюрократа, чем гибель молодого князя. Всё чаще люди умирают в пожилом возрасте, страдая от деменции и других ментальных расстройств, – немощные, обмоченные, слабо отдающие себе отчет в том, что с ними происходит. Именно так изображает свою мать современная художница Дафна Тодд: с полотна «Последний портрет моей матери» (2010) на нас смотрит ссохшаяся старуха, изъеденная физической болью и ментальными страданиями, лежащая на больничной койке. Такой смертью тяжело восхищаться. Более того, тяжело скорбеть о таком покойном, искренне воспевая его жизнь и горько оплакивая кончину в эпитафиях. Смерть близкого становится не просто неконтролируемым медицинским явлением, но и крайне неэстетичным и довольно продолжительным действом: мы наблюдаем, как постепенно разрушается привычный образ любимого человека. Зачастую его кончина – ожидаемое событие, к которому готовятся и которое планируют. Растянутое во времени умирание позволяет легче адаптироваться к происходящему: даже жена Ивана Ильича в какой-то момент начинает желать смерти мужа, превратившегося в сварливого склочного старика, измученного болью в боку.
Главное изменение горя в XXI веке заключается в смещении акцента с коллективных ритуалов на индивидуальные практики скорби. Если в традиционном обществе функцией горевания было переориентировать коллектив под новую реальность, то сегодня в центре внимания – личностные механизмы и вопрос о том, что испытывает конкретный человек. За счет тренда на индивидуализм и позитивное отношение к жизни горе стало актуальной проблемой. «Вы что-то чувствуете в связи со смертью близкого? Давайте поговорим об этом!» – призывают психоаналитики. Следующий шаг в этой логике – осознать проблему. Ну а потом с этой проблемой – то есть с горем – предстоит работать, то есть бороться. Отказ от позитивной осознанности горя не рассматривается[29]29
Само горе, начиная с XIX века, превратилось в телесно-ориентированное переживание, проявление ментально-физиологического расстройства. Последователи Кюблер-Росс и Фрейда акцентируют внимание на том, как именно тело реагирует на горе: головная боль, злость, истерики. И все эти проявления телесности маркируются как негативные. Один из самых ярых критиков современной медицинской системы, философ Иван Иллич, в своей книге «Возмездие медицины» отмечает, что подобное положение дел как бы отказывает боли, страданию и другим важным частям нашей культуры в праве быть пережитыми, стать важной частью телесного опыта. Такие признаки, отмечает Иллич, всегда стремятся купировать или подчинить волевой сфере.
[Закрыть].
Многие исследователи, изучая успех персональной психотерапии в западной культуре, ссылаются на важную роль института исповеди в его формировании[30]30
Worthen, V. Psychotherapy and Catholic Confession // Journal of Religion and Health. 1974. № 13(4). С. 275–284.
Kadar, D.Z., Ning, P., Ran, Y. Public ritual apology – A case study of Chinese // Discourse, Context & Media. 2018. № 26. С. 21–31.
[Закрыть]. Исповедальный жанр не просто создал «индивида», но и обучил западного человека говорить о себе. Впоследствии этот процесс зашел еще дальше: горе из нарративного акта превратилось в публичную демонстрацию эмоций[31]31
Горе стало публичным, как и сама смерть. Характерен пример ныне покойной певицы Жанны Фриске, которой средства на операцию на головном мозге собирали с помощью цикла ток-шоу «Пусть говорят». Похожая история развернулась и вокруг болезни актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк: в августе 2019 года в прессе появились сообщения о том, что она больна раком головного мозга; за последние полгода вышло более десятка крупных репортажей и интервью с родственниками и друзьями актрисы о ее состоянии.
[Закрыть] и поиск способов их оптимизировать. Всё это сближает опыт переживания горя с жанром рефлексивной биографии с элементами игрового квеста, где от героя требуется смекалка, чтобы пережить происходящее. Тони Уолтер, социолог и профессор университета Бас, полагает, что современное переживание горя стало частью «культуры успешных людей», которые всегда делятся друг с другом советами, лайфхаками и счастливыми историями[32]32
Walter, T. A new model of grief: Bereavement and biography // Mortality. 1996. № 1(1). С. 7–25.
[Закрыть]. Горе – уже не болезнь, а своего рода челлендж, и в интернете можно найти тысячи списков с советами, как его выполнить[33]33
Примеры: https://www.lifehack.org/536736/13-ways-handle-grief-after-the-loss-loved-one и https://whatsyourgrief.com/64-tips-for-coping-with-forgetfulness-in-grief/.
[Закрыть], и личных историй людей, успешно с ним справившихся. Один из популярных роликов на TED, ресурсе с видеозаписями мотивирующих выступлений, посвящен истории эффективного преодоления горя от писательницы Норы Макинерни: она учит не стесняться своих эмоций и принимать себя[34]34
We don't «move on» from grief. We move forward with it. URL: https://www.ted.com/talks/nora_mcinerny_we_don_t_move_on_from_grief_we_move_forward_with_it.
[Закрыть].
Еще один характерный пример публичного переживания горя – история инстаграм-инфлюэнсера Екатерины Диденко, которая стала популярна благодаря обзорам на аптеки. В феврале 2020 года Екатерина праздновала свое 29-летие в сауне. Ее муж ради забавы засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда и вместе с гостями праздника прыгнул в воду. Из-за химической реакции Валентин и еще двое гостей получили отек легких и погибли. В последующие недели Диденко вела многочасовые прямые инстаграм-эфиры, рассказывая подписчикам о своем горе и процессе похорон, брала интервью у своей матери и свекрови, делала постановочные фотографии о своих чувствах: например, снималась у подоконника, взяв на руки своих детей, демонстрируя, что близка к суициду. Аккаунту молодой вдовы случившееся уже принесло 500 тысяч новых подписчиков.
Если раньше инфраструктура смерти была целиком сосредоточена на манипуляциях с мертвым телом, то сегодня всё большее значение приобретают процесс умирания с одной стороны и ритуалы памятования – с другой. Появляются всевозможные клубы единомышленников и группы поддержки, консультационные центры, блоги и порталы, где посетителям предлагаются сотни способов «работы с горем». Выпускаются учебные пособия, книги и даже детские передачи и игры о том, как переживать утрату[35]35
Davies, B. Long-term outcomes of adolescent sibling bereavement // Journal of Adolescent Research. 1991. № 6(1). С. 70–82.
Masten, A., Best, K., Garmezy, N. Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity // Development and Psychopathology. 1990. № 2. С. 425–444.
Tyson-Rawson, K. Bereavement in adolescence // Handbook of adolescent death and bereavement / ed. by C. A. Corr, D. E. Balk. New York: Springer Publishing, 1996. С. 312–328.
[Закрыть]. Вот как описывают суть своего подхода авторы детской психологической программы Seasons of growth: «Грусть и скорбь – не болезнь, их не нужно лечить. Мы здесь не для того, чтобы жалеть друг друга. Здоровое общество – это когда любая утрата воспринимается его членами как естественная и нормальная часть жизни. Наша задача – научить наших детей справляться с трудностями, быть гибкими и быстро адаптироваться». В одном из игровых упражнений программы участникам предлагается создать собственный «куб эмоций». Каждая из сторон фигуры отражает какую-то эмоцию: грусть, радость, печаль, гордость. Дети кидают кубик, а потом рассказывают друг другу истории из жизни, с которыми у них ассоциируется выпавшее чувство. В паузах ведущий игры объясняет, как эмоции могут сменять друг друга, почему это нормально и что за грустью обязательно последует радость. Еще одно упражнение: каждый из участников клуба по очереди придумывает строчку для песни, которая начинается со слов «Я повелитель…» и продолжается названием одной из эмоций. Чувственность и эмоциональность, таким образом, становятся инструментами выражения собственной субъектности, индивидуальности.
Это позволяет превратить горе в товар. Одним из первых примеров, подсветивших этот тренд, стала смерть принцессы Дианы. Почти сразу после ее трагической гибели появилось множество предложений для горюющих: почтить память народной любимицы можно было, продемонстрировав куклу, тарелку, магнит, фотографию, футболку, открытку или кулон с изображением принцессы. Смерть и связанная с ней горечь утраты стали причинами всплеска интереса ко многим знаменитостям. После смерти Майкла Джексона, Эми Уайнхаус и целой плеяды рэперов (Лил Пипа, XXXTentacion) продажи их музыки выросли в несколько раз. Также после смерти кинозвезд и музыкантов выходят фильмы воспоминаний о них и ток-шоу на главных каналах. Рэпер Децл посмертно получил несколько музыкальных наград (премии Муз-ТВ и «ЖАРА Music Awards»), а через несколько месяцев после его кончины состоялась премьера двухчасового документального фильма «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого». Технологии позволяют даже устраивать памятные концерты с участием покойников: например, мертвый лидер панк-группы «Король и шут» Михаил Горшенев по кличке Горшок отправился вместе с командой в собственное траурное турне в качестве трехмерной голограммы.
Еще одна трансформация последних лет – профессионализация горя. На место традиционных плакальщиц пришли серьезные специалисты: причем не психологи широкого профиля, а узконаправленные консультанты в области горя и утраты. Большинство из этих профессионалов – женщины; более того, многие активно пропагандируют феминистские взгляды на эмоции. Эмоциям приписывается важная культурная и социальная роль, чувства провозглашаются значимым проявлением каждого человека, которого не следует стесняться и которое не нужно заключать в рамки общепризнанных ритуалов или религиозных практик. Более того, чувства следует культивировать, взращивать в себе, уделять им достаточное внимание. Феминистское отношение к горю противопоставляется сухому и черствому патриархальному взгляду на мир, в котором горе – это женская прерогатива. Феминистка и одна из активисток движения за осознанное отношение к смерти Сара Чавез полагает, что сегодня смерть и горе подчинены патриархальному устройству мира, лишены искренних и спонтанных эмоций, и поэтому горе должно вернуться в руки женщин. «Горя не нужно стесняться, заявляйте о нем громко!», – говорит она в одном из интервью[36]36
Интервью Сары Чавез: Sarah Chavez on Death Positivity, Grief, & Intersectional Feminism. URL: http://www.lunalunamagazine.com/dark/sarah-chavez-death-positivity-feminism.
[Закрыть].
Но публичность горевания оборачивается и новыми проблемами.