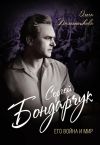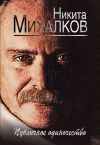Текст книги "Далёкие милые были"

Автор книги: Сергей Никоненко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
В декабре письмо от Пети: написал, что без его вызова нам с Серёнькой в Москву не попасть – город на особом военном положении. Посоветовал по возможности продвигаться ближе к Москве, лучше всего в Иваньково[2]2
Ныне Дубна.
[Закрыть], на Большую Волгу, там сестра его родная Варя и жена родного брата Андрея – Соня. Соня директором школы номер один работает – заменила ушедшего на фронт мужа.
В декабре мороз прибавил, а надежда стала оттаивать – опять наши верх стали брать, и у Левитана в голосе победные звуки появились. На Новый год маленькую ёлочку на подоконник поставили, Светочка из разноцветных бумажек малюсенькие игрушечки вырезала и нарядила ёлочку, даже звёздочку на макушку смастерила. Тося, бригадирша, пришла, само собой, с гармошкой, принесла кастрюлю, завернутую в одеяло:
– Не гусь рождественский, а не хуже, думаю, тетёрка будет.
А картошка горячая! Да с капустой! Поллитровку самогона где-то раздобыла. Пир! Проводили тяжёлый сорок второй, встретили сорок третий:
– За ПОБЕДУ! За то, чтобы мужики наши живыми вернулись!
Песни пели. Очень нравилось Тосе, как Светочка под её гармошку поёт.
Мы с Тиной пошли провожать Тосю. Снег хлопьями лениво падает. Тишина – прямо мирная жизнь. Тося рванула гармошку: «Когда б имел златые горы…» Тина и я подпевали. Вдруг из соседнего барака с визгами прямо на нас выскакивает женщина в одном платье, за ней мужик хромой с дубиной суковатой, орёт:
– Я те враз… глаз… на анализ!
Я с Тиной в сторону, на обочину, а Тося как гаркнет:
– Стой, стрелять буду!
Хромой встал как вкопанный, пьяными глазёнками разглядел впотьмах Тосю, замахнулся на неё. А Тося хрясть ему промеж глаз – тот с копыт. Лежит в одной рубахе на снегу, кровь с носа хлещет.
– С Новым годом! – поздравила его Тося.
К концу января ни одной сводки информбюро не пропускали ни дома, ни на работе. Дождались – разгромили гадов, радовались. А моя радость недолгой оказалась. Письмо пришло от Пети: ранен, в госпитале, рана, пишет, пустячная. Я ему каждый день стала письма писать, благо почта военная – бесплатная. На картах разложу: вроде бы всё неплохо, да вот только приклеилась к нему блондинка, вертихвостка какая-то… В марте решила двинуть к Большой Волге, в Иваньково.
Рассчиталась на фабрике. В милиции подсказали, когда пойдёт машина на Бежецк. Тина собрала меня в дорогу: грибов сухих отсыпала, ягод, картох, сваренных в мундире, дала и рыбы солёной сухой. Прощались – плакали, обещались найти друг друга после войны. До Бежецка ехала с Серёнькой в кузове: в кабине с шофёром старая бабка села. Шофёр, скотина, пол-литру молока Серёнькиного отобрал за проезд. Я ему про мужа-шофёра раненого и что больше года уже домой иду, а ему плюй в глаза – всё Божья роса, скотина такая…
Из Бежецка в Кашин, Серёнька капризничает – то затихнет, а то ревмя ревёт. Одна старая дура, попутчица, присоветовала:
– Да брось ты его в сугроб. Молодая – ещё нарожаешь. Чего мучиться так?
Я ей за совет слово такое откусила – враз отстала.
Добрались до Кашина, нашла госпиталь. Врачиха посмотрела Серёньку, сказала, нужен детский врач, а у них такого нет, сказала, что детский врач есть в Калязине. До Калязина больше двадцати вёрст. Полдороги пешком, другую половину на попутке – повезло.
Дело к ночи. Серёнька кричит, заходится – охрип даже. Нашла детского врача в госпитале военном. Он, в летах уже, осмотрел Серёньку, сказал, что нужна операция, и желательно срочно – паховая грыжа, ущемление. У них хирургов нет, надо срочно в Кашин…
– Так я только оттуда пришла, там же врачиха смотрела, что ж она?..
– Ты вот что, дочка, времени зря не теряй. Нужен хирург. Операция несложная, но откладывать нельзя. Ребёнка старайся нести в наклон, чтобы голова была ниже попки – ему так легче будет.
Пошла в ночь. Луна, мороз с ветерком. Серёнька кричит, я реву, слёзы на щеках сосульками, спешу – чуть не бегу. А Серёнька уж и не кричит, а стонет. И ни одной попутки, только встречные машины, да и то редко. Из Кашина едут, в Кашин – нет. И вдруг в чащобе лесной – глаза! Светятся! Волк! Достала нож Ивана Наумыча, закричала по-звериному – пропали глазища…
По Кашину я уже бежала, вломилась в госпиталь, одно слово сорвалось у меня:
– Хирург! Хирург!
Хирург молодой, ровесник мой, взял Серёньку, осмотрел:
– Первая мирная операция у меня за войну.
Села я там у них на какой-то ящик, реву себе тихо, а когда наревелась, пришёл хирург:
– Всё хорошо, мамаша, сынок в полном порядке.
Я повалилась ему в ноги и чувствую, сил у меня больше нет. Хирург отвёл меня к кастелянше, дал выпить спирту, дал огурец солёный, хлеб.
– Всё хорошо, мамаша. Поспи тут.
Днём уже принесли Серёньку, я его переодела в чистое. А Серёнька пальцем одной руки по ладошке другой водит:
– Согока-волока кафу валила.
Дочка Тины так с ним играла: «Сорока-воровка кашку варила, деток кормила». Я вздохнула и выдохнула – гора с плеч свалилась.
С неделю, может больше, пришлось кантоваться в госпитале, пока швы не сняли. До Калязина с ранеными доехала, от Калязина пошла на Кимры. Дней через пять пришла в Иваньково. Нашла школу – открыла дверь Соня.
– Гражданка, вы к кому?
– Сонь, не узнаёшь? Нина я, Петина жена.
Соня дико смотрела на меня, лицо её тянулось книзу.
– Ни-и-и-на?..
У Сони в зеркало глянула на себя – лицо чёрное стало всё, как короста какая приварилась. Долго у Сони не сидела – у неё самой двое маленьких: погодки Эля и Вовочка, да ещё и мама её с нею жила. Чаю попили и пошли к Варе.
У Петиной сестры Вари трое девочек: Нина, Клава и Лиза. Варя уборщицей работала у Сони в школе. Нина (шестнадцати годов) и Клава (четырнадцати) ходили лес валить, двенадцатилетняя Лиза оставалась дома.
Соня устроила меня дворником при школе. Живу с Серёнькой в Иванькове. А от Пети вестей нет. Гадаю – и опять бубновая вертихвостка какая-то вокруг него крутится на картах. Три письма отправила Пете, ответа нет – сердце не на месте. А Москва для меня без Пети закрыта.
Дожила до осени. Вспомнила, что был у Пети приятель, тоже охотник, который жил под Подольском, а жена его, Клавдия, работала поварихой в детском садике. Подольск ближе к Москве, чем Иваньково. Клавдия звала мужа по фамилии – Мозгов. (Мы с Петей ездили к ним до войны, и они у нас пару раз были в Москве, на выставку собачью вместе ходили и на стенд-стрельбище.) Так вот написала я ей письмо объяснительное, расписала все свои «хождения по мукам». Просила узнать, нельзя ли у них устроиться на работу – любую, лишь бы к Москве поближе быть… Адреса я её не знала, так написала на работу: Московская область, Подольский район, Рязаново, фабрика 1-го Мая, детский сад, Мозговой Клавдии. Через две недели получила от неё письмо: пишет, чтоб приезжала, не откладывала; и работа есть – кладовщицей, по совместительству уборщицей, а жильё – придумаем.
Я к Соне с письмом: так и так. Соня в Иванькове не последний человек была: через два дня нашла водителя, который ехал в Москву на легковушке. Он взял меня с Серёнькой и мало до Москвы – до Рязанова довёз. Клавдия встретила меня как сестру родную. И заведующая детсадом, и воспитательницы (две девки молодые) – все ко мне радушны, я поняла, Клавдия поработала – она им всем письмо моё читала.
Затащили в кладовую матрас, поставили на кирпичи. Всё мне дали: и простыни, и наволочки, и одеяло ватное – старое, но тёплое. Детей уложили (у Клавы сынок Валерка, в честь Чкалова названный, одногодок Серёньки). Выпили по маленькой, помянули мужа Клавы – он погиб под Курском.
Наконец прилетела весточка от Пети. Его после ранения перевели на службу в московскую пожарную команду, само собой, шофёром. Написал, что его пожарная часть рядом с Собачьей площадкой, за театром Вахтангова, что в увольнение он ходит домой. Пете сорок пять стукнуло – верно, его по возрасту и перевели в Москву.
Снег пошёл, и вот… приехал Петя! Праздник! Серёньку с рук не спускал. Пробыл часа три – вечером должен был вернуться в пожарную часть. Выхлопотал он мне разрешение вернуться в Москву. А на электрозавод мне путь отрезан до особого разрешения Первого отдела. Решили с Петей, что лучше мне пока оставаться с Серёнькой в Рязанове: и тепло, и сытно, и врач под боком. Полтора года жила под Подольском.
Петя нашёл в Москве «шарашку»: штампованные пуговицы зачищать на рашпиле от ушек-заусенцев, дырки в них сверлить и нашивать на фабричную картонку по шесть штук – работа надомная. Наконец-то вернулась в Москву, почитай, три с лишним года ходила я по мукам. Новый, сорок пятый год встречала дома».
Глава 2
(У)лица моего детства
Стук в парадную дверь – приехала жена Андрея Нина. Радость, крики, поцелуи, слёзы и снова поцелуи. Чай пили сладкий, внакладку. Громоподобная Нина то и дело прикладывала к себе отрез на платье, привезённый мужем:
– Ох, и платье будет! Ну, держись, Малаховка!
После чая мама, баба Таня и я пошли к соседке тётке Груше. Пришли Лиховы, баба Настя с тётей Любой и дочка тёти Любы Люська. Стали играть в «козла» (играли каждый вечер).
У тётки Груши в комнате с двумя окнами стоял большой стол-сороконожка. Она была женской портнихой и принимала заказы прямо на дому. На этом столе она и кроила, и метала, и обедала с мужем дядей Володей Сухачёвым, глухим молчаливым бухгалтером Сытинской типографии. Между двумя окнами у тётки Груши стояло старое зеркало под потолок, перед которым модницы вертелись на примерках. На столе в отрытой коробке с напёрстками и булавками лежали тяжёлые большие ножницы, трогать которые никому не разрешалось. Тётка Груша с лиловатой, отвисшей нижней губой приговаривала с одышкой: «Это – хлеб мой насущный». Ещё в её большой комнате была низкая круглая печка, как бочка. Труба от неё шла через комнату в коридор, а оттуда на кухню, а в кухне труба упиралась в дымоход (дом был построен ещё при царе, плиты были с дымоходами). Три военные зимы эта печка спасала от мороза тётку Грушу с дядей Володей и ещё бабу Настю, которая зимой жила в их комнате. Остальные жильцы были в эвакуации.
Женщины играли в карты, дядя Володя шаркал на счётах, моя баба Таня кемарила в уголке, а я с Люськой в который раз смотрел открытки. У Агриппины Васильевны – у тётки Груши – было очень много этих открыток и специальное приспособление для просмотра – такой ящичек с громадной линзой, через которую и рассматривались картинки, игрушка прошлого века. А на открытках – и цветы, и кошки с собаками, генералы с орденами, корабли, полуголые тётки, зализанные с проборами дядьки, сердца, пробитые стрелами.
Я там, у тётки Груши, и уснул. Проснулся уже в нашей комнате – сонного меня принесли. Ни мамы, ни бабы Тани не было. На полу, где мама постелила гостям постель, дядя Андрюша лежал на тёте Нине и тяжело дышал, а тётя Нина крутила головой. Я обрадовался и закричал:
– Дядя Андрюша победил тётю Нину!
Дядя Андрюша обернулся ко мне, рассмеялся, снял с руки часы:
– На-ка, держи.
Дядя Андрюша ещё вчера приметил, как я заинтересовался его часами. Там в часах была такая стрелочка, которая всё время крутилась. Я приложил часы к уху и услышал, что они тикают, догадался, что тикает эта самая стрелочка, которая крутится. Очень захотелось достать эту стрелочку. Под подоконником, в углу у батареи, была коробка с папиными отвёртками, напильниками, плоскогубцами и рашпилем. Я достал самую маленькую отвёртку и попытался отколупнуть стёклышко у часов, но у меня ничего не получилось. Тогда я попробовал поддеть маленькую пуговку на часах – у меня получилось! Я стал крутить эту пуговку, и стрелки стали вертеться. Стрелка побольше быстро вертелась, а маленькая – медленно. Мне так понравилось крутить эту маленькую пуговку, и я старался крутить её быстрее и быстрее! Подзатыльник тёти Нины остановил меня – она голая подскочила ко мне и отобрала часы.
– Ты что ж это делаешь? Это ж дорогая вещь!
– Отдай ребёнку часы, – сказал дядя Андрюша, лёжа на спине с закрытыми глазами, – пусть играет.
Днём мы гуляли по Москве. Дядя Андрюша купил мне и тёте Нине мороженое. Мы катались на метро, три раза въезжали из ночи в день и прямо на мост. Потом был другой мост – Крымский. С этого моста были видны танки и пушки фрицев – в Парке Горького была устроена выставка трофейного фашистского оружия. Дядя Андрюша сажал меня в мотоциклетки, танкетки, подсаживал на танки «Тигр» и «Пантеру». Я вместе с другими ребятами ликовал от счастья. А потом мы снова кушали – и опять было мороженое и газировка с сиропом, которая смешно щекотала пузырьками в носу. А потом я с тётей Ниной катался на карусели, а дядя Андрюша с тётей Ниной фотографировались. Через два дня дядя Андрюша уехал на фронт воевать.
И снова мы с мамой ездили на метро до станции «Курская», переходили Садовое кольцо – там недалеко и была «шарашкина» фабрика. На «шарашке» сдавали картонки с нашитыми пуговицами, потом в рюкзак нам сыпали неотёсанные пуговицы-заготовки, давали новые картонки, и мы возвращались на Смоленку. Тут скоро Первомай подоспел, и скоро – Пасха. Но все ждали другой праздник – ждали ПОБЕДУ!
У меня был маленький куличик и три яйца, крашенные в луковой шелухе, – это всё было завязано в узелок, и я сам нёс этот узелок в церковь святить. У бабы Тани был свой узелок, побольше, и ещё один от бабы Насти. Пришли в Филипповскую церковь, там во дворике стоял стол, на который бабушки и тёти ставили куличи с крашеными яичками, у кого-то даже пасха была. Пристроились и мы с бабушкой. Баба Таня развязала узелки – ждём. Вышел батюшка и стал святить: макал в святую воду метёлочку и махал – брызгал водой сверху вниз и в сторону. Мне очень понравилось, как он это делал, тоже так хотелось святить. Мой узелок стоял с краю неразвязанным, и батюшка, уже замахнувшись своей метёлочкой, вдруг заметил его и замер.
– Развязать! – приказал он, указывая на мой узелок другой рукой.
Баба Таня поспешно развязала, и мой маленький куличик был освящён, а заодно и я был умыт святой водой, к большой моей радости.
Вечером у тётки Груши играли в «козла». Баба Настя встала:
– Ну, кто спать, а я стирать.
– Долго стирать-то собралась? – спросила её тётка Груша.
– А как война кончится…
Посмеялись, разошлись. И вот… пришёл этот день! Пришло это утро! Баба Настя стучит в двери:
– Победа! Победа!! ПОБЕДА!!!
Мама включила радио: «Победа!» Всё стало клокотать и звенеть! Звенело всё! Открывались окна, и звон выливался на улицу, а с улицы звон возвращался в дома криками, песнями, духовыми оркестрами. Заиграли все гармоники и патефоны, звенели мальчишки, звенели девчонки, фронтовики-инвалиды срывались на крик:
– Нас со всего полка семнадцать осталось!
– Мы – месяц в болоте!..
– А как вырвались за перелесок на лёгких… и там туча… в три пулемёта… ни одна пуля не пропала…
– Я с Рокоссовским кашу, понял, с одного котла!..
– Горбатые подоспели, а то б крышка…
Звон победы разрастался и растекался по всем улицам Москвы до самого вечера, до самого салюта. Ура-а-а!.. А после салюта, казалось, народу на улицах прибавилось. И снова: «Ура!» – и снова песни, и снова танцы! Мы всей квартирой пошли на Садовое кольцо, даже глухой дядя Володя пошёл. Прошли через бараки, где сейчас стоит высотка МИДа. Люди танцевали, пели, целовались, военных – качали. И опять: «Ура! Ура! Ура-а-а!..»
Наутро пришёл отец, принёс в солдатском котелке вкусную похлёбку, сказал, что в субботу поедем сажать картошку: его как стендового стрелка спортобщества «Динамо» не забыли – позвали и для посадки выделят полмешка картох. Мама очень обрадовалась – своя картошка! И в пожарной части папе дадут увольнение на целый день.
В субботу, как только метро открылось, папа, мама и я поехали на стадион «Динамо». Там мы сели в кузов грузовой машины и поехали в Апрелевку сажать картошку. Полный кузов машины набилось людей. Я блаженствовал – сидел у папы на коленях. Ехали с ветерком и песнями.
Мирная жизнь налаживалась, и вдруг как гром с неба – убили дядю Андрюшу: погиб в Берлине за два дня до конца войны. Тёте Нине пришла похоронка уже после Дня Победы. Я с мамой был на Арбате, мама говорила по телефону-автомату с тётей Нюрой, папиной сестрой, и на неё обрушилась эта чёрная новость. Мама закричала – прохожие оглядывались, я испугался.
Стали возвращаться эвакуированные. В нашу квартиру вернулись Набатовы, они пережили войну в Уфе: тётя Шура и её дети – Зина, Валя и Вовка. Скоро дядя Филя вернулся – их отец.
24 июня! Парад Победы! День выдался мокрый. Как слёзы капали редкие капли дождя. Слёзы горя мешались со слезами радости. По Садовому кольцу проходили участники Парада Победы. Мы с бабой Таней пошли к «Смоленскому» гастроному смотреть парад. С разных сторон доносились духовые оркестры. Перед нами шли победители, шли на Красную площадь, шли наши (как Суворов говорил) «чудо-богатыри», чтобы швырнуть наземь проклятые знамёна и штандарты фашистских извергов. Мимо проходила конница, остановилась. Я глядел во все глаза на дядю, который сидел на лошади и держал, как мне показалось, настольную лампу – круглую с бахромой, такую же, как у нас дома была, только без лампочки. Дядя военный на лошади стоял долго, и я разглядел, что это была не лампа, а знамя – древко поднималось выше, и над его головой ветер играл красным полотнищем. Но больше всего мне понравилась железка на пятке у дяди, с колёсиком – потом я узнал, что это была шпора.
Летом мы ещё два раза ездили на картошку – пололи, окучивали. Осенью собрали три мешка. В октябре приехали Российские: тётя Фрося и её дети – Катя и Ваня; старшая Ксения была на фронте – служила переводчицей, и её ещё не отпустили. Вернулся сосед дядя Лёша Зимин, он жил в шестиметровом чулане на кухне.
А маму на электрозавод не берут и не берут. Причина – находилась на оккупированной территории во время войны в сорок первом году (завод был оборонным). Мы по-прежнему ездим с мамой в «шарашку», зачищаем на рашпиле штампованные пластмассовые пуговицы от заусенцев, пришиваем их к картонкам по шесть штук, отвозим, сдаём, забираем целый рюкзак заготовок. Привозим эту надомную работу и в шесть рук – мама, баба Таня и я – шлифуем рёбра пуговиц.
К ноябрьским праздникам приехал сам Иван Наумович Петраков. Он был секретарём райкома, приехал в Москву на совещание. Мама не знала, куда посадить его и чем накормить. Обычно мы ели картошку в мундире – а тут мама заняла в долг у бабы Насти штофчик подсолнечного масла и нажарила картошку на большой сковороде. А Иван Наумович позвал меня и попросил совсем по-взрослому:
– Серёжа, а принеси-ка мне кружку московской водопроводной воды.
Я двумя руками, стараясь не расплескать, принёс. Иван Наумович не спеша выпил.
– До чего же вкусна московская вода!
После картошки пили чай, и мама рассказывала, как она шла в Москву три с половиной года. Рассказала про папу, «шарашку», завод. Иван Наумович остался ночевать, спал на полу – мама одолжила матрас у Лиховых. На другой день он с мамой поехал на завод и письменно поручился за маму. Ему, кадровому партийному работнику, поверили и маму наконец взяли на работу – мама вся светилась.
– Ну, теперь каждый день будем есть картошку с маслом! – объявила она, вернувшись с завода.
Определили маму работать в горячем цеху – особо вредное производство, работала с плавиковой кислотой.
– Она, зараза такая, эта плавиковая, стекло проедает. Держать её можно только в парафиновой корзине, – говорила про неё мама. На пенсию она уйдёт в сорок пять лет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!