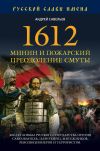Текст книги "Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия"

Автор книги: Сергей Сергеев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Мы все ему желаем смерти»
Петровская ломка встречала отчаянное сопротивление низов. Восстание Кондратия Булавина на Дону в 1707–1708 гг., едва не взявшего Азов, чуть не поставило воюющую страну на грань катастрофы. Кстати, нарвский разгром 1700 г. был, видимо, связан прежде всего с недовольством русских солдат насильственным навязыванием «немецких обычаев» и их ненавистью к своим иноземным командирам. «Стоило шведам взобраться на земляной вал, как раздались крики: „Немцы изменили!“ – и русские солдаты принялись избивать своих офицеров. „Пусть сам черт дерется с такими солдатами!“ – воскликнул [русский главнокомандующий] де Кроа и вместе с другими немецкими офицерами поспешил сдаться в плен. По-видимому, это был единственный случай в военной истории, когда командующий искал в плену спасения от своих солдат… После битвы приближенные Карла XII советовали королю вторгнуться в Россию, поддержать приверженцев Софьи и воспользоваться недовольством стрельцов и черни…» (С. А. Нефедов).
Главной причиной Астраханского восстания 1705–1707 гг., наряду с ростом налогов и всевозможными вопиющими злоупотреблениями местной администрации, стали насилия и издевательства, которыми подвергались астраханцы, носившие бороды и русскую одежду. Воевода Т. Ржевский активно и жестко проводил в жизнь петровские указы о брадобритии и ношении в городах «немецкого платья» и взыскании пошлин с бородачей (у них воеводские прислужники «усы и бороды ругаючи обрезывали с мясом») и тех, «кого в русском платье поимают». Во всяком случае, сами восставшие в своих письмах-обращениях, рассылаемых в соседние города, делали акцент именно на этом: «Ведомо вам чиним, что у нас в Астрахани учинилось за веру христианскую и брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам божиим нас и жен наших, и детей в старом русском платье не пущали, а которые в церковь божию войдут, и у тех, у нашего мужского и женского полу, платье обрезывали, и от церквей божих отлучали и выбивали вон, и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили, и болваном, кумирским богам велели поклоняться». Но Астраханское восстание интересно еще и тем, что наглядно демонстрирует всю лживость навязшей в зубах басни, что-де без строгого начальника русский человек сам собой управлять не может. Избавившись от царской администрации, астраханцы (вос)создали структуру выборного земского управления – почти восемь месяцев «четко работавшую систему государственных органов, которая… успешно справлялась с функциями управления, обеспечивая внутренний порядок и защиту контролируемой ими территории» (Н. Б. Голикова).
Как показал П. Бушкович, при расследовании дела царевича Алексея Петр с ужасом обнаружил, что царевичу в той или иной мере сочувствует большая часть России, в том числе почти вся элита, настолько непопулярна была петровская политика. Духовник царевича Яков Игнатьев сказал ему на исповеди в ответ на признание, что он желает смерти отцу: «Мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Датский посол Вестфален сообщал на родину: «…число тех, кто желал, чтобы корона осталась в потомстве старшего принца [Алексея Петровича], так велико, что царю по необходимости придется встать на путь лицемерия в отношении многих людей, если он не хочет срубить головы всему своему духовенству и дворянству». И действительно, Петр, казнив ближайших единомышленников и слуг царевича, в дальнейшем свернул дело – ликвидировать оппозицию такого масштаба было невозможно.
А вот потрясающий пример индивидуального протеста против петровской «модернизации». В 1704 г. нижегородский красильщик Андрей Иванов (скорее всего, старообрядец) явился к дворцовому Красному крыльцу и объявил за собой «государево дело»… на самого царя: «…пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую: велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть… А на Москве у него, Андрея, знакомцев никого нет и со сказанными словами к государю его никто не подсылывал – пришел он о том извещать собою, потому что и у них посадские люди многие бороды бреют, и немецкое платье носят, и табак тянут – и потому для обличения он, Андрей, и пришел, чтоб государь велел то все переменить». Участь этого диссидента была конечно же печальна – он погиб под пытками.
Петр I был одним из самых непопулярных правителей России за всю ее историю, во всяком случае, при жизни и в ближайшие десятилетия после смерти, пока планомерно осуществлявшийся государственный культ его личности не заслонил живую память о недавнем прошлом (в XVIII – первой половине XIX в. критика его политики в легальной российской печати была невозможна). Всем известны восприятие его как «антихриста» в старообрядческой среде или простонародный миф о подмененном за границей царе, но вот вполне прагматический взгляд на «державного плотника», исходящий от представителей провинциального дворянства и зафиксированный И.-Г. Фоккеродтом, секретарем прусского посольства в Петербурге в 1718–1737 гг.: «…только что замирились, думают уж опять о новой войне, у которой зачастую и причины-то другой нет, кроме самолюбия государя да еще его близких слуг. В угоду им не только разоряют не на живот, а на смерть наших крестьян, да и мыто сами должны служить, да и не так еще, как в старину, пока идет война, а многие годы кряду жить вдалеке от своих домов и семейств, входить в долги, между тем отдавать свои поместья в варварские руки наших чиновников, которые за уряд так их доймут, что когда, наконец, придет такое благополучие, что нас по старости или по болезни уволят, нам и всю жизнь не поправить своего хозяйства. Словом, постоянное содержание войска и все, что следует к нему, до того разорят нас и ограбят, что хоть опустоши все наше царство самый лютый враг, нам он и вполовину не наделает столько вреда… Земля наша довольно велика, и потому распространять ее не для чего, а разве только населять. Завоевания, сделанные Петром I, не дают России ничего такого, чего бы не имела она прежде, не умножают и нашу казну, но еще стоят нам гораздо дороже, чем приносят дохода. Они не прибавляют безопасности нашему царству, а еще вперед, пожалуй, сделают то, что мы станем больше, чем следует, мешаться в чужие ссоры и никогда не останемся в барышах от того. Потому-то Петр I наверное уж поступил бы гораздо умнее, если бы миллионы людей, которых стоила шведская война и основание Петербурга, оставил за сохою дома, где недостаток в них слишком ощутителен. Старинные цари хоть и делали завоевания, да только таких земель, владение которыми необходимо для царства или откуда нас беспокоили разбои. Кроме того, они давали нам пользоваться плодами наших трудов, поступали с побежденными, как с побежденными, делили между дворянством их земли: а на место того ливонцы (то есть немецкие дворяне из Прибалтики. – С. С.) чуть у нас на головах не пляшут и пользуются большими льготами, чем мы сами, так что изо всего этого завоевания не выходит нам никакой другой прибыли, кроме чести оберегать чужой народ на свой счет да защищать его своею же кровью». Кто скажет, что эти рассуждения вовсе лишены здравого смысла?
Да, Петр вывел Россию к Балтийскому морю, правда потеряв при этом в результате Прутского позора выход к Черному: мир, заключенный в 1711 г. с турками, – «пожалуй, одно из самых тяжелых мирных соглашений, на которые была вынуждена пойти Россия в XVIII веке» (Е. В. Анисимов). Вошедшие в империю Лифляндия и Эстляндия получили права областных автономий, а их дворянство – подтверждение своих старинных привилегий. «Империя наоборот» набирала обороты. Автономия Украины, из-за измены Мазепы, была ограничена, но все же не упразднена. В Великороссии окончательно закрепился с помощью новейших западных технологий модернизированный принцип Москвы, с большой, однако, разницей: военная машина империи, питавшаяся русскими кровью и деньгами, обслуживала теперь главным образом личные амбиции ее правителей, очень хотевших стать «царями горы» в одновременно презираемой и вожделенной Европе.
Петровская система оказалась чрезвычайно прочной, просуществовав почти двести лет. «Время показало удивительную жизнеспособность многих институтов, созданных Петром. Коллегии просуществовали до 1802 года, то есть 80 лет; подушная система налогообложения, введенная в 1724 году, была отменена лишь 163 года спустя – в 1887-м. Последний рекрутский набор состоялся в 1874 году – спустя почти 170 лет после первого. Синодальное управление русской православной церковью оставалось неизменным почти 200 лет, с 1721 по 1918 год. Наконец, созданный Петром в 1711 году Правительствующий Сенат был ликвидирован лишь в декабре 1917 года, спустя 206 лет после его образования» (Е. В. Анисимов). Но крепость этих учреждений – не в поверхностных европейских влияниях, а в многовековом московском фундаменте, на котором они были поставлены.
Особо следует оговориться, что дискурс петровских реформ не был «русофобским». Свойственное им радикальное отрицание предшествующей им русской культуры порой напоминают по методам и лозунгам большевистскую денационализацию: «Противопоставление старой и новой России строилось на наборе взаимоисключающих характеристик, так что не оставалось места никакой преемственности. Поэтому, приписывая новой России просвещение, старой приписывали невежество, приписывая новой России богатство и великолепие, старой отдавали в удел убожество и нищету. Новая Россия как бы рисовала карикатуру на Россию старую…» (В. М. Живов). Но все же европеизация в XVIII в. не мыслилась как дерусификация, а, напротив, как возвышение русскости/«российскости» – тогда эти понятия были фактически идентичны и не противопоставлялись друг другу – на новую, еще более великую ступень могущества и процветания.
Петровская «русскость» по многим параметрам конфликтно противостояла старомосковской, но сам русский («российский») народ в ней не дискредитировался как «неполноценный» (наоборот, декларировалась вера в его огромные творческие силы), «неполноценными» объявлялись только его старые, «ветхие» формы существования, сама же «народная» (национальная) парадигма развития России сомнению не подвергалась. Проще говоря, «птенцы гнезда Петрова» полагали свою русскость гораздо более «прогрессивной», чем русскость «допетровская». Довольно характерный образчик подобного самосознания являют собой, например, писания русского агента в Англии Ф. С. Салтыкова, забрасывавшего Петра разного рода проектами. Салтыков мыслит русских как один из европейских народов, ничуть им не уступающий, а лишь несколько задержавшийся в своем историческом развитии, но отставание это способный легко преодолеть: «Российский народ такие же чувства и рассуждения имеет, как и прочие народы, только его довлеет к таким делам управить», чтобы «уравнять наш народ с европейскими государствами». Разумеется, в плане развития институтов национального самоуправления такие пожелания при петровской политической системе были не более чем благой утопией, но само стремление быть как европейцы провоцировало вопрос не о переодевании только в заграничные костюмы, но и о перемене самих порядков.
Продвижение русского фронтира
Итоги переходной эпохи XVII – первой четверти XVIII в. оказались для русского народа весьма неоднозначными. Тем не менее закончить эту главу хочется его вполне бесспорными достижениями.
Во-первых, это продвижение русской границы на Юг для борьбы с висевшей «как дамоклов меч» (Д. И. Багалей) крымской угрозой. По подсчетам А. А. Новосельского, только в течение первой половины XVII в. татары увели в полон как минимум 150–200 тыс. русских людей. В 1630-х гг. нападения крымчаков отбивали недалеко от Оки, порой они прорывались даже в Московский уезд. С 1635 г. начинается строительство Белгородской черты, призванной перекрыть крепостями и земляными валами Ногайский и Изюмский шляхи, по которым происходили татарские вторжения. Рядом с Воронежем и Белгородом встали Козлов, Яблонов, Ольшанск, Усмань, Карпов, Болховец, Орлов, Новый Оскол и др. С 1653 г. на важнейшие участки черты выдвигаются солдатские полки, набранные в южных областях. К 1658 г. Белгородская черта, состоявшая из 25 городов, соединенных земляным валом и другими укреплениями, была окончательно завершена. Она протянулась почти на 800 км «по территории пяти современных областей: Сумской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской» (В. П. Загоровский).
Таким образом, арена русско-татарских столкновений отодвинулась к югу на сотни километров, и проникновение татар в центральные уезды стало практически невозможно. Кроме того, это позволило заселить южные окраины России. В одном из документов Разрядного приказа 1680-х гг. говорится, что «ныне по той всей черте уселилось многолюдство большое». В пределах самой черты среди переселенцев преобладали великороссы, за ней – малороссы, в силу целенаправленной государственной политики, о которой уже говорилось выше.
В 1679–1681 гг. была построена еще одна, более локальная черта – Изюмская, закрывающая от татарских набегов недавно заселенные «черкасами» земли к югу и юго-западу от Белгорода. Но, конечно, жизнь колонистов «на черте», а тем более «за чертой» была крайне беспокойной и опасной. Татарские нападения снова усилились во время войны со Швецией, когда все военные усилия России сосредоточились на Севере. Только в один набег 1713 г. крымчаки взяли более 14 тыс. полонян. Лишь со строительством в 1730-х гг. Украинской линии Белгородчина и Слобожанщина перестали быть боевым пограничьем.
Одновременно происходило русское движение «встречь солнца» – продолжалось и в главном завершилось присоединение Сибири, начатое в конце XVI в. Западная ее часть была покорена к началу следующего столетия, вскоре после этого русские служилые люди дошли до Енисея. В 1630-х гг. казацкие ватаги достигли Лены, в 1640-х – Байкала, в 1640– 1650-х – проникли на Амур. В 1628 г. был заложен Красноярск, в 1632-м – Якутск, в 1653-м – Нерчинск, в 1662-м – Иркутск. В 1690-х гг. началось освоение Камчатки. К 1678 г. общее количество русских в Сибири, по подсчетам Г. В. Вернадского, составило не менее 84 тыс. человек. Нельзя не изумиться блестящему успеху этой невероятной авантюры. По словам английского историка географии Дж. Бейкера: «Продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. Успех русских отчасти объясняется наличием таких удобных путей сообщения, какими являются речные системы Северной Азии, хотя преувеличивать значение этого фактора не следует, и если даже принять в расчет все природные преимущества для передвижения, то все же на долю этого безвестного воинства достанется такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ».
Составлявшие передовой отряд русского освоения Сибири землепроходцы – охотники и купцы, занимавшиеся пушным промыслом, и нанявшиеся на государеву службу для сбора пушного же ясака с туземцев казаки мало чем отличались от испанских конкистадоров или пионеров Дикого Запада. С. В. Бахрушин отмечал в них «черты, свойственные всем искателям приключений: упорство в достижении цели, неразборчивость в средствах, предприимчивость, практическую сметку и не знающую удержу смелость… Беспощадные к инородцам, безжалостные к своим близким, все эти служилые и промышленные люди… поражают нас и своей беспечной удалью и нечеловеческой выносливостью и вместе с тем алчностью к добыче и хладнокровной жестокостью».
Многих канонических героев «сибириады» иначе как разбойниками и не назовешь. Вот, скажем, стиль общения «Камчатского Ермака» – Владимира Атласова с местным населением, откровенно явленный в его отчетах-«сказках»: «камчадалов громили и наибольших людей побили, и посады их выжгли для того, чтобы было им в страх»; «они, коряки, учинились непослушны и пошли… на побег, и он, Володимер, с товарищи их постигли, и они, иноземцы, стали с ними бится, и божиею милостию и государевым счастием их, коряк, многих побили, и домы их и олени взяли, и тем питались…». Из первого своего похода 1697–1698 гг. Владимир Васильевич вывез «прибытку» больше, чем собрал в ясачную казну. За свое пребывание на Камчатке в 1706–1707 гг. он «накопил» 1235 соболей, 400 красных и 14 сиводущатых лисиц, 75 морских бобров и массу другой «мяхкой рухляди» в виде одежды, что было немногим меньше среднего годового объема камчатского «государева ясака». Погиб Атласов от рук взбунтовавшихся против него казаков. В том же духе действовал и другой знаменитый землепроходец – Ерофей Хабаров, которого в 1653 г. за его гомерические злоупотребления как в отношении туземцев («мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот»), так и в отношении «государевой казны» («государеву делу не радел, радел своим нажиткам, шубам собольим») и собственных подчиненных, царский посланец отстранил от руководства отряда.
Но были и исключения, например Семен Дежнев, старавшийся брать ясак «ласкою» и умевший налаживать с местным населением дружественные отношения, «да такие, что, когда его отряд подвергся нападению немирных тунгусов и гибель была неминуема, только что объясаченные друзья пришли на помощь и помогли отбить нападение» (А. С. Зуев). Московские чиновники жаловались, что в азарте «пушной лихорадки» между русскими промысловыми ватагами «для… своей бездельной корысти бывают бои, друг друга… побивают до смерти, а новым ясачным людям чинят сумнение, тесноту и смуту и от государя их прочь отгоняют». Впрочем, вряд ли Сибирь смогли бы покорить платоны каратаевы…
Вхождение сибирских земель и народов (кстати, многие из последних были весьма воинственны и хорошо вооружены, а к чужакам относились крайне агрессивно) в состав России происходило по-разному – когда добровольно, когда насильственно – что случалось, кажется, чаще. Русские источники 1630—1640-х гг. сообщают множество фактов о вооруженных столкновениях с якутами и бурятами. Эвенки, эвены и юкагиры активно сопротивлялись русским еще во второй половине XVII в., коряки и ительмены – до 1730—1750-х гг. Войны с чукчами продолжались до 1778 г. Поскольку сибирские этносы сами друг с другом непрерывно воевали, русские успешно использовали в своих экспедициях одних «иноземцев» против других. Только на Северо-Востоке во второй половине XVII – первой четверти XVIII в., по подсчетам А. С. Зуева, произошло по меньшей мере 23 вооруженных столкновения с чукчами, 41 – с коряками, 39 – с ительменами.
«В 1707–1711 гг. большая часть Камчатки превратилась в зону военных действий. В результате ясак с Камчатки не вывозился в течение пяти лет. За 12 лет противостояния (1703–1715) были сожжены Большерецкий и Акланский остроги, убито около 200 казаков – огромные по тому времени потери… Несколько походов на приколымских чукчей во второй половине XVII в. не принесли результатов, больше того, чукчи сами перешли к активным действиям. Вплоть до конца 80-х годов XVII в. они неоднократно осаждали Нижнеколымское ясачное зимовье, нападали на служилых людей, заставляя их жить „взаперти“» (В. А. Тураев). Атмосферу этой осады хорошо передает сообщение одного из «сидельцев» (1679): «А к нижнему ясачному зимовью немирные люди чюхчи прикочевали и живут от зимовья во днище, а караулят русских людей и ясачных, и как кого схватают, и тех людей всякими разными муками мучат, а в достале смертью позорную кончают».
Слегка забегая вперед, упомянем и наиболее, наверное, яркий эпизод русско-чукотских войн – разгром отряда майора Д. И. Павлуцкого в марте 1747 г. Рапорт одного из офицеров так описывает схватку: «…а больше и ружей заправить было некогда, понеже пошли неприятели чюкчи на копьях, так же и они [казаки] насупротив их, неприятелей чюкоч, пошли на копьях же и бились с ними не малое время… они, неприятели, у служилых и служилые у них друг у друга отнимали из рук копья, а протчи служилые, у которых отбиты были ружья, оборонялись и ножами». С русской стороны было убито более 50 человек, в том числе и сам майор Павлуцкий. Сцена его гибели так и просится в кино жанра истерн. Майора долго не могли убить, потому что он носил панцирь. Чукчи стреляли в него из луков и кололи копьями, но он оставался неуязвим; «наконец, обступив его, как волки оленя, запутали ремнями, уронив на землю, и нашли место заколоть, под самым подбородком» (Г. Дьячков). Кто хоть немного знает историю Дикого Запада, сразу ассоциативно вспомнит о неоднократно обэкраненных генерале Кастере и битве при Литтл-Бигхорн (1876).
Постоянным фоном «сибириады» были набеги калмыков и башкир. В Приамурье русские столкнулись с маньчжурами. Ярким эпизодом борьбы с ними стала «исключительная по героизму и воинской доблести» (Н. И. Никитин) оборона Албазина (1686), когда около 800 казаков во главе с Афанасием Байтоном пять месяцев отбивались от десятитысячного маньчжурского войска с 40 пушками, не сумевшего ни взять острог штурмом, ни выморить его защитников голодом и вынужденного отступить. Но по Нерчинскому миру с Китаем (1689), лишившего Россию Приамурья, Албазин – этот маленький дальневосточный Азов – был оставлен и уничтожен русскими.
Вслед за промысловыми людьми в Сибири появились царские воеводы, постепенно подчиняя новоприсоединенные территории государеву порядку. Поскольку местное население воспринималось в Москве прежде всего как плательщик чрезвычайно ценного пушного ясака, правительство старалось защитить коренных жителей «не только от истребления, но и от притеснений… и нередко жертвовало… интересами русских колонистов» (С. В. Бахрушин). Сибирской администрации предписывалось действовать на туземцев «ласкою», а не «жесточью», без разрешения из Москвы или Тобольска (главного в ту пору центра Сибири) их запрещалось казнить, крайне неохотно разрешалось прибегать к силе оружия, даже в случае восстаний. Разумеется, на практике эти благие пожелания было непросто исполнить, но если бы не «миротворческая» позиция Центра, как знать, многие ли сибирские этносы сохранились до сего дня…
За государевыми людьми шли переселенцы-землепашцы. Первоначально это были принудительно переводимые дворцовые крестьяне, но с 1621 г. приоритетом стала вольная крестьянская колонизация, проводимая в основном «черными людьми» с Русского Севера. Вот некоторые ее итоги на конец XVII в., по данным В. И. Шункова. Количество русских дворов в Сибири достигло 25 тыс., из них по меньшей мере 11 тыс. были крестьянскими. Лишь 3 из 20 сибирских уездов оставались непашенными. В подавляющем большинстве крестьяне находились на государевом оброке, крепостничество в Сибирь почти не проникло и практиковалось только монастырями, которым принадлежало всего 1495 (14 %) крестьянских дворов. Все угодья, за исключением выгонов, находились в личном пользовании крестьян, регулярные переделы и прочие общинные прелести полностью отсутствовали, в связи с чем, естественно, развивалось и значительное имущественное расслоение. Словом, перед нами воспроизведение земледельческих порядков черносошного Севера.
Конечно, «самовластье» и коррумпированность воевод и ясачных приказчиков в Сибири, так далеко отстоявшей от Центра, были огромными. Но, с другой стороны, и с реакцией на это сибирского, весьма вольнолюбивого и неробкого в массе своей русского простонародья власти приходилось считаться. Упомяну только один яркий эпизод – отстранение от власти в 1696 г. виновника многочисленных «обид и налог и напрасного разорения» воеводы Богдана Челищева служилыми и посадскими людьми и пашенными крестьянами Илимского острога. «До указу великих государей» царского наместника во главе управления заменили выборные илимские жители. Челищев был несомненно грешен по всем статьям, но следствие по его делу длилось несколько лет – Москву явно смущало, что илимцы свой «отказ» «учинили самовольно, нашему великого государя указу противно», «чего преж сего не бывало». В конце концов в пользу Челищева со служилых и посадских людей взыскали 2000 рублей, но на воеводство в Илимск он не вернулся. Вряд ли бы бунтовщики так легко отделались, произойди это где-нибудь в Рязани или Калуге.
Присоединение Сибири, таким образом, важно для судеб русского народа не только тем, что местная пушнина, по расчетам Г. В. Вернадского, давала во второй половине XVII столетия треть государственного дохода, или тем, что там был обретен поистине кладезь полезных ископаемых, только-только в ту пору разведываемых и осваивымых. Но и тем еще, что там возник новый резервуар – пусть и очень относительной – русской свободы, хотя это и звучит парадоксом применительно к земле, куда уже тогда начали отправлять на поселение ссыльных. Кроме уголовников, это были разного рода беглые и бродяги, а также участники антипетровских восстаний – стрелецкого 1699 г., астраханского, булавинского – и «диссиденты»-старообрядцы. Позднее к ним добавились непокорные помещикам крестьяне и «политические». Контингент, как на подбор, сплошь незаконопослушный, создававший вокруг себя совсем иную атмосферу, чем та, которая господствовала и потому отторгла их в доуральской Великороссии.
Ну и напоследок остается выразить горькое сожаление, что грандиозная эпопея как Южного, так и Восточного русских фронтиров, перед которой бледнеет сага Дикого Запада, до сих пор не нашла ни своего Фенимора Купера в литературе, ни своего Джона Форда в кинематографе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?