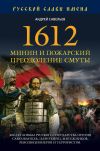Текст книги "Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия"

Автор книги: Сергей Сергеев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
От «соборного правления» к абсолютизму
Соборы Смутного времени и первых лет правления новой династии качественно отличались от своих предшественников прошлого столетия – частотой созыва (в 1616–1622 гг. они заседали практически ежегодно), выборностью представителей (хотя на них присутствовали не только выборные люди, но и – в силу своего положения – высшее духовенство и Боярская дума) и значительным расширением полномочий. Фактически это был главный законодательный орган страны, действовавший, по сути, постоянно – все важнейшие правительственные распоряжения принимались «по нашему великого государя указу и по соборному приговору всей Русской земли». Но после 1622 г. соборы не созывались 10 лет, а затем стали заседать только по тем или иным конкретным случаям: собор 1633 г. обсуждал Смоленскую войну с Польшей; 1642-го – судьбу Азова, взятого донскими казаками и отважно ими обороняемого от турок; 1648-го – принятие нового свода законов; 1653-го – вопрос о присоединении Малороссии и т. д. С соборами совещаются, но они более не управляют; государственные прерогативы безраздельно переходят в руки самих монархов, «сильных людей» – царских фаворитов и приказной бюрократии. «Земские соборы 50-х гг. – по вопросу о борьбе за Малороссию – только внешняя форма, без подлинного живого содержания: опрошенные „по чинам – порознь“ члены собора только повторяют готовое решение царя и его боярской думы» (А. Е. Пресняков). А во второй половине столетия власть уже не нуждается в соборах и для совещательных целей, и они тихо угасают. «Соборы» 1660—1680-х гг. – суть рабочие комиссии, обсуждающие положение различных социальных групп с участием представителей последних, а не голос «всей земли».
«Земля снова улеглась у ног самодержавного государя», – подводит итоги недолгой эпохи расцвета соборной деятельности западник Б. Н. Чичерин. «Народ вышел в отставку», – афористически говорит о том же славянофил А. С. Хомяков. Но почему земская идея не эволюционировала в доктрину народовластия? Почему такое эффективно проявившее себя учреждение, как Земский собор, не закрепилось в качестве постоянного института? Почему «земля» не отстояла его, ведь он был главным инструментом реализации ее собственного политического идеала, и нельзя сказать, что понимание этого в обществе отсутствовало? В начале 1660-х гг. московские горожане просили царя Алексея Михайловича о возобновлении соборов, как о необходимом условии устроения «земского дела»: «Чтобы… великий государь… указал… взять из всех чинов на Москве и из городов лучших людей по пяти человек; а без них нам одним того великого дела на мере поставить невозможно». А тридцатью годами раньше стряпчий Иван Андреевич Бутурлин и вовсе предложил создать постоянно действующий Собор с выборными от служилых людей «и из черных, по человеку, а не от больших городов», установив годичный срок полномочий выборных и обеспечив их в столице квартирами.
Во-первых, у соборов так и не сложилась юридическая основа – никаких законодательных актов, определявших их полномочия и принципы формирования, не было принято. Более того, в общественном сознании, похоже, вообще отсутствовала идея институционального контроля за верховной властью. Как отмечал В. О. Ключевский, в вопросах налогового обложения «казна вполне зависела от собора», однако «выборные, жалуясь на управление, давали деньги, но не требовали, даже не просили прав, довольствуясь благодушным, ни к чему не обязывающим обещанием „то вспоможенье учинить памятно и николи незабытно и вперед жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах“. Очевидно, мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях правомерности еще не зародилась ни в правительстве, ни в обществе. На собор смотрели как на орудие правительства». Поэтому самодержавие, использовавшее соборы в качестве чрезвычайного органа в период преодоления Смуты, как только ситуация стабилизировалась, смогло от них отказаться, не встречая ни малейших правовых препятствий. Во-вторых, что еще более важно, в России не оказалось организованных социальных сил, способных не только ностальгически вздыхать о соборах, но и защищать их, подобно тому, как англичане защитили свой парламент от посягательств Карла I в том же XVII столетии. Русские сословия предпочитали отстаивать свои собственные отдельные интересы, а не всесословное дело, более того, они даже не сумели сформулировать программу последнего.
Боярская аристократия, как уже говорилось выше, не имела влияния в обществе и потому боролась за свое влияние на заседаниях Думы или интригуя в дворцовых покоях. Закрепощавшемуся полным ходом крестьянству было не до политических требований, а его стремление к воле находилось в прямом противоречии с крепостническими вожделениями дворянства, так что общего языка между ними не могло возникнуть по определению. Соборы были нужны прежде всего «средним слоям» – служилым и посадским людям. Когда они объединяли свои усилия, то многого могли достичь. Об этом свидетельствуют события 1648 г., когда во время московского Соляного бунта горожан поддержали не только дворяне, но и стрельцы, отказавшиеся разгонять мятежную толпу и даже заявившие, что готовы вместе с ней «избавить себя от насилий и неправд». Молодой царь Алексей вынужден был тогда крест целовать народу, что выполнит его требования. В Большой всенародной челобитной, составленной представителями дворянства и посада, весьма внятно и твердо высказывалось пожелание созыва Земского собора и реформы местного суда и управления: государю следует положиться «на всяких чинов на мирских людей», которые «выберут в суди меж себя праведных и расудительных великих людей, и ему государю будет покой от то всякие мирские докуки ведати о своем царском венце, а ево государевым боярам будет время от ратных росправах и разсудех в своих домех».
Власть была вынуждена пойти на созыв Собора и удовлетворить в принятом там Уложении 1649 г. основное требование дворянства – окончательное закрепощение владельческих крестьян с бессрочным сыском беглых. С той поры в дворянской среде почти на столетие исчезает всякий оппозиционный дух, а разинщина заставила его еще сильнее сплотиться вокруг самодержавия. Стрельцы, также задобренные разнообразными подачками, во время Медного бунта 1662 г. уже беспрекословно и усердно рубят недовольных. Посадские же люди, по Уложению, достигли лишь уничтожения «белых слобод», нисколько тем самым не расширив своих прав, а лишь немного облегчив для себя раскладку государева тягла, распространив его на тех, кого оно раньше не касалось. Политически же принятие Уложения «было роковым ударом для земщины», ибо в нем «нет ни одной статьи, которой бы обеспечивалось значение земщины в государственных делах» (И. Д. Беляев).
Таким образом, бояре и служилые люди, постепенно начавшие сливаться в единое сословие, в отличие от дворянства большинства европейских стран, так и не сделались вождями и полномочными представителями «земли», хотя история и предоставляла им для этого уникальный шанс, а предпочли остаться государевыми слугами, управляющими «землей» от монаршего имени. «Отнимая юридическую свободу у своих крепостных, дворяне отдавали свою политическую волю государству» (П. В. Седов). В дальнейшем русское дворянство становилось все более и более привилегированным, замкнутым сословием, например, в 1675 г. был издан указ, по которому в «дети боярские» запрещалось верстать крестьян, холопов, посадских и «приборных» служилых людей. «В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, расслабляемом даровым трудом, тупело чувство земского интереса и дряхлела энергия общественной деятельности. Барская усадьба, угнетая деревню и чуждаясь посада, не могла сладить со столичной канцелярией, чтобы дать земскому собору значение самодеятельного проводника земской мысли и воли» (В. О. Ключевский).
Посадские люди без союза с дворянством были политически бессильны, и вскоре даже местное городское самоуправление оказалось задавлено воеводской администрацией. Уложение отменило участие представителей посада в судебных делах, предоставив судопроизводство исключительно воеводам и приказным людям; практически все выборные должности стали частью государственной администрации, неоплачиваемыми, тяжелыми повинностями, не мудрено, что горожане стали от них уклоняться. Более того, в памяти властей стали как будто стираться совсем недавние московские управленческие практики: дескать, «того никогда не бывало, чтобы мужики с боярами, окольничими и воеводами у расправных дел были, и впредь того не будет». Воеводский произвол и растущее налоговое бремя неоднократно вызывали городские восстания, самым значительным из которых было Псковское (1650). Власть в городе перешла в руки земских старост во главе с ярким лидером Гаврилой Демидовым, на шесть месяцев в Пскове восстановилась республика. В наиболее важных случаях по звону «всполошного колокола» собирался мирской сход, напоминавший старинное вече. Псковичи послали царю челобитную, в которой изложили ряд требований, в частности чтобы воеводы чинили суд и расправу совместно с земскими старостами и выборными. Войска, посланные на усмирение Пскова, не смогли захватить его сходу и установили блокаду, длившуюся три месяца. Правительству пришлось пойти с псковичами на переговоры, но затем с зачинщиками мятежа жестоко расправились. «Сполошный колокол» был снят и отправлен в Москву. Так же, поодиночке, были подавлены и другие городские восстания 1640—1660-х гг. – в Устюге Великом, Новгороде, Томске, Москве…
Наиболее ущемленным социальным слоем в России стало крестьянство, в крепостном состоянии оказалось его подавляющее большинство. По переписи 1678 г. из 888 тыс. тяглых дворов только 92 тыс. принадлежали посадским людям и черносошным крестьянам (10,4 %), а почти девять десятых тяглецов находились в крепостной зависимости от дворца (9,3 %), церкви (13,3 %), бояр (10 %) и служилых людей (57 %). Как определение объема повинностей крепостных, так и судебная власть над ними (за исключением «татьбы, разбоя и поличного и смертного убийства») находились в руках их хозяев. Крестьянские жалобы на последних не принимались, кроме «изветов про государское здоровье или какое изменное дело». По указу 1675 г. землевладельцы получили право продавать и приобретать крестьян без земли. К концу века помещики свободно переводили крестьян в дворовые люди (и наоборот), меняли и продавали их, активно вмешивались в заключение крестьянских браков. Униженное положение крестьянства хорошо иллюстрирует резкое увеличение разрыва между ним и другими социальными группами в наказании за бесчестье. По Уложению бесчестье крестьянина составляло всего 1 руб., между тем как бесчестье посадского человека – 5–7 руб., дворянина – 5—15 руб., а монастырского архимандрита – 100 руб. Впрочем, закон пока еще охранял жизнь и труд крестьянина от помещичьего произвола – за самовольную расправу можно было лишиться поместья или даже подвергнуться наказанию кнутом.
Поскольку сбор государственных налогов возлагался на помещика, то и распределение тягла находилось в его руках. Это привело, во-первых, к тому, что сельские миры и их выборные люди сделались лишь исполнителями хозяйских предписаний. А во-вторых, именно с этого времени в русской деревне начинает формироваться пресловутая передельная община с круговой порукой – идеал русских революционеров и реакционеров XIX века; ранее для нее было характерно подворное землевладение и более-менее свободное распоряжение землей. Так как тяглом облагалась не земля, а люди, помещик был заинтересован в поддержании некоего стабильного «среднего» уровня жизни своих крестьян и старался не допускать излишнего разорения одних и излишнего обогащения других. Для сохранения этого равновесия в общине стали время от времени производить земельные переделы. Элементы уравнительного землепользования начали вноситься государством и в жизнь черносошных крестьян. Так, в 1648 г. Дума постановила, чтобы в Заонежских погостах, где богатые и сильные крестьяне активно скупали землю бедняков, проданные участки отнять безденежно у покупателей и возвратить прежним их владельцам, и впредь приняла «заказ крепкий, чтобы никто ни у кого не покупал и в заклад не имал». Правда, позже Дума смягчила свой приговор, отменив его первую часть и позволив оставить участки за их приобретателями, но вновь подтвердила запрещение сделок на будущее время. В 1652 г. неотчуждаемость крестьянских черных участков была распространена и на Каргопольский уезд.
С 1654 г. Россия вступила в затяжную полосу войн с Речью Посполитой, Швецией и Турцией (что также способствовало сворачиванию «соборного правления»). Военные нужды заставляли государство постоянно увеличивать налоги, так, стрелецкая подать выросла с 1640 по 1671 г. почти в семь раз. (Еще один важный источник доходов – питейная прибыль, дававшая в 1680 г. немногим менее трети казенных поступлений.) С 1664 по 1671 г. налоговые недоимки увеличились почти в 15 раз, причины этого предельно понятно объясняются в приказных документах: «Тех денег посадские и уездные люди не выплачивают за пустотою, потому что у них многие тягла запустели, и взять тех денег не на ком, и остальные посадские и уездные люди от немерного правежа бегут в… разные города». О том, как осуществлялся этот «немерный правеж», мы имеем колоритное свидетельство от одного из сборщиков: «Я, государь, посадским людям не норовил и сроков не даю… я правил на них твои государевы всякие доходы нещадно, побивал насмерть».
Крепостное право, налоговый гнет, воеводское самоуправство – вот главные причины того мощного социального взрыва 1668–1671 гг., который в дореволюционной историографии именовался разинщиной, а в советской – крестьянской войной под предводительством Степана Разина. Об этом красноречиво говорят и разиновские «прелестные письма», посылавшиеся «в народ», где главными врагами объявлялись воеводы, бояре, помещики и приказные люди, и сожжение мятежниками всех официальных бумаг при занятии городов. Важно отметить, что этот взрыв не состоялся бы, не руководи им сравнительно автономная от государства, хорошо организованная, вооруженная и имеющая огромный боевой опыт социальная группа – донское казачество, точнее, его «низовая» часть. Но здесь же таилась и слабость движения – очевидно, что чисто сословно-казацкое сознание превалировало у Разина над сознанием вождя единого народного протеста, о чем свидетельствует знаменитый эпизод во время боя под Симбирском, когда донцы во главе со своим атаманом бросили союзную крестьянскую массу на погибель. Популярность образа Разина, прославленного в народных песнях и привлекавшего мастеров отечественной словесности от Пушкина до Шукшина, говорит, что казацкий идеал «вольной воли» выражает в себе какую-то очень важную сторону русской души. Но вряд ли можно увидеть в этом идеале какую-то реальную альтернативу московским порядкам – в соответствии с ним может жить военное товарищество, пусть и большое, но не большое государство. Не говоря уже о том, что кровавые ужасы, творимые разинцами, не лучше самодержавного произвола, скорее это его обратная сторона.
Пользуясь раздробленностью и слабостью русских сословий, их неумением организовать всесословный противовес верховной власти, последняя начиная с 1650-х гг. не просто возвратила себе полноту власти, утраченную в Смуту, но подняла принцип Москвы на новую высоту. Алексей Михайлович рассуждает совсем в духе Ивана Грозного (который в официозной «Истории о царях и великих князьях русских», написанной в конце 1660-х гг. дьяком Федором Грибоедовым, был объявлен прадедом царя Алексея): «…мы, великий государь, з Божиею помощию ведаем, как нам, великому государю, государство свое оберегать и править… И, нам, великому государю указывать не довелось, холопи наши и сироты нам, великим государем, николи не указывали»; «Бог… благословил и предал, нам, государю, правити и разсуждати люди своя на востоке, и на западе, и на юге, и на севере в правду, и мы Божия дела и наши, государевы, на всех странах полагаем, смотря по человеку».
Но властный инструментарий Алексея Михайловича (и его наследников) был гораздо исправней, чем у «прадеда». Сложился вполне солидный бюрократический аппарат. Если в 1626 г. насчитывалось всего 656 приказных людей, то в 1677-м их было уже 1601, а 1698-м – 2762. На местах укрепилась система воеводского управления, за XVII в. распространившаяся с окраин на всю страну. Формировалась регулярная армия. Уже в 1648 г. был создан первый рейтарский полк «иноземного строя», к началу 1660-х гг. их было уже 55 (несколько десятков тысяч человек). Надежной социальной опорой власти было дворянство. Наконец, в 1660-х гг. под самодержавную пяту попала церковь.
На краях раскола
В треугольнике «царь – патриарх – старообрядцы», определившем всю драматургию раскола, единственной выигравшей стороной оказалось самодержавие. Но на первых порах, напротив, казалось, что это церковь, в лице распираемого властолюбием Никона, уверенно ведет за собой монархию, смиренно готовую служить ей чуть ли не на посылках. Именно Никон был идеологом и мотором церковной реформы, проведение которой прямо вытекало из резкого поворота внешней политики Москвы – борьбой с Речью Посполитой за присоединение Малороссии (о чем подробнее поговорим ниже). Но борьба эта тоже началась во многом благодаря влиянию на Алексея Михайловича его «собинного друга» – патриарха, в свою очередь находившегося под очарованием льстивых речей повадившегося приезжать за московскими милостями греческого духовенства и даже ставшего «самым завзятым грекофилом, какого ранее и не бывало на Руси» (Н. Ф. Каптерев).
Восточные иерархи, в особенности патриарх Иерусалимский Паисий, уже давно всячески пытались уговорить русскую власть заняться освобождением православных народов от османского гнета, рисуя перед ней заманчивые перспективы вселенской православной империи с центром в отвоеванном Константинополе, предлагая московскому царю взойти на «превысочайший престол великого царя Константина, прадеда вашего». Грезил такой империей и Никон. Восстание Богдана Хмельницкого (1648) показалось патриарху и его греческим угодникам/наставникам удобным моментом для начала воплощения их мечты: сначала Малороссия, далее – везде. Роль греческого духовенства в наведении мостов между Хмельницким и Москвой огромна; Никон, сделавшись патриархом в 1652 г., также активно подключился к этому делу. Украинский гетман писал ему лично, прося поддержать его настойчивые просьбы о принятии «под государеву высокую руку», которые в Москве осторожно отклоняли. Никон отвечал, что «наше же пастырство о вашем благом намерении, хотении к пресветлому государю нашему, его царскому величеству, ходатайствовать и паки не перестает».
Патриаршьи усилия не прошли даром. В октябре 1653 г. Земский собор принял решение «против польского короля войну весть», а Хмельницкого с войском Запорожским «з городами их и з землями принять». Характерно, что риторика этой войны совершенно лишена мотива борьбы за объединение Русской земли и даже борьбы за «государеву отчину». В обращении к русскому войску говорилось, что его поход является ответом на «неправды» польских королей и их гонения на православную веру. В воззвании, адресованном православным жителям Польско-Литовского государства, подчеркивалось, что цель московского царя – защита от гонений «святой Восточной церкви Греческого закона» и освобождение православных от власти иноверных правителей – «сопостат Божиих». «Поход должен быть стать своего рода „священной войной“ и… привести к освобождению православных на территории Восточной Европы от религиозного угнетения» (Б. Н. Флоря). (И позднее, даже в секретной дипломатической переписке, говорилось, что царь принял «черкас» под свою защиту «для единой православной веры греческого закону».) Несколькими месяцами ранее Алексей Михайлович, в разговоре с греческими купцами, пообещал освободить восточных единоверцев от турок: «Я принял на себя обязательства, что, если Богу угодно, я принесу в жертву свое войско, казну, даже кровь свою для их избавления». А еще раньше, в феврале началась церковная реформа, «исправляющая» русские богослужебные книги и обряды по греческому образцу.
Связь между этими событиями очень простая – в чаемую царем и патриархом всеправославную империю должны были войти миллионы новых подданных, молившихся по другому, чем русские, уставу – Иерусалимскому (в том числе и малороссы). Следовательно, обряд нужно унифицировать, следовательно… а дальше поразительная логика – обряд обязаны изменить не освобождаемые ценой русской крови народы, а их освободители! Так впервые русская власть ради имперской химеры пожертвовала интересами и ценностями своего народа. Давно уже доказано, что русские вовсе не исказили свой обряд, а просто сохранили черты более древнего, изначально ими полученного из Константинополя устава. Никон, конечно, этого не знал, но показательно, что он бескомпромиссно предпочел греческий образец, даже не подумав о возможной равноправности двух этих уставов в будущей империи, что не противоречило никаким канонам. Таким образом, «под предлогом вселенской полноты старорусское заменяется новогреческим» (Г. В. Флоровский). Комплекс культурной неполноценности честолюбивого парвеню, испытываемый Никоном по отношению к грекам, совершенно затмил его разум. «По самому своему характеру склонный к увлечениям и крайностям, мало способный соблюдать меру и осторожность в чем бы то ни было, Никон и в своем грекофильстве доходил до крайностей, не знал меры. „Хотя я русский и сын русского, – торжественно заявлял он, – но моя вера и убеждения греческие“… Никон… переносит к нам… греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие мантии и клобуки, греческие напевы, приглашает на Русь греческих живописцев, мастеров серебряного дела, строит монастыри по образцу греческих и дает им греческие названия, приближает к себе без разбора всех греков, слушает только их, действует по их указаниям, повсюду выдвигает на первый план греческий авторитет» (Н. Ф. Каптерев). «У Никона была почти болезненная склонность все переделывать и переоблачать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и все переодевать по-немецки или по-голландски» (Г. В. Флоровский). И это при том, что патриарх был искренним адептом учения о Руси как Новом Израиле, о чем, в частности, свидетельствует строительство им в Подмосковье Новоиерусалимского монастыря.
Поразительно и то, как была произведена реформа. Никакого соборного обсуждения, никаких совещаний, хотя бы с архиереями. Русскую церковь и ее паству просто поставили перед фактом – по московским приходам было разослано повеление, что «не подобает во церкви метания творити по колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще и тремя перстами бы есте крестились». Властный произвол – главный принцип московского правления – явлен здесь в дистиллированном виде. Но ранее все же произвол этот, подавляя всякую независимость русских людей от власти, не покушался на их компенсаторную гордыню перед другими народами. Москва знала, что она Новый Израиль или Третий Рим, хранитель истинной, незапятнанной отступничеством христианской веры. А тут оказалось, что хранили вовсе не истину, а ложь, а истине надо учиться у оскверненных унией с латинянами и рабством у басурман всеми презираемых греков. Что у них было доброго, то все к нам перешло – считали на Руси; греческих купцов называли «неверными» и нередко не пускали в русские храмы, так что греки принуждены были просить себе в Москве особой церкви.
Народное большинство не могло не воспринять введение нового обряда как очевидное русское унижение. «Учат нас ныне новой вере, якоже… мордве или черемису», – с обидой писали соловецкие монахи в челобитной царю Алексею 1667 г. Она проводилась греками, в свою очередь тоже презиравшими «московитов» как варварский, непросвещенный, «несовершеннолетний» народ (а также приезжими малороссами, подозреваемыми москвичами в «латинской ереси»), которые всеми силами старались дезавуировать новоизраильскую/третьеримскую идею русской избранности. Церковный собор 1666–1667 гг. осудил и запретил «Повесть о Белом клобуке» и постановления Стоглавого собора 1551 г.; было даже запрещено писать на иконах лики митрополитов Петра и Алексея в белых клобуках. «Эти резолюции явились своего рода историко-философским реваншем для греков. Они отомстили русской церкви за упреки по поводу Флорентийского собора и разрушили этими постановлениями все обоснование теории Третьего Рима. Русь оказывалась хранительницей не православия, а грубых богослужебных ошибок… Все осмысление русской истории менялось постановлениями собора… Читая эти деяния собора, историк не может отделаться от неприятного чувства, что и лица, составлявшие текст постановлений этого полугреческого-полурусского собрания, и принявшие их греческие патриархи формулировали эти решения с нарочитым намерением оскорбить прошлое русской церкви» (С. А. Зеньковский).
Но на том же самом соборе, где подверглась поруганию старая русская вера, был лишен патриаршего сана и извержен из епископского достоинства Никон, дерзко возомнивший, что его духовная власть выше светской монаршей власти. В принятых послушными царской воле восточными патриархами правилах появилось указание: «Патриарху же бытии послушлива царю, яко же поставленному на высочайшем достоинстве». В случае возникновения разногласий царь получал право просто смещать патриарха. Ранее от самодержца фактически зависело его и других иерархов назначение, но их самовольное низложение считалось беззаконным насилием, что признал сам же Алексей Михайлович, покаявшись в 1652 г. за проступок своего грозного «прадеда» в отношении митрополита Филиппа. Теперь же провозглашалось, что «никто… не имеет толику свободы да возможет противиться царскому велению – закон бо есть». «Это было новое и совершенно неожиданное утверждение господства царя и государства над церковью, основанного на принципе божественного права государя» (С. А. Зеньковский).
Единственным более-менее устойчивым, хоть и неписанным, ограничением русского самодержавия доселе оставалась его религиозно-нравственная «отчетность» перед церковью в качестве социального гаранта соблюдения христианских заповедей. Алексей Михайлович, устранив и лидеров старообрядцев, и их главного оппонента Никона, расколов и обессилив церковь, вывел царскую власть и из-под религиозной санкции. В результате, как формулирует А. Г. Глинчикова, произошел переход «от национального теократического государства к патерналистской светской империи»: общество сохранило прежний патерналистский тип подчинения, а власть добилась полного освобождения от какой бы то ни было моральной ответственности за свои действия перед обществом.
Особо нужно поговорить о старообрядчестве. В последние годы некоторые авторы попытались представить его как русскую Реформацию во главе с русским Лютером – протопопом Аввакумом (А. Г. Глинчикова), русскую национальную альтернативу нарождающейся империи (Т.Д. и В. Д. Соловьи), модель развития гражданского общества в России (Д. В. Саввин) и т. д. Подобные формулировки мне представляются излишне радикальными (скажем, в старообрядческой мысли, продолжавшей традиции московской культуры, так и не оформился концепт русского народа), но, безусловно, некие зародыши всего упомянутого в учении и практике приверженцев старой веры видны. В некоторых отношениях они были «архаистами-новаторами», «консервативными революционерами». Например, в их утопии «оцерковления мира», в которой намечались очертания проекта социально ориентированного православия. Или во вполне демократическом требовании участия рядового белого духовенства и мирян в управлении церковью; право это, по их мнению, принадлежит «не единым бо архиереям, но в мире живущим, и житие добродетельное проходящим, всякого чина людям». И указанный принцип ревнители благочестия отстаивали, несмотря на гонения и казни, отказавшись подчиняться авторитету церковных иерархов, покорно пошедших, за единичными исключениями, на поводу у Никона.
Сам факт массового неповиновения властям – как духовным, так и светским – свидетельствует не только о незаурядной силе веры, но и глубинном социокультурном нонконформизме миллионов простых русских людей. Насельники Соловецкого монастыря оборонялись от правительственных войск восемь лет и на седьмом году прекратили молиться за «царя-ирода». Даже в Москве старообрядцы умудрялись устраивать диссидентские акции, так, в 1681 г. некий старовер Герасим Шапочкин влез на кремлевскую Ивановскую колокольню и разбросал оттуда «воровские письма на смущение народа». В 1682 г. старообрядцы попытались взять на себя роль идеологов стрелецкого бунта (знаменитая Хованщина), после подавления которого наиболее яркий «раскольничий» оратор Никита Добрынин, прозванный оппонентами Пустосвятом, был «главосечен и в блато ввержен, и псам брошен на съядение». Позднее такие идеологи старообрядчества, как братья Андрей и Семен Денисовы, выдвинули идею, что сувереном Руси является не «великий государь», а «все русские города и деревни»; в их сочинениях подчеркивается приоритет соборного начала над иерархическим. В поморских старообрядческих общинах, опиравшихся на демократические традиции русского Севера, управление было выборным, а все решения принимались большинством голосов.
Аввакум в своем великом «Житии» и других произведениях тоже был несомненным новатором, пролагавшим новые пути для национальной культуры. Его привязанность к «русскому природному языку» была осознанной культурной позицией: «…не латинским, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетелями хощет, того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго». Обращаясь к царю Алексею, он писал: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает нам говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лучше тово?» А. М. Панченко справедливо сопоставил эти рассуждения огнепального протопопа с написанной более столетием назад «Защитой и прославлением французского языка» поэта и теоретика «Плеяды» Жоашена Дю Белле: «Если оставить в стороне религиозный момент, то мысли Дю Белле и мысли Аввакума оказываются почти тождественными. Аввакумово сочетание „природный язык“ адекватно французскому langage naturel, английскому native tongue, польскому jezyk przyrodzony. Все это ренессансная и постренессансная лингвистическая терминология. Передовые умы Европы в XVI–XVII вв. уже не видят в национальных языках lingua vulgaris. В них видят качество „натуральности“, их ценят за общеупотребительность и общепонятность, и в этом плане они имеют множество преимуществ перед греческим и латынью… Множатся утверждения, согласно которым национальные языки могут использоваться как языки культуры и науки».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?