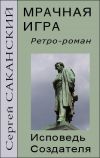Текст книги "Время бесов"
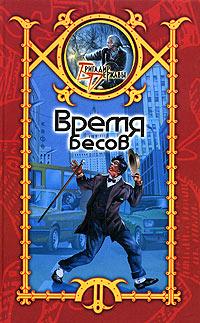
Автор книги: Сергей Шхиян
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем,
Мы свой, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
После двух первых куплетов песня начала размываться и глохнуть. Скорее всего, дальше революционеры не знали слов. Мне показалось, что эти пьяные, нестройные голоса, таким образом вдохновляют себя на новые подвиги по разрушению старого мира, Я на всякий случай вышел в сени за топором и положил его под лавку, на которой лежал раненый. Чей-то высокий голос завел, было, «Удалого Хасбулата», но певца не поддержали. Я сел рядом с Иваном Лукичом, наблюдая за тем, что делается во дворе.
– Чего они там? – слабым голосом спросил он, когда я, чтобы лучше видеть, припал к стеклу.
– Собрались искать самогон.
Действительно, из амбара вышли трое, кучерявый стрелок, низкорослый в кожаной куртке и чахоточный, которого я узнал по сутулой фигуре. Они начали о чем-то совещаться, временами показывая пальцами на избу. Разговора слышно не было, но понять о чем совещались соратники, было несложно – продолжить или нет выбивать из хозяина спрятанное зелье.
На счастье Ивана Лукича, пересилила точка зрения о более широком спектре поисков, и троица пошла не в сторону избы, а к воротам. Оставшиеся в сарае товарищи опять запели «Интернационал», но без прежнего звероватого подъема. Я, наконец, смог немного отдышаться и расслабиться.
Что мне было делать в подобной ситуации? Я знал, чем кончались во время гражданской войны крестьянские выступления против Советской власти и, в отличие даже от самих большевиков, был в курсе того, что они пришли к власти «всерьез и надолго». При полном бесправии народа и беспределе местных властей любое противостояние кончилось бы для крестьян однозначно – Хатынью.
Гениальные руководители молодой Советской республики еще до того, как пришли к власти, поняли, что двойные стандарты ни в политике, ни в морали недопустимы Стандарт должен быть один, их, а тем, кто с ним не согласен, легче заткнуть рот пулей или завязать губы колючей проволокой, чем потакать или переубеждать.
Между тем, в амбаре затянули революционную песню: «Мы жертвою пали в борьбе роковой». Пели ее душевно, протяжно, с грустью. Видимо, сказывалось отсутствие спиртного
Послы не возвращались уже больше получаса, и песни делались все протяжнее и тоскливее. Наконец, не выдержав неизвестности, во двор вышел сам командир. Сначала он помочился прямо около входа, потом вразвалку направился к воротам. Я видел в окно, как он вышел на деревенскую улочку и услышал пронзительный, переливчатый свист. Тотчас ему ответили не менее замысловатым посвистом.
– Вы скоро? – крикнул он.
– Уже идем! – откликнулись пропавшие товарищи.
Командир остался на улице и ждал, пока они не подойдут. Неожиданно у ворот заиграла гармошка. Тотчас вся компания высыпала из амбара во двор. Послышались радостные крики и женские голоса. Гогочущей гурьбой продотрядовцы повалили обратно в сарай.
– Чего они там? – спросил хозяин.
– Женщин каких-то привели и гармониста.
– Эх, грехи наши тяжкие! – откликнулась за печью Елизавета Васильевна. – Совсем стыда нет, срам, да и только!
Я не рискнул с ней за одно морализировать по поводу плотских грехов и отошел от окна. Сколько-то времени в амбаре было относительно тихо, и слышалась одна лишь гармоника, как вдруг там опять поднялся гвалт. На улице уже темнело, но лампу мы не зажигали, сидели в темноте. Я подошел к окну и увидел, как из дверей кто-то выскочил и заспешил к избе.
– К нам гость, – едва успел предупредить я, как в сенях со звоном упало что-то металлическое, и в комнату без стука вошел продотрядовец.
– Эй, хвершал, – закричал он, – тебя командир завет! Живо, шагом марш!
Я не стал спорить, встал и двинулся к выходу, а посыльный, вместо того, чтобы сразу выйти, нашел ощупью стол и что-то с него забрал, как я догадался, керосиновую лампу Хозяева на это никак не отреагировали, и мы с ним молча вышли из избы Меня подмывало спросить, что от меня нужно командиру, но я удержался. В амбаре горело несколько свечей, и визжала гармошка Бойцы продотряда толпились вокруг трех женщин. Те выглядели смущенными и, похоже, не знали, что им делать. Около импровизированного стола, на котором стояли две бутыли мутной жидкости, в позе Наполеона в одиночестве стоял командир.
– Эй, ты, – позвал он меня, как только увидел, – иди сюда
Я подошел Командир был сильно пьян и посмотрел на меня бессмысленно и тупо. Вероятно, он уже забыл, зачем я ему понадобился, и пытался это вспомнить Это у него не очень получилось, он недовольно замотал головой, после чего вызывающе сказал:
– Ты кто такой?
– Фельдшер, – коротко ответил я.
– А! Помню! – обрадовался он. – Будешь баб лечить.
– Что значит, лечить? – удивился я.
– Бабы – это народ? – строго спросил он.
– Народ, – согласился я.
– Простой народ должон заботу от Советской власти получать?
– А как же!
– Вот и будешь сейчас бабам клизмы ставить.
Я не стал задавать наивного вопроса, зачем здоровым бабам в присутствии пьяных мужиков нужно делать клизмы, оставив такую сексуальную фантазию на совести красного командира, и согласился:
– Давай клизму, поставлю
– А у тебя что, нет своей? – очень удивился он. – Какой же ты после этого фельдшер!
– Вот такой, без клизмы, – коротко ответил я.
– А со мной выпьешь или побрезгуешь? – задал он мне новую задачу
– Выпью, если ты Карла Маркса уважаешь, – в тон ответил я.
– Карла? Карла уважаю, и еще товарища Троцкого.
– А товарища Ленина?
– А ты про него откуда знаешь? – подозрительно прищурился командир.
– Он мой дядя, – совершенно серьезно сказал я, – а товарищ Крупская тетя.
– Чего? Это как так тетя?
– Вот так.
– За это нужно выпить, – обрадовался командир. – Мы всех товарищей из центра уважаем, особенно из храк, прак, ну, как их там, етишь твою мать, слово забыл. Этих, ну, – он пощелкал пальцами возле моего носа, – вспомнил, фракций! Ты фракции уважаешь?!
– Не то слово, люблю как родных!
– Петька1 – закричал командир. – Подай, кружку!
Петька, крупный детина с непропорционально маленькой головой, отвлекся от ритуала ухаживания, налил полную жестяную кружку самогона и, торопясь вернуться к прерванному развлечению, принес командиру. Тот подержал ее в вытянутой руке, выцедил половину, сморщился, передернул плечами, так что едва не расплескал остатка и передал ее мне.
– Пей, товарищ, это хороший самогон, до сердца забирает!
Я глотнул мутную, вонючую жидкость и поблагодарил:
– Очень хорош1
– Видишь, – с философской грустью сказал командир, – разве при проклятом царском режиме мы такое пивали?
Он икнул и потерял нить разговор. Подумал, опять икнул и прочувствованно попросил:
– Если ты, товарищ, не будешь допивать, то отдай мне.
– Пей на здоровье, товарищ, – от всей души ответил я, возвращая напиток.
Командир жадно допил остаток и, проделав весь положенный ритуал передергивания, гримас и плевков в сторону, уставился на меня:
– А ты кто есть такой?
– Товарищ по партии, – на ухо, таинственно ответил я и, пока он, нахмурившись, соображал, что это значит, отошел к основной группе продотрядовцев. Там в это время во всю разворачивались галантные отношения. Гостьи, в плотном окружении возбужденных мужчин, кокетничая, угощались реквизированным самогоном и конфискованной ветчиной Женщины уже начинали осваиваться с гогочущими кавалерами. Они были некрасивы, мужиковаты и заезжены скудной жизнью и тяжелой работой Кто иной, только не я, мог бы предъявить им претензии по поводу морали. В деревне почти не было мужиков, кроме нескольких, вроде Ивана Лукича, да еще, пожалуй, одноногого гармониста, а природа требовала своего и теперь был их день. Одетые в ситцевые сарафаны и теплые кацавейки, они чувствовали себя нарядными, красивыми и, главное, желанными. Мужики смотрели на них масляными глазами и, не скрывая, предвкушали начало любовного праздника.
Поили молодок из той же жестяной кружки, что нас с командиром, наполняя ее до краев. Женщины по очереди жеманились, сразу не принимали переходящий «кубок», их неуклюже улещивали, после чего они соглашались принять угощение и лихо заглатывали спиртное.
Я предвидел, чем все это кончится и прикидывал, как незаметно уйти. Однако, пока это было невозможно, продотрядовцы еще не упились и сохраняли бдительность. Зачем я им понадобился, было непонятно, но как только подходил к дверям, кто-нибудь непременно окликал и требовал, чтобы вернулся.
Я исподволь рассматривал буревестников революции и ничего особенно зверского в них не находил. Обычные мужики, в основном деревенские, хотя командир и с ним еще двое больше походили на мелких уголовников. Сам командир совсем сломался и в стороне ото всех маршировал по амбару, ни на кого не обращая внимания. Уголовная парочка больше помалкивала, но ненавязчиво строила и подначивала остальных. Они, кстати, лучше чем деревенские товарищи держали хмель, и когда на них не смотрели, пакостливо переглядывались.
Уже обозначились «доминантные самцы», те, кто больше водки алкал женской нежности. Они начали оттеснять от бабенок менее активных участников пиршества.
Обстановка постепенно накалялась и произошло несколько коротких стычек. Напряжение разрядил одноногий гармонист, после неизменных «Страданий» ударивший плясовую Гостьи вырвались из жадных мужских рук, как бы невзначай трогавших и гладивших их самые соблазнительные места и пошли в пляс. Кавалеры заулюлюкали, засвистели, и все завертелось в бешенном танце.
Воспользовавшись моментом, я незаметно подобрался к выходу и, пока никто не смотрел в мою сторону, вышел наружу.
Ночь была сырая и пасмурная. Тревожно лаяли собаки.
Я быстро дошел до избы и, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить, вошел внутрь. Однако, оказалось, что там никто не спит. Хозяин лежал на своей лавке и тихо стонал, жена и невестка были рядом, не зная, чем ему помочь.
– Что случилось? – спросил я.
– Голова трещит, спаса нет, – ответил Иван Лукич
– Сейчас помогу, – пообещал я. – Все будет хорошо.
– А эти там что? – спросила Елизавета Васильевна.
– Гуляют, – обобщил я развлечения гостей.
– Нет у людей ни стыда ни совести, – сердито сказала хозяйка. – Ничего, Господь их за все накажет!
Глава 3
Празднество затянулось далеко за полночь. Судя по крикам, воплям, визгу и ругательствам, оно удалось на славу. Утром все участники были хмуры и сосредоточены. От вчерашнего добродушия у продотрядовцев не осталось и следа. Теперь это были суровые воины революции, готовые ради нее на любые жертвы.
Несмотря на естественную тяжесть в организмах, они по второму разу перешерстили всю деревню и под вопли озверевших кулаков и подкулачников забрали все без исключения излишки. Даже вчерашние их подруги ревмя ревели не столько от обид, полученных ночью, сколько от принципиальной позиции давешних ухажеров, реквизировавших и у них все съестные припасы.
Излишков набралось столько, что они не вместились на собственные подводы отряда, и ими были мобилизованы дополнительные гужевые средства, чтобы вывезти все продукты разом и помешать кулакам сгноить зерно и картофель в тайных лесных ямах.
Я без дела слонялся по двору Ивана Лукича в его старых подштанниках и армяке, ожидая, когда отряд покинет деревню. Вчерашним друзьям и товарищам я даже не заикнулся об исчезнувшей одежде. Решая важнейшую задачу накормить огромную, голодную страну, наши скромные герои не могли вникать в частные вопросы и заниматься каждой отдельной, бесштанной личностью.
Пока рядовые бойцы продотряда воевали с кулачеством, командир восстанавливал здоровье в горнице Ивана Лукича. Он брезгливо ковырялся ложкой в чашке с простоквашей, мечтая совсем о другом. Уже в который раз он предпринимал допрос раненного случайной, дружеской пулей хозяина, понуро сидящего на лавке у окна:
– Не может у тебя, сволочь, не быть самогона, – строго говори он, – я же у тебя много не прошу, но кружку ты мне налить обязан!
– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили! – упрямился Иван Лукич, раздражая командира своим видом и перевязанной головой.
– Допустим, что ты не врешь, – соглашался тот, – но одна кружка-то у тебя должна найтись! Быть того не может, чтобы у контрреволюционной сволочи не нашлось, чего выпить!
– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили! – упорно твердил старик, видимо, не желая войти в трудное положение тяжелого героя.
– А если я твоих подкулачников по одному стрелять начну? – интересовался командир. – Тогда найдешь?
– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили.
Убедившись, что от старика ничего не добиться, он с отвращением проглотил очередную ложку простокваши Видно было, что ему так муторно, что нет сил даже на такую малость, как привести угрозу с малолетними подкулачниками в исполнение.
– Эй, фельдшер! – окликнул меня командир. – Ты чего это морды всякие корчишь?
– О чем ты, товарищ? – удивленно спросил я вчерашнего приятеля и собутыльника.
– Иди, запрягай коня, повезешь с нами продовольствие в город! – брезгливо приказал он.
– У меня нет коня, и вообще я инвалид империалистической войны, – попробовал отговориться я.
– Если не выполнишь революционный приказ, то станешь не инвалидом, а покойником! – холодно сказал он, для наглядности вынимая из своих необъятных малиновых галифе никелированный офицерский наган.
Как будто в подтверждении серьезности его обещания в соседнем дворе бухнул винтовочный выстрел, и вслед за этим отчаянно завыла какая-то баба.
Командир послушал, будет ли продолжение стрельбы, и поглядел на меня исподлобья.
– Ты меня понял?
– Понял, – ответил я, – только лошадь и телегу мне взять негде.
– Этот вопрос мы решим, а ты считай себя мобилизованным Красной армией. И нечего на меня лыбиться, я не красная девка, убежишь – всю твою семью прикажу расстрелять за дезертирство.
– Не убегу, – пообещал я, за улыбкой скрывая холодное бешенство. – Мы с тобой теперь будем до самого конца, как близнецы-братья.
– Ну, ну, – насмешливо сказал командир, не почувствовав в обещании угрозы. – Посмотрим, фельдшер, как ты будешь служить революции.
Краснозвездный не соврал. И лошадь, и подводу для меня нашли. А вот со штанами вышла промашка, стоило только заикнуться о возвращении одежды, как меня подняли на смех. Пришлось остаться в лукичовских подштанниках
Обоз собирали до трех часов дня К этому времени продотряд всем своим личным составом опять был в лоскуты пьян. Кроме своих восьми, в него «мобилизовали» еще три крестьянские подводы с ездовыми. Больше гужевых средств в деревне не оказалось. За отсутствием мужиков, в ездовые назначили двух женщин, третьим был я. Пока вокруг кипела организационная неразбериха, я сбегал к своему тайнику и принес оттуда спрятанные вещи. Завернул их в занятую у Елизаветы Васильевны старую холстину и спрятал в своей подводе.
Ограбленные, лишенные всех своих зимних запасов продовольствия, деревенские жители выли и стонали и своей несознательностью очень сердили продотрядовцев. То и дело слышались предупредительные выстрелы. Впрочем, не обошлось и без незначительных жертв За саботаж, под горячую руку, расстреляли одноногого гармониста с конфискацией его музыкального инструмента. Кроме того, перебили всех деревенских собак. Последних – для устрашения жителей, и чтобы зря не лаяли.
Наконец, в начале четвертого командир отдал приказ трогаться, Заскрипели несмазанные оси, закричали на лошадей возчики, и подводы начали выползать из деревни. Я был в обозе предпоследним. Меня провожали Елизавета Васильевна и Аксинья с детишками, прощаясь, плакали, как по родному.
– Это все нечистая сила виновата, – говорила, отирая слезы уголками платка старуха, – тебя имущества лишила, а нас и того хуже, по миру пустила. Как теперь зимовать будем?!
Мне нечего было ей ответить и нечем помочь.
Дороги до Ивановки не было никакой, даже грунтовой. Этим, видимо, и объяснялось то, что до сих пор до деревни не добрался пи один продотряд. Двигались мы прямо по берегу вдоль реки, то и дело застревая в зарослях кустарника. Пьяные продотрядовцы ругались, били невинных лошадей и проклинали кулаков и свою тяжелую участь. До темноты мы успели доехать только до села Захаркино, родового поместья моих предков.
Я впервые увидел это село сто двадцать лет назад. До середины правления Екатерины II Алексеевны оно принадлежало государству, потом за непонятные заслуги было даровано дядюшке моего прямого предка. За прошедшее время оно почти не изменилось – те же избы, крытые дранкой, и непролазная грязь на дороге после дождя. Единственно, что стало другим – это господское поместье. В давние времена здесь был небольшой деревянный барский дом, теперь большой каменный, постройки середины прошлого века.
Поместье находилось на выезде из села с противоположной стороны, и что представляет собой новая постройка, я судить не мог, до имения от центра села было не меньше версты. Наш обоз вполз на главную улицу и остановился в центре, около кирпичной церкви. Никакой реакции жителей на это не последовало. Любопытные не высовывались из своих домов, и даже собаки на продотряд не лаяли. По приказу командира все мы собрались около его подводы.
– Здесь чего, коммуна или как? – задал он общий вопрос.
– Вроде коммуна, – ответил кто-то из продотрядовцев, – а там кто его знает.
– А где народ? – продолжил любопытствовать командир.
Этого, понятно, вовсе никто не знал, и вопрос остался без ответа.
– Здесь есть Советская власть или как?! – опять строго вопросил командир, придирчиво вглядываясь в наши лица. – Мы что, так и будем холодать и голодать посреди дороги, пока они прохлаждаются?
Ответить ему никто не успел, потому что с другого конца улицы ударил пулемет, пули засвистели над нашими головами и как горох поскакали по дороге. В мгновенье ока все попрятались под ближними возами.
– Беляки! – закричал диким голосом командир. – Бей гадов!
Однако, оказалось, что вылезать под пулеметный огонь желающих нет, как и попытаться организовать сопротивление неведомому противнику, Революционные герои смогли только смачно материть невесть откуда взявшегося неприятеля. Жертв пока не было. Пулеметчик стрелял не в нас, а просто вдоль дороги.
– У кого есть белая тряпка, – надсаживался командир, – пошлите к этим мудакам парламентера!
Кто его должен посылать и зачем, он не уточнил. Вскоре в этом отпала нужда, постреляв безо всякого толку, пулемет смолк. Вслед замолчал и командир. Мы сидели на грязной дороге, ничего не предпринимая. Невидимый противник тоже никак себя не проявлял.
– Эй, фершал, это чего было? – спросил меня чахоточный продотрядовец, прятавшийся под соседней телегой.
– Из пулемета стреляли.
– Зачем?
– Не знаю.
– А кто знает? – не унимался он.
– Если тебе интересно, пойди сам и спроси, – посоветовал я.
– И, правда, почему не спросить, – согласился он, без опаски встал и вышел на дорогу. Противник огня не открыл, и вслед за первым героем начали вылезать из-под телег и остальные.
– Панкратов, – приказал, пытаясь очистить ладонями свои измазанные дорожной грязью малиновые галифе, командир, – пойди, спроси, чего это они стреляли.
Чахоточный кивнул и без раздумий пошел к месту, откуда работал пулемет. Оставшиеся смотрели вслед, ожидая, когда его подстрелят. Однако, кругом было спокойно, и Панкратов исчез в конце улицы в лиловых сумерках вечера.
– Может, не белые? – с надеждой спросил парень с наивным лицом. – Откедова им здесь взяться?!
Через несколько минут выяснилось, что он был прав. На дороге возникла фигура чахоточного, вместе с какими то вооруженными людьми. Как только группа приблизилась, наш командир смело вышел вперед и закричал, вздевая руку вперед и вверх, как будущий типовой памятник товарищу Ленину.
– Вы чего, падлы, в революционных людей стреляете, мать вашу, так, перетак! Да за такие дела в революционный трибунал и к стенке, как раз-два-три!
– Кто вы есть такие? – не отвечая на обвинения командира, строго спросил высокий, небритый мужчина в рваном, подпоясанном веревкой пальто и студенческой фуражке.
– Мы есть продотряд имени товарища Клары Цеткин, революционной подруги товарища Карла Маркса! – гордо ответил наш командир, – А вы кто такие будете?
– Мы коммунары коммуны имени «Победы мировой революции», – ничуть не тушуясь, сказал человек в студенческой фуражке. – Прошу, товарищ, предъявить ваш по всей форме мандат!
– Ты чего, коммуния, сам, своими глазами не видишь, с кем дело имеешь! – как бы остывая, проговорил наш краснозвездный лидер.
Однако, коммунар строгости в голосе не убавил, напротив снял с плеча винтовку:
– Мне, товарищ, на вас смотреть незачем, ты мне мандат покажи, от имени какой такой Клариной целки вы наш уезд грабите?!
– Мне это даже слушать смешно, товарищ, – опять начал сердиться наш командир, – когда тебе бумажка дороже революционного товарища, с которым ты гнил на каторге и в окопах мирового империализма!
Мне стало казаться, что с бумагами у нашего отряда существовали какие-то проблемы. Так же показалось и заросшему в студенческой фуражке. Видимо на всякий случай, он передернул затвор винтовки и навел ее на нашего командира. Потом сказал официальным голосом:
– Прошу, товарищ, предъявить что положено, а то я, как есть контуженный мировым царизмом, могу случайно и выстрелить!
Нашему командиру не осталось ничего другого, как выматериться и полезть в верхний карман кожанки за бумагами. Бумаг у него оказалось не очень много, всего один потрепанный лист формата А4, с малым количеством написанного от руки текста.
– На, подавись, товарищ, – небрежно сказал он, подавая студенческой фуражке свой мандат.
Однако, оказалось, что небритый, несмотря на свою фуражку, имеет проблемы то ли со зрением, то ли с грамотой. Принятый мандат он читать не стал, а начал внимательно осматривать со всех сторон, даже с чистой, где ничего написано не было.
– Не нравится мне что-то, товарищ, твой мандат, – честно признался он командиру. – А вот штаны твои нравятся, революционные у тебя, товарищ, штаны!
Однако, командир намек на свои галифе, как возможное решение вопроса мирным путем, проигнорировал и, заподозрив небритого товарища в лингвистической некомпетентности, попер на него, что называется, буром:
– Это почему тебе же, товарищ, не нравится мандат, выданный советской властью рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Или ты есть скрытая контра, а не революционный товарищ, пострадавший от несправедливости при проклятом царском режиме?
Студенческая фуражка, несмотря на передернутый затвор и поддержку своих коммунаров, стоящих с оружием в руках за спиной, немного смутился и осмотрел сподвижников в надежде найти у них помощь в прочтении злополучного документа. Однако, те только сурово хмурили брови, были полны пролетарской непримиримости в борьбе с врагом, но читать мандат не собирались.
– Если, товарищ, я сказал, что мандат мне не нравится, то, значит, что он не нравится, и советская власть тут ни при чем! – не очень убедительно, заметил небритый коммунар, теряя свое моральное преимущество.
Тогда, неожиданно не только для всех, но даже для себя, вперед вышел я.
– Если нужно, то я могу прочитать!
– Это кто еще есть такой? – нахмурился небритый, видимо, предполагая, что его таким образом хотят провести.
– Фершал из Ивановки, – подал голос кто-то из продотрядовцев.
То, что я не из отряда небритого, заинтересовало. Он оглядел меня с головы до ног и спросил:
– Почему без штанов?
– Штаны у меня реквизированы продотрядом в пользу Клары Цеткин, – нагло заявил я.
Такой расклад небритого успокоил, как гарантии моей беспристрастности. Он без колебаний протянул мне замызганную бумагу.
– В таком разе читай, товарищ!
Я взял мандат и прочитал его про себя. Бумага была составлена по всей форме с печатью и подписью.
Продовольственный отряд командировался от фабрики имени Клары Цеткин в сельские поселения уезда для сбора излишков продовольствия у сельского население Подписал его какой-то предгубисполкома Родькин.
– Ну, чего не читаешь? – поторопил меня небритый.
– Тут и читать-то нечего, – ответил я. – Написано, что какого-то товарища Иванова направляют на заготовку дров в Тамбовской губернии. А печать почему-то стоит не Тамбовского Губкома, а Волынского сельсовета, Херсонской губернии. И подписи тоже липовые, за товарища Степашина, подписал какой-то товарищ Никишкин.
Мои слова произвели большое впечатление. Все, включая самих продотрядовцев, в упор уставились на покрасневшего командира. Я, поймав кураж, добавил, задумчиво разглядывая бумагу, как бы сбоку:
– И с числами путаница, здесь написано, что мандат выдан еще в шестнадцатом году! Это не мандат, а Филькина грамота!
– Дай сюда! – дико закричал командир. – Я тебе покажу Филькину грамоту!
– Нечего тебе фальшивыми бумагами революционных товарищей обманывать, – отстранился я. – Вот что с такими мандатами делают!
Оттолкнув кинувшегося ко мне командира, я порвал документ на куски и обрывки бросил в грязь.
– Да ты! Да я! – истерично заорал он, засовывая руку в штаны галифе. – Я тебя, контра, сейчас из своего революционного нагана в расход пущу!
– Замучишься, – пообещал я, – только вынь, я тебе его в жопу засуну!
– Да ты! – задергался он, вырывая зацепившийся мушкой за подкладку кармана пистолет.
Однако, воспользоваться им командиру не удалось. У меня уже столько против него накопилось, что не было жалко даже собственного кулака1 Думаю, что такого душевного удара по скрытой контре, революционные товарищи вряд ли когда-нибудь видели. У меня тотчас занемели разбитые в кровь суставы пальцев.
– Ну, ты, товарищ фершал, и бьешь! – уважительно сказал небритый, разглядывая недвижное тело краснознаменного командира, распростертое посредине дороги. – Видать, оченно ты недолюбливаешь скрытую контрреволюцию!
– Ты прав, товарищ, особливо, когда она обижает трудящийся элемент, – в тон ему ответил я, поднимая выпавший из руки командира наган. – Его, гада, послали вроде бы дрова запасать в Тамбовской губернии, а он обобрал целую деревню красных бедняков и прикончил ни за что, ни про что безвинного инвалида.
– Надо бы его в ЧК сдать, – задумчиво сказал небритый.
– Сдать дело нехитрое, там таким штанам очень даже порадуются, – поддержал его я, добавив, однако, в свои слова немного скрытого контрреволюционного подвоха.
Мысль, что вместе с фальшивым товарищем в Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем исчезнут роскошные галифе, попала в голову коммунару и больше ее не покидала.
– Действительно, штаны знатные, да и куртка комиссарская, – задумчиво сказал он, рассматривая лежащего посередине дороги командира. – С другой стороны, мы и сами партейные и можем разобраться по всей строгости. Чего зря товарищей по борьбе отвлекать на всякий мелкий элемент…
Пока мы обсуждали текущее положение дел, бойцы продотряда находились в полном смущении. С одной стороны у них было при себе оружие, с другой – получалось, что они действовали без законного мандата и сами могут попасть под строгий и быстрый пролетарский суд. Чем это обычно кончалось, они знали и сами К тому же, вокруг нас собралось уже человек двадцать коммунаров, да и пулемет «Максим» в конце улицы заставлял реальнее взглянуть на свое положение.
– Верно мыслишь, товарищ, – похвалил я небритого. – Что у нас самих нет классового чутья? Создадим Ревтрибунал и осудим его по всей по революционной строгости.
– Оно-то, конечно, все так, и насчет чутья, и вообще, да как бы чего не вышло!
– А чего может выйти? Пусть фальшивую контру судят его же товарищи, которых он обманом вовлек в контрреволюционную организацию. Но если они проявят пролетарскую сознательность и революционную непримиримость, – сказал я громко, так, чтобы слышали все продотрядовцы, – то отпустим их подобру-поздорову, а если они такие же контрики, как этот, – я кивнул на командира, – то и им мало не покажется!
Мысль небритому так понравилась, что он тут же за нее уцепился.
– Слышали? – спросил он обступивших нас продотрядовцев и коммунаров. – Товарищ дело говорит!
– Мы, чего, мы согласные, – чеша затылок, сказал один из продотрядовских уголовников. – По строгости, так по строгости. Нам Ленька ни сват, ни брат, раз надо, так и засудить можем.
– Правильно говорит Семен, – поддержал его малорослый в кожаной куртке, тот, что первым ввалился в избу Ивана Лукича. – Мы люди маленькие, нам приказали, мы и делали. А Ленька Порогов нам никто Я сам про него подозрение имел, что он скрытая контра и буржуйская сволочь!
– Ну, тогда милости прошу в наш Всемирный дворец борьбы за культуру, – сказал коммунар, указывая на церковь. – А этого гада несите туда же, только осторожнее, чтобы чего-нибудь не повредить.
Бесчувственного командира подняли на руки и понесли в церковь. Следом повалили зрители. Мы с небритым пошли последними.
– Хочу тебя спросить, товарищ, – заговорил он, когда нас никто не слышал, – ты, я смотрю, сильно в политграмоте подкованный, к тому же в одном исподнем. Ты сам-то теми штанами не интересуешься?
– Нет, товарищ, но мне хочется вернуть свои штаны.
– А что ты думаешь про кожанку?
– Мне кажется, тебе она больше подойдет. Ты в коммуне какую должность занимаешь?
– У нас должостев нет, чай, не при царский прижим, мы все между собой равные. Другое дело, что мне товарищи больше других доверяют, вот я и советую им, что делать, когда в том есть нужда.
Разговаривая, мы вошли в церковь. Бывший храм, превратившись во Всемирный дворец борьбы за культуру, утратил многие свои характерные черты культового характера, вроде царских ворот и икон. Из прежних атрибутов в нем осталось только то, что коммунарам лень было оторвать или загадить. Посредине замусоренного зала, на месте алтаря, стоял грубо сколоченный стол, покрытый красным кумачом.
– Прости меня, товарищ, за партийную прямоту, но я до сих пор не знаю твоего имени, – сказал небритый.
– Называй меня просто, товарищ Алексей.
– А ты меня, товарищ Алексей, называй товарищем Августом Бебелем.
– Августом Бебелем? – удивился я, смутно вспоминая, что это какой-то немецкий социал-демократ девятнадцатого века. – Откуда у тебя, товарищ Август, такое интересное имя?
– Нравится? Я его взял в честь незабвенного товарища Бебеля. И тебе советую, товарищ Алексей, назваться более революционно. Можешь Карлом в честь товарищей Маркса и Либкнехта, или Францем в честь товарища Меринга.
– Я подумаю, товарищ Август, над твоим предложением.
Пока мы говорили с небритым Августом, продотрядовцы опустили бездыханного командира Леньку Порогова на каменный пол и толпились над ним, не зная, что делать дальше.
Как организовать Революционный трибунал не знал никто, включая меня. Пришлось импровизировать на ходу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?