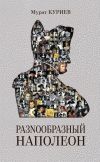Текст книги "Век Наполеона. Реконструкция эпохи"
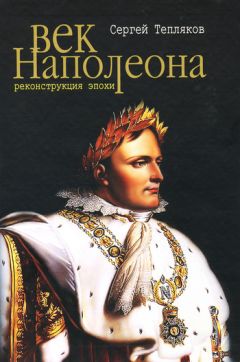
Автор книги: Сергей Тепляков
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
10
Но менявшийся мир менял и женщин: если для большинства современниц родившейся в 1765 году Елизаветы Яньковой «чувствительная» сторона жизни не существовала (описывая, как к ней сватался будущий ее муж, Янькова говорит: «не то чтоб я в него была влюблена», прибавляя «как это срамницы-барышни теперь говорят»), то уже следующее поколение только чувствами и жило.
«Срамницы-барышни» – это дочери сентиментализма, занесенного в Россию в конце XVIII века с переводными книгами из Европы. С него началась гибель привычного Яньковой и ее подругам мира – Наполеон стал лишь одним из знаков этой гибели.
Нельзя сказать, чтобы Россия сопротивлялась новой моде. Первым из русских ее разглядел Николай Карамзин, написавший в 1797–1801 годах «Письма русского путешественника», которые, если бы выкинуть из них лирические отступления и всхлипы вроде: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» и т. п., были бы втрое короче. Но именно ради всхлипов «Письма» и были написаны: «а кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию», – такую отповедь поместил Карамзин в предисловии ко второму изданию.
Родившийся в литературе сентиментализм затем овладел всей жизнью человека, он определял образ мысли, манеры поведения и даже внешний облик людей того времени и прежде всего женщин (мужчины в большинстве своем служили в армии, а быть сентиментальным кирасиром нелегко, хотя, например, пишут, что маршал Ней любил играть на флейте разные трогательные вещи). Так как положено было жить чувствами, а вид иметь меланхолический и томный (проще говоря – больной), то барышни прятались от солнца и ели так мало, что в обмороки падали, не прикладывая к этому каких-то специальных усилий. Плакать положено было от любой мелочи. В литературе и театре сентиментализм означал минимум действия при максимуме переживаний: герои размышляют, терзаются, изводят себя и публику предположениями и предчувствиями. Таковы все герои Карамзина, да и в «Сожженной Москве» Данилевского, а тем более в «Рославлеве» Загоскина главные герои терзаются в лучших традициях Вертера. Сентиментализм был во многом эпохой чувств и слов, а вторгшийся в нее Наполеон провозгласил эпоху дел, и уже этим был для людей своего времени и чужим, и одновременно притягательным – как Кинг-Конг.
Пишут, что одним из свершений революции было то, что она сбросила с женщин оковы корсета. Вернее было бы сказать, что революция почти сбросила с женщин одежду. В Париже, которому подражала вся Европа, женщины в наполеоновские времена носили шмиз – легкое платье с большим декольте и поясом под грудью. В этом тоже была революция: при «старом строе» дамы нещадно затягивались в корсеты, сооружавшиеся из кожаных и металлических пластин, китового уса и дерева. В корсете дама была как в панцире. Можно только попытаться представить разницу ощущений: ведь шмиз шился из легких полупрозрачных тканей (белые батист и муслин, перкаль, газ, креп), вес его составлял всего лишь 200–300 граммов. Поначалу из соображений пристойности под шмиз одевали розовое трико. Однако скоро французские дамы стали пренебрегать трико, оставаясь под платьем совсем голыми. (Жозефина Богарне для пущего эффекта опрыскивала свои платья водой – чтобы ткань липла к телу).
Так как шмиз больше всего напоминал ночную рубашку, парижане в те времена говорили: «Нашим дамам достаточно одной рубашки, чтобы быть одетыми по моде». Эта мода называлась «нагой». (Интересно, что нынешняя мода – топики, открывающие живот и грудь, называется «порно-шик»). Русский писатель Коцебу, побывавший в Париже в 1804 году, писал: «Туалеты, которые сейчас здесь считаются сдержанными и элегантными, сто лет тому назад не разрешались даже женщинам легкого поведения».
Правда, легкие одеяния даже в европейском климате приводили к простудам и чахотке – одна парижская газета советовала тем, кто желает встретиться с модницами, посетить кладбище Пер-Лашез. (Ситуацию спасали кашемировые шали. Моду на них ввела императрица Жозефина – ей шали были присланы Бонапартом в подарок из Египта).
Юрий Лотман пишет, что императрица Мария Федоровна на ужин, после которого император Павел был убит, пришла «в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи – дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной». Возможно, Лотман переоценивает событие: на картине фон Когельгена, изображающей Павла со всем его семейством, женская часть одета как раз в шмизы, из чего можно заключить, что по крайней мере внутри семьи это одеяние скандалов не вызывало.
Потом оно и вовсе прижилось. В первых же сценах «Войны и мира» (июль 1805 года) маленькая княгиня Лиза Болконская на вечере у Анны Павловны Шерер показывает всем «свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой», а Элен Курагина на этом же вечере проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины» – в обоих случаях это тоже шмиз, разве что по особенности климата сшитый скорее всего из тканей поплотнее. (Надо признать, что либо сам Толстой отлично разбирался в женской моде, хоть и отдаленной от него на полвека, либо у него были неплохие консультанты).
11
Пуританскими те времена могут считаться по глубокому незнанию и с большой натяжкой. Ту же Екатерину Багратион в Европе звали «chatte blanche» («белой кошкой») – за безграничную чувственность (а за ее платья – «Le bel ange nu» – «обнаженный ангел»).
В 1805 году она уехала за границу и с мужем своим не встречалась больше никогда! Так, надо понимать, она высказала свое отношение к этому браку. И Павел, и затем Александр смотрели на это сквозь пальцы – лишь бы внешние приличия были соблюдены. Видимо, из этих соображений Александр настоял, чтобы дочь Екатерины, рожденная ею от австрийского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха и без особой конспирации названная Клементиною, была записана в роду Багратионов. (Хотя вполне возможно, что Александр просто от души потешался над ситуацией, в которую попал герой-генерал).
Однако при желании и над Александром мог бы посмеяться любой, кто имел на это достаточно мужества: в 1799 году его жена, великая княгиня Елизавета, родила девочку с черными волосами – это, мягко говоря, необычно, если учесть, что и Елизавета, и Александр были блондинами. Павел, увидев «внучку», спросил статс-даму Ливен, как же так вышло, на что статс-дама ответила: «Государь, Бог всемогущ!». Находчивость не помогла: Павел, как и все убежденный, что ребенок – плод романа Елизаветы с князем Чарторыйским, отправил последнего послом к Сардинскому королю – назначение малопочетное вообще, тем более напоминало ссылку, что король тогда скитался по Европе, лишенный республиканцами-французами своего королевства. А девочка через год умерла…
Незаконнорожденные дети знати – это было целое явление в ту эпоху, не зря и Толстой ввел в «Войну и мир» бастарда – Пьера Безухова. Вольная жизнь и отсутствие действенной контрацепции создавали в дворянской среде немало казусов – например, вдруг беременели давно не видевшие мужей женщины (та же княгиня Багратион). Попавшие в интересное положение дамы уезжали рожать за границу, а вернувшись в Россию, объясняли наличие младенца по-всякому. Внучка Кутузова Екатерина Тизенгаузен (ее отец послужил Толстому прототипом в сцене, когда князь Андрей со знаменем в руках увлекает за собой солдат при Аустерлице – правда, Федор (Фердинанд) Тизенгаузен при этом был убит) в 1825 году вернулась из-за границы с мальчиком Феликсом. Она говорила, что мальчика будто бы передали ей на воспитание, но в свете полагали, что мальчик – ее сын от принца Фридриха Вильгельма Людвига Прусского (потом – король Фридрих Вильгельм Четвертый), который к тому времени уже два года как был женат на баварской принцессе Елизавете Людовике.
Косвенных подтверждений тому немало: например, крестным отцом мальчика стал император Николай Первый, давший ему от себя отчество Николаевич. Фамилия Эльстон также была присвоена царским указом. Есть ее комическое объяснение – будто бы о незамужних женщинах, которые вдруг ни с того ни с сего родили ребенка, тогда говорили по-французски «elle c'etonne» – «она удивилась». Если это так, то царь, делая эти слова фамилией, потешался от души.
Интересно, что от следующего императора, Александра Второго, Феликс Николаевич получил еще одну фамилию – Сумароков: тесть Феликса Николаевича Сергей Сумароков сыновей не имел, но царь решил, что столь знатный род не должен пресечься.
Один из организаторов убийства Распутина – князь Феликс Юсупов. Несмотря на фамилию, он внук Феликса Сумарокова-Эльстона, а Юсуповым стал, женившись: в роду Юсуповых не было сыновей, и, дабы 400-летний род не пропал, царь разрешил Феликсу Феликсовичу именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном. (Кроме древности рода, Юсуповы были еще несметно богаты: упоминаемый Яньковой Николай Юсупов не помнил на память все свои имения и при надобности сверялся по специальной книжке, «в которой по губерниям и уездам записаны были все его имения»). Впрочем то, что убийца Распутина прямой потомок толстовского персонажа – факт довольно известный: по поводу того, как причудливо тасуется колода, есть работа немецкой исследовательницы Нормы Манн «Похищенная смерть». Тизенгаузенами Норма Манн, как и некоторые другие, заинтересовалась через Пушкина: поэт ухаживал за дочерью Фердинанда Дарьей (и даже удачливо – описывая в «Пиковой даме», как Герман крадется в спальню к Лизе, Пушкин излагает свои приключения по пути к спальне Дарьи Тизенгаузен, причем в отличие от Германа Пушкин из спальни ушел только под утро). При этом еще и мать Дарьи, Елизавета, дочь Кутузова, будто бы не только дружила с Пушкиным, но и надеялась, несмотря на возраст, на нечто большее.
Иногда незаконнорожденным «на память» давали обрывки законных фамилий: так сын Ивана Трубецкого стал Бецким (уже упомянутый ранее куратор Смольного института). Чаще же родители проявляли фантазию: так, художник Орест Кипренский (сын помещика Дьяконова от крепостной крестьянки) имя Орест получил в честь одного из героев «Илиады», а фамилию Кипренский (изначально – Кипрейский) в честь богини Киприды (еще одно имя греческой богини любви Афродиты). Кипренский оставил множество портретов героев 1812 года, в том числе – портрет Евграфа Давыдова, который долгие годы считался портретом героя-партизана Дениса Давыдова, при том что Евграф и Денис двоюродные братья. (Евграф почти забыт историей и напрасно: в сражении при Лейпциге он потерял ногу и руку, получил Георгия третьей степени и чин генерал-майора, с чем и ушел в отставку. Умер в 48 лет).
Поэт Василий Жуковский был незаконнорожденным отпрыском помещика Афанасия Бунина от пленной турчанки (имя ее было Сальха, а после крещения – Елизавета Турчанинова). Фамилию и отчество будущий автор поэмы «Певец во стане русских воинов» получил от крестного, помещика Андрея Жуковского, который мальчика усыновил. Вторая жена историографа Николая Карамзина была незаконной дочерью Ивана Вяземского от графини Сиверс и приходилась знаменитому поэту Петру Вяземскому сводной сестрой. После рождения она получила фамилию Колыванова по названию города, где родилась (Колывань было старое русское название Ревеля, ныне Таллина). Любимец царя Александра Николай Новосильцев (Новосильцов) был внебрачным сыном сестры графа Александра Строганова. Василий Перовский, в 1812 году колонновожатый свиты Его Величества, попавший в плен в Москве и чудом оставшийся в живых при отступлении французов (его судьба описана в романе Данилевского «Сожженная Москва»), был одним из семи внебрачных детей графа Алексея Разумовского от Марии Соболевской, дочери графского берейтора. Граф деликатно называл своих побочных детей «воспитанниками». Еще одним из них был Алексей Алексеевич (будущий писатель Антоний Погорельский, автор знаменитой страшной сказки «Черная курица, или Подземные жители», написанной в духе Гофмана, с которым Перовский-Погорельский был хорошо знаком лично), в 1812 году вступивший в казачий полк и отличившийся при Лейпциге и Кульме. Он будто бы имел связь с собственной сестрой Анной, в результате чего у них родился сын (будущий писатель Алексей Толстой), в обществе считавшийся племянником Алексея Перовского. (Из этого же рода произошла через поколение Софья Перовская, террористка, повешенная за покушение на Александра Второго).
Участник наполеоновских войн Алексей Орлов был незаконным сыном Федора Орлова, одного из тех братьев, которые возвели на престол Екатерину. Сыну тоже довелось участвовать в перевороте: он командовал кавалерией, которая атаковала на Сенатской площади мятежников. В награду за верность Николай пожаловал Орлову титул графа, и самое главное – помиловал его брата Михаила, считавшегося одним из организаторов восстания и заслуживавшего по мнению царя шестой петли на кронверке Петропавловской крепости. (Это было уже второе чудесное спасение Михаила от верной смерти – в первый раз ему повезло в бою при Аустерлице, где он, эстандарт-юнкер Кавалергардского полка, участвовал в атаке, после которой в живых остался только один из десяти).
12
Из русских царей и цариц были те, чье происхождение вызывало толки. Достаточно известна версия, что Павел Первый на самом деле рожден Екатериной не от императора Петра Третьего, а от графа Сергея Салтыкова.
Император Александр Третий, узнав эту легенду, будто бы сказал: «Слава Богу, мы – русские!» (однако, выслушав аргументы против, царь с не меньшей радостью сказал: «Слава Богу, мы – законные!»). Однако мемуарист Николай Греч приводит рассказ, согласно которому и сама Екатерина могла считаться немкой с большой натяжкой: будущая российская императрица родилась после близкого знакомства ее матери в Париже с Иваном Бецким, незаконнорожденным сыном князя Трубецкого. «Связь Бецкого с княгинею Ангальт-Цербстской была всем известна, – пишет Греч. – Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом».
За русскими царями и царицами также тянется шлейф бастардов. Первый из графского рода Бобринских, рожденный в 1762 году Алексей, был сыном Екатерины Второй и Григория Орлова, от которого получил отчество. Мальчишку передавали от одного придворного к другому, фамилию свою он получил по названию села Бобрики, выкупленного Екатериной ему для прокормления. Интересно, что взошедший на престол Павел отнесся к Бобринскому как к брату: жаловал титул графа и подарил огромный дом в Петербурге. Но самому Бобринскому столица была уже не мила – он уехал в свое имение в Тульской губернии. Бобринские – из тех редких людей, кто остался в истории России не военными подвигами: Алексей Алексеевич (сын основателя рода) развел в России сахарную свеклу и построил первый свеклосахарный завод.
Если из Бобринских никто в наполеоновскую эпоху себя не проявил (основатель рода был слишком стар, а его дети, напротив, еще чересчур юны), то уже первенец цесаревича Павла стал героем Отечественной войны.
В 1768 году к князю Юрию Трубецкому привезли мальчика-младенца и попросили дать ему лучшее воспитание и образование, не беспокоясь о затратах. Мальчик получил имя Иван, отчество Никитич, фамилию Инзов. Других Инзовых среди русского дворянства не было. Толковали, будто фамилия происходит от слов «иначе» и «знать», но даже если это так, то трудно понять, что она означает (тогда уж скорее «иначе зовут»). В 17 лет он получил от самой императрицы Екатерины деньги, достаточные для поступления в полк. Легенда, опираясь на безусловное сходство, гласила, что отец Инзова – император Павел, который, правда, даже после вступления на престол никак Инзова особо не отличал (даже генерал-майором Инзов стал только при Александре, в 1804 году). В год рождения Инзова Павлу было 14 лет – по тогдашним меркам он уже вполне годился, чтобы проверить с кем-то свою способность к зачатию детей. Воевать с французами Инзов начал еще в 1799 году, пройдя в армии Суворова Италию и совершив Швейцарский поход. В 1812 году он был в армии Тормасова и возможность отличиться появилась лишь при отступлении французов из России.
Дослужился Инзов до полного генерала, но главную свою славу среди людей Инзов добыл не военными подвигами, а добрыми делами: став в 1818 году главой Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края России, он выхлопотал переселенцам из Болгарии права и привилегии (личную свободу и свободу вероисповедания, участки казенной земли в 60 десятин на семью, освобождение от уплаты налогов на 10 лет, от военной и гражданской службы, право торговать, строить фабрики и др.), создал органы управления, которые сейчас назвали бы демократическими. Так, все вопросы внутренней жизни, вплоть до разбора судебных дел колоний решало собрание колонистов (громада). Он создавал школы. Старался, чтобы чиновники вырастали из числа колонистов. В неурожайные годы поддерживал колонистов казенными деньгами. Во всем этом был большой государственный смысл: отошедшие к России в результате русско-турецкой войны 1806–1812 годов земли (Новороссия и Бессарабия) нужно было во всех смыслах «приживить» к империи. Инзов, несмотря на солидную разницу в возрасте, сдружился с сосланным на юг Пушкиным, поселил у себя и часто выгораживал поэта после его проказ. Наказывал поэта Инзов с фантазией – отбирал сапоги, чтобы Пушкин не мог выйти на улицу и набедокурить.
Колонисты почитали Инзова и звали его «дядо». Старый генерал велел похоронить его в Болграде (город на Украине). Когда в 1845 году Иван Инзов умер в Одессе, люди на руках несли его гроб в Болград – больше чем за 250 километров. Спустя почти полтораста лет пораженный этим советский поэт Феликс Чуев (автор книги «140 бесед с Молотовым») написал о генерале стихотворение «Попечитель»: «Наместник бессарабский В покое от боев Спасал от доли рабской Монахов, батраков. Простой и неспесивый Герой большой войны – Мы все ему «спасибо» За Пушкина должны…». Интересно, знал ли Герой Социалистического Труда Чуев, что, возможно, пишет про царского сына?
13
Все спали со всеми. Вольные нравы того времени были некой отдушиной – на территории любви все были равны. В соревновании за женское сердце знатность и титул роли не играли.
Когда Александр был еще великим князем и наследником, у него вышла история: влюбившись в княгиню Марью Антоновну Нарышкину (урожденная княжна Святополк-Четвертинская), он вдруг выяснил, что знаки внимания ей оказывает и Платон Зубов! Заключили пари: на чьи ухаживания Нарышкина ответит раньше, тот и победил. Или будущий царь ухаживал как-то не так, или красавица решила его «помариновать», но через некоторое время Зубов предъявил Александру записки, полученные от объекта пари. Александр отступился – правда, на время.
Александр вообще вряд ли был счастлив в личной жизни. Выросший под руководством бабки, он привык подчиняться женщине, а это не лучший навык для мужчины, а тем более – для монарха. Когда в 1793 году его, 16-летнего, и 14-летнюю Елизавету венчали в храме, то еще неизвестно, кого выдавали замуж – может быть, обоих.
На портретах Елизавета (баденская принцесса Луиза-Мария-Августа) удивительно хороша – даже не понятно, чего же искал Александр на стороне. Впрочем, в мемуарах пишут, будто императрица Мария Федоровна, жена Павла, упрекала невестку в холодности, из-за которой Александр будто бы и стал заглядываться на других. При этом, судя по всему, Александр был из тех мужчин, которых нужно прибрать к рукам – тогда они чувствуют себя комфортно. Нарышкина, похоже, так и поступила: насытившись Платоном Зубовым, а, может, и зная от него о заговоре против Павла, который должен был возвести на престол Александра, она сделалась любовницей будущего царя.
Пишут, что она хотела из вторых супруг перейти в первые и даже подбивала царя на развод. Однако Александр на это не пошел. В виде уступки он жил с Елизаветой раздельно (в те времена церковное расторжение брака было крайне сложным делом, и раздельное проживание являлось почти общепринятой формой развода).
Графиня Прасковья Фредро в силу происхождения (ее отец граф Николай Головин был при «малом» дворе великого князя Александра гоф-маршалом, а мать Варвара Головина входила в ближайшее окружение великой княгини Елизаветы) о многом знавшая из первых рук писала в «Воспоминаниях»: «В первый же год связи императора Александра с г-жой Нарышкиной, еще прежде восшествия на престол, он пообещал ей навсегда прекратить супружеские отношения с императрицей, которая должна была остаться его женой только формально. Он долгое время держал слово и вскоре после коронации движимый одним из тех бескорыстных порывов, что были отличительной чертой его характера, даже решил принести жертву во имя своей любви. Он задумал отречься от престола, посвятил в свои планы юную императрицу, князя Чарторыйского и г-жу Нарышкину, и было единогласно решено, что они вчетвером уедут в Америку Там состоятся два развода, после чего император станет мужем г-жи Н.(арышкиной), а князь Адам – мужем императрицы. Уже были готовы корабль и деньги и предполагалось, что корона перейдет маленькому великому князю Николаю при регентше императрице Марии».
Надо полагать, Александр и все прочие участники этого заговора начитались романов, от чего их поступок – отречение, побег, океан, Америка! – казался им очень даже в духе времени. Примечательно, что больше всего здравого смысла оказалось у князя Адама Чарторыйского, который «почувствовал угрызения совести и привел императору доводы рассудка. Ему удалось его убедить, все осталось по-прежнему, и по меньшей мере несколько лет империя наслаждалась покоем». Империя – может быть, а вот император – вряд ли.
«Подкаблучничество» Александра зашло так далеко, что, когда в 1806 году стало известно о беременности императрицы Елизаветы (императрица соблазнилась кавалергардом Алексеем Охотниковым и родила от него дочь в ноябре 1807 года), Александру пришлось выдержать целую баталию. «Г-жа Нарышкина пришла в ярость, – пишет Прасковья Фредро. – Она требовала от императора верности, на которую сама была не способна, и с горечью осыпала его упреками, на что он имел слабость ответить, что не имеет никакого отношения к беременности своей жены, но хочет избежать скандала и признать ребенка своим. Г-жа Нарышкина поспешила передать другим эти жалкие слова».
Мужу ее, обер-егермейстеру Дмитрию Нарышкину, было при начале связи Марии с Александром 46 лет. По традиции времени, он уступил (так, когда леди Эмма Гамильтон стала любовницей адмирала Нельсона, ее муж говорил в обществе: «Лучше иметь 50 процентов в хорошем деле, чем 100 процентов – в плохом». Можно вспомнить и графа Валевского, который едва ли не сам привез Наполеону свою молодую жену Марию). Из шести записанных Нарышкиными детей князь признавал своим только первого ребенка – рожденную в 1798 году дочь Марину. Еще трое дочерей умерли почти сразу после рождения, одна, Софья, прожила до 16 лет, а вот младший из детей и единственный мальчик, Эммануил, увидел XX век – он дожил до 1901 года. Этих пятерых тогдашнее общество приписывало Александру, впрочем, не совсем уверенно – Мария Антоновна не стеснялась изменять своему августейшему любовнику едва ли не у него на глазах (это, кстати, иллюстрация к вопросу, кто в их союзе был главным).
Союз и кончился потому, что Александр застал Марию Антоновну в постели со своим генерал-адъютантом Адамом Ожаровским. Михайловский-Данилевский так описывал этот любовный треугольник: «Государь приблизил к себе сего последнего после Фридландского сражения, в котором убили брата его (Козьма Ожаровский, полковник Лейб-гвардии Конного полка – прим. С.Т.): императора тогда уверили, что Ожаровский в сем брате имел искреннейшего друга, а потому Государь, чтобы утешить его в сей потере, осыпал его милостями. Граф Ожаровский заплатил за сие неблагодарностию, заведя любовную связь с Нарышкиною. Государь, заметя оную, начал упрекать неверную, но сия с хитростию, свойственною распутным женщинам, умела оправдаться и уверить, что связь ее с Ожаровским была непорочная, и что она принимала его ласковее других, потому что он поляк и следственно ее соотечественник, и что она находится в самых дружеских отношениях к его матери. Вскоре однако же измена обнаружилась, ибо по прошествии малого времени Государь застал Ожаровского в спальной своей любезной и в таком положении, что не подлежало сомнению, что он не был щастливым его соперником».
Удивительно, но Ожаровскому это в общем-то сошло с рук и он даже имел наглость (Данилевский пишет «имел дух») не покинуть двора. Фаворитка получила отставку, а вот Ожаровский – нет: из этого заключали, что Ожаровский соблазнил Нарышкину по указанию императора, дабы дать тому повод для разрыва. Было это в 1815 году – только победив Наполеона, Александр почувствовал в себе достаточно сил, чтобы справиться с любовницей.