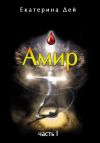Текст книги "Игла в квадрате"

Автор книги: Сергей Трахименок
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вера Зеленко

БЕСЦЕННАЯ И ГРУБАЯ ЖИЗНЬ
Вера Викторовна Зеленко родилась в 1956 г. в Москве, спустя два года вместе с семьей переехала в Минск. В 1979 г. окончила механико-математический факультет Белорусского государственного университета, работала программистом на больших вычислительных машинах. В постперестроечное время переучилась на финансиста, работала главным бухгалтером. Параллельно начала писать прозу. В 2006 г. в журнале «Неман» вышла ее первая повесть «Жить легко». В 2007 г. там же напечатана повесть «Монтенегро». В 2014 г. «Неман» опубликовал первый роман прозаика – «Не умереть от истины», а в 2020 г. следующий роман – «Под куполом карнавала». Увидели свет и отдельные книги автора: «Время ничего не значит», «Не умереть от истины», «Благопристойная жизнь». Рассказ «Родня» – о переломном моменте в жизни главной героини, о родне, ее приютившей, об истоках мироощущения некогда маленькой девочки, о крепкой связи повзрослевшей героини с людьми ее рода и землей, этот род породившей. В широком же смысле повесть рассказывает о людях труда, всегда и везде являющихся солью земли нашей. В поисках места обетованного, где бы героиня могла в радости подрастить своего двухнедельного сына, не думая ежеминутно о предавшем их отце малыша, не испытывая дискомфорта от равнодушного отношения близких людей, она интуитивно возвращается на ту землю, которая никогда не была по-настоящему ее, но из которой идут ее корни. И хотя родня очень разная, подчас весьма далекая от идеальных представлений о правильных отношениях, героиня мало-помалу излечивается от своей тоски, она снова готова жить. Ведь главный урок, который ей преподнесли родные люди, в том и состоит, что жизнь ценна сама по себе. Порой она груба, малопривлекательна, иногда и вовсе уродлива, но это самый бесценный подарок Всевышнего. И отдельные, постоянно ускользающие, но всегда живые и тонкие наблюдения главной героини, неожиданно вторгнувшейся в самую гущу народной жизни, возможно, отчасти объясняют подоплеку надвигающейся беды.
Родня
Это было даже не бегство. Это была полная капитуляция. Признание собственной несостоятельности по всем жизненным позициям. Я даже не была уверена в том, что последние дни действовала вполне осознанно. Во всяком случае, в том, как я собирала ребенка, рвала какие-то старые простыни, складывала их в пеленки, двумя-тремя швами варганила детские распашонки, запасалась молочными смесями и бутылочками на последние деньги, а потом, истратив все до последней копейки, без тени колебания забралась в родительский тайник и вытащила пятьсот долларов, – в этом не было никакого дальнего прицела, а тем более злого умысла. Я действовала почти неосознанно, как по течению не слишком ровного сна, и в этом было лишь одно желание – истребить в себе неутихающую боль, убежать, спрятаться, оградить себя и ребенка от каких-либо посягательств на наше достоинство, на наше право жить и распоряжаться собой по своему усмотрению. Я никому не мстила – я убаюкивала собственное одиночество, свою отдельность, свое право строить жизнь по своему разумению. Я даже не успела дать моему мальчику имя – я постоянно мысленно меняла имена и всякий раз, остановившись на одном из них, начинала вдруг думать, что лишаю его тем самым прекрасного будущего. Просто не было в них некой сочности, некой пружины, которая, разжавшись, сотворила бы благословенную судьбу. Я примеряла Диму и Дениса, Никиту и Антона, они мне нравились своим мягким звучанием, но именно поэтому я и отвергала их – они не отражали моих завышенных ожиданий, они не отражали тех черт, которые я пыталась волевым решением привнести в характер и судьбу моего сына.
Я вскочила в поезд «Минск – Симферополь» в последний момент, все еще до конца не веря, что это может произойти. И только слабое попискивание в нагрудном рюкзачке моего малыша как-то проясняло мое сознание. Тяжелую сумку, в которой было собрано все для ребенка, – мои же вещи все были на мне – помог втащить в купе проводник, толстый усатый дядька со свирепым лицом, но, видно, с добрым сердцем.
– Кто ж с таким малым дитем путешествует в наше время? – только и сказал он.
Вагон был пустой, грязный, громыхающий. В купе уже сидела лет пятидесяти франтиха, расфуфыренная в пух и прах, но и она сбежала через полчаса, за что я ей была чрезвычайно благодарна.
Я страшно хотела спать, я не спала толком ни одной ночи с того дня, как родился мой мальчик. Он кричал днем и ночью, я остервенело совала ему пустышку, самую крошечную из тех, что нашла в аптеке, он так же остервенело (или это только казалось мне) выплевывал ее, и в нашем неравном поединке он одерживал свою первую маленькую победу надо мной. И в этом, я думаю, был определенный смысл, желание продемонстрировать нерадивой мамаше некую матрицу будущих отношений, дать бесплатный урок на будущее – победы над ребенком не может быть вообще – а лишь возможность худо-бедно к нему приспособиться. В те редкие часы после возвращения из роддома, когда он, наконец, обессиленный, забывался коротким сном, я не знала, что делать от счастья, – то ли пытаться заснуть самой, то ли начинать перестирывать гору пеленок, скопившихся за день, то ли бежать в магазин за молоком для себя или в аптеку за зеленкой, ромашкой, присыпкой – для малыша.
Вечером приходили родители, принимали эстафету, баюкали-тетешкали малыша, но в том, как они это делали – без души, без восторга, а лишь по необходимости, я чувствовала, насколько тягостна им вся эта ситуация. Возможно, они считали, что сейчас не самое подходящее время обзаводиться потомством: некогда могучая страна разваливалась на глазах, на карте мира уже гляделась пестрым одеялом, а новую – поди отстрой. Тем временем сестра вообще делала вид, что не замечает моего растущего живота. Позже она нанесла дежурный визит в роддом, поахала: «Какой же он маленький! Да неужели они такие бывают? Да как же ты справишься с ним одна?» – и на том удалилась, раз и навсегда обозначив свою непричастность к событию, словно рождение моего малыша каким-то образом могло вытеснить из ее сердца или сердца родителей (а я думаю, в этом и была главная причина) всеобщую проникновенную любовь к ее девочкам-близнецам или как-то иначе повредить им. Они и вправду были очаровательными созданиями, прелестными, безупречными, совершенными, словно ниспосланными для того, чтобы вознаградить всех нас за примерное поведение или дать понять, что именно таким оно должно быть. Только вот не оценила я высокой награды, не говоря уж о примерном поведении, захотела счастья лично для себя. Таким приблизительно смысловым подтекстом был окрашен наш с сестрой, да и с родителями, долгий внутренний диалог.
Вечером мама говорила великодушно: «Покорми малыша и попробуй заснуть, а я его уложу», – я ей была благодарна, шла в нашу с малышом комнату, валилась от усталости в постель, но заснуть не могла – впечатления дня густо роились в моей голове. Где-то к двенадцати я снова вскакивала к моему мальчонке – едва заслышав его тоненький писк. Я никак не могла взять в толк, почему в роддоме он всю первую от рождения неделю кричал, чуть ли не басом, так что все женщины в палате счастливо сообщали мне: «Твой кричит!» – счастливо потому, что не их дети кричали, а это означало – для них, по крайней мере, – что можно было продолжать с комфортом приходить в себя после пережитого стресса, в отличие от меня, потихоньку сходившей с ума. Вторую неделю – уже дома – мой мальчик перешел на писк, что почему-то внушало опасение нашей участковой врачихе. Я же себя успокаивала тем, что мой ребенок постоянным криком элементарно сорвал свой далеко еще не поставленный голосок.
Я взяла билет до Артемовска. В купе было холодно, очень холодно. Я ощущала бесконечное сиротство… Я сидела не раздеваясь – в куртке, джинсах, в теплом свитере, – я надела на себя много разных шмоток, чтобы не складывать их в сумку и чтобы мне было легче ее нести. Перепеленала ребенка – быть может, не очень умело. Я подсмотрела однажды, как это делала медсестра в роддоме, и старалась копировать каждое ее движение, но так лихо, как она справлялась с ним, обмывая сначала под краном, словно крольчонка, одной рукой, на второй он у нее возлежал, вполне вмещаясь в ее широкой ладони, при этом на лице у нее не отражалось никаких эмоций, а лишь усталость и равнодушие. Потом так же сноровисто, одним движением, она заворачивала его в тугой сверток… Ничего подобного у меня не получалось даже дома, а не то что здесь, в погромыхивающем вагоне, да и, признаться, я всегда боялась его уронить. В купе вагона я действовала хоть и неумело, но очень быстро – все-таки я боялась застудить мою кроху. Но даже в этой суматохе, развернув его, я в очередной раз ахнула, какие точеные, какие филигранные были у малыша пальчики и ноготки, – словом, Ювелир оказался виртуозом. Я покормила его, потом, улегшись на спину, пристроила у себя на груди. Это была его любимая поза, при которой он еще как-то соглашался засыпать. При этом кулек с моим неугомонным ребенком надо было слегка покачивать руками – подталкивать вверх, к подбородку, и, ухватившись за ножки, чуть-чуть тащить вниз, от лица, потом все сначала. Когда его дыхание выровнялось, я застыла и пролежала так довольно долго, боясь пошевелиться, – у меня затекли спина и ноги. Чуть позже я все-таки сняла его с груди, уложила в постель, подоткнув со всех сторон подушками, которые нашла в купе в количестве целых четырех штук. Сама же я легла на полку тетки – той самой франтихи, – да будь она благословенна! – на незастланный матрас (чувство брезгливости давно притупилось) и вытянулась: ужасно болела спина. Я долго искала позу, в которой бы боль меня отпустила.
Малыш проспал до самого утра, лишь однажды проснувшись для кормежки. Дорога действовала на него благотворно. «Будет великим путешественником», – думала я на грани бодрствования и забытья, продираясь сквозь дебри подсознания, выравнивая волей его такую трудную в самом начале судьбу.
И дело было даже не в том, что малыш родился без отца. В конце концов, у всех когда-то бывают биологические отцы, все дети наследуют чьи-то хромосомы, не говоря уже о том, что в первую очередь любой ребенок всегда сначала только мамин – такое вот биологическое неравноправие – и лишь потом… Да что об этом говорить! Потом будет потом. А жить надо сейчас, сегодня, вот в эту минуту. И продолжать верить в разумное устройство мира. И стараться не думать об отце. В конце концов, свое дело он сделал практически виртуозно.
Я же была унижена, оскорблена, растоптана, но я была все еще живая, и, более того, – рядом попискивало мое продолжение. Мне было двадцать восемь, и я еще все только училась жить. А это означало учиться отсекать прошлое или, по крайней мере, все то из него, что приносило боль и тоску. Это означало не ждать от жизни подарков, а довольствоваться тем, что есть, а если все же жизнь вдруг иногда расщедрится и снизойдет до тебя, как, например, в моем с малышом случае, то надо быть просто благодарной ей за это. Я знаю, большое искушение встретить кого-то в жизни, с теплой душой и умеющего сострадать, да так и припасть к этому живому источнику, излучающему свет и любовь, но только тогда, я знаю, теряешь способность держать удар и начинаешь пропускать мячи, или очки, или то, что подбрасывает тебе жизнь. И тогда вдруг приходишь к мысли, что вот так, в одиночку, как будто даже легче, и жизнь не застанет тебя врасплох. Но это только до той минуты, пока не рождается у тебя ребенок. И тогда все твои принципы, все надуманные концепции летят к черту, и ты снова ранима, и снова с ободранной душой и кожей, и снова учишься жить…
Утро было серым и мглистым. Скудный пейзаж за окном не будил никаких запредельных чувств. Кое-где еще лежал снег, и кругом, куда только можно было бросить взгляд, стояла вода. Земля была черная и влажная, она готовилась к самому главному в бесконечном потоке дней и лет – к оплодотворению и возрождению жизни.
Малыш еще спал. Во сне он корчил смешные гримаски, тоненькой трубочкой складывал губки. Мне вдруг так сильно захотелось взять его на руки и прижать, потереться щекой о его щеку, лизнуть в крохотный носик, что я не удержалась и сделала это.
– Ванечка! Маленький! – вырвалось у меня само собой.
Что ж! Вот и родилось имя. Он уморительно сморщил мордашку, но глаз не открыл. Боже мой! Какие сны, какие видения витают над ним? Какая тайна скрыта за семью печатями рождения новой жизни? На пересечении каких миров возникла эта крошечная жизнь?
В дверь постучали, я приоткрыла ее, хотя и с большим трудом – ржавую ручку заедало. Усатый проводник протянул мне стакан янтарного чая и пачку печенья.
– Пей, а то на ногах еле стоишь, – сказал он мне по-отцовски заботливо.
– У меня нет мелких денег.
– Пей! Чего уж там!
Чай был вкусный. Он обжег меня изнутри и вызвал прилив благодарности к человеку, сумевшему в безликой толпе разглядеть меня с ребенком на руках и понять, как я нуждаюсь в теплоте, простой человеческой поддержке.
Поезд подолгу стоял на каких-то малознакомых полустанках. Они были пусты и безжизненны. Ближе к украинской границе наметилось некоторое оживление – начали сновать торговцы валютой, журналами и прочим товаром, поезд стал останавливаться чаще. В тот момент, когда я увидела пограничника, я вдруг отчетливо осознала – сейчас выявится, что каким-то неясным образом я не готова к пересечению границы. И точно. Все оказалось до банальности просто – у меня не было разрешения отца ребенка (какой отец!) на пересечение границы, у меня не было даже свидетельства о его рождении – лишь двухнедельной давности справка из роддома. Я не могла объяснить, куда направляюсь, в какую-то деревню – ее названия я толком не помнила, что-то вроде Бояки от слова «бояться» или Баяки от слова «баять». Пограничник со стертым, изношенным от постоянного использования одних и тех же масок лицом – я даже не помню, какую сторону он представлял, – хищно рассмеялся мне в лицо. Сначала я его уговаривала, потом била на жалость, потом угрожала – никакого результата. И вот, когда его окликнули с другого конца вагона, я поняла, что пора действовать. Мне не было жаль моих денег, просто их было слишком мало, я не знала к тому же, как меня встретят, но возвращаться – в любом случае – я не хотела. Я вытащила из кошелька сотню – мельче у меня просто не было – и будто невзначай положила на столик под паспорт, так что выглядывал лишь маленький зеленый уголок.
– Ну, ладно уж! Чего там! Не возвращаться же тебе с ребенком в такую даль, – сказал он мне вполне дружелюбно мгновенно потеплевшим голосом. В глазах его загорелся небывалый блеск. Я слегка подтолкнула купюру со словами: «Я вам так благодарна!»
– Желаю вам вырастить крепкого и умного человечка, – вымолвил он на прощание. Глумливо это у него вышло. «Уж не такого ли умного, как ты сам?» – думала я, провожая его долгим взглядом.
Поезд все еще стоял на платформе. Минут через пять, услышав шум в вагоне, я выглянула в проход. Бравые солдаты вели под конвоем на выход сухонькую старушку с мальчиком лет шести.
– Сыночек, да отпусти нас, Христа ради! Нам тут осталось час езды. Да неужели у тебя никогда не было матери, окаянный? – это были последние слова, которые услышала я на границе.
Очень скоро я поняла, что никаких пеленок нам с малышом до конца пути не хватит. Я стала комкать газеты и прокладывать их под пеленки, все это было ужасно неудобно, а главное – ничуть не помогало, пеленки заканчивались катастрофически быстро. Вся надежда была на долгую остановку в Харькове – только бы там были в киоске памперсы! Надо было срочно менять деньги. Ну до чего же я неприспособленная! Правду говорит моя мама. Ведь это все можно было предусмотреть.
Вскоре к нам заглянул любопытный пассажир – мальчишка лет пяти – из соседнего купе.
– А кто это у вас – мальчик или девочка? – робко спросил он и стал с интересом разглядывать моего малыша. – А как его зовут?
– Ванечка, – не моргнув ответила я.
– А можно мне его подержать?
Если честно, я сама боялась брать малыша в руки, тем более давать его подержать пятилетнему ребенку. Да только что мне оставалось делать!
– Можно! Ты только посиди, не двигаясь, и подержи его покрепче, а я пойду умоюсь, хорошо?
Я усадила их поглубже, подоткнула со всех сторон одеялами, сказала:
– Не шевелитесь и не дышите!
– Как это? – испуганно спросил мой новый друг.
– Я пошутила, – засмеялась я. – А тебя-то как зовут?
– Тема, – неуверенно ответил он.
– Слушай, Темка! Я быстро! Только умоюсь и назад. Ты, главное, не волнуйся. Ведь Ванюшка спит.
В туалет я, разумеется, с ходу не попала. Я переждала ту самую франтиху, что ушла из моего купе, – с утра она выглядела бледной и увядшей. Я влетела в туалет перед дядькой, нахально буркнув что-то про грудного ребенка. Видит бог, в моем случае это была абсолютная правда. Когда я вышла из туалета, я сразу же услышала, что мой сын кричит вполне прорезавшимся голосом. Я влетела в купе. Моего ребенка остервенело колыхала какая-то тетка – она с укором взглянула на меня, словно вот только что я ей продемонстрировала свою полную несостоятельность как мамаша и не было мне прощения.
– Разве можно одного младенца доверять другому? – возмущенно сказала она.
– Да, вы, конечно, правы, – пролепетала я, не сделав ни малейшей попытки оправдаться.
Она с гордым видом избавительницы покинула наше купе. Я покормила малыша, переодела в последнюю сухую пеленку. Он сразу же повеселел.
Чем ближе мы подбирались к Харькову, тем громче становилась украинская речь, она текла мягкой скороговоркой без обременительных интонаций. Хохлухи на полустанках продавали вкусные пироги, горячую картошку. И я не удержалась – накупила разной еды, удачно выменяв всего десять долларов из целой сотни, остальное валютчик вернул мне моей же валютой. Вот ведь как у них тут устроено: торгуют – почти задаром – вкусными домашними пирогами, которые, мне казалось, можно печь только по вдохновению для своих любимых. Словом, за окном что-то заметно поменялось – народ как-то обмяк, провис, что ли, стал проще и теплее. А может, я почувствовала родную кровь – все-таки одна бабка моя была украинкой, да и дед тоже.
В Харькове я выскочила на грязный холодный перрон, малыш был, как всегда, в рюкзаке – ему там было неудобно, но у него не было выбора, он слабо попискивал на мартовском ветру. Памперсов ни в одном киоске не оказалось, зато я купила вату и какие-то дешевые полотенца, этим я рассчитывала спастись. Рваный ветер сдувал нас с перрона, бил мокрым снегом в лицо, снова загонял в вагон.
После Харькова народ густо пошел по вагонам: что-то меняли, продавали, пели – любым способом хотели заработать копейку. Какой-то молодой парень с гитарой в руках и чистым голосом затянул дивную украинскую песню, он медленно шел по вагону, но никто не дал ему ни полгривны. Когда он поравнялся со мной, я увидела у него в глазах слезы. Мне кажется, он плакал не от бедности, не от отсутствия заработка – от отчаяния: в нем не признали большого артиста. В нем я почувствовала такую же отдельность от толпы, от всего рода человеческого, какую лелеяла все последние дни и месяцы в себе. Я была бы рада что-то ему дать, да только боялась, что скоро сама пойду с протянутой рукой.
Я лежала рядом с заснувшим малышом, с закрытыми глазами, но не спала, когда дверь в купе тихонечко отворилась, – я точно помнила, как закрывала ее на ключ. Я с трудом разомкнула свои отяжелевшие после бессонной ночи веки и вдруг увидела перед собой грязную цыганку с младенцем на руках – он спал, калачиком свернувшись у нее на груди в цветастой шали, переброшенной через плечо. Я вздрогнула – все произошло слишком неожиданно. Кроме того, эта мамашка с младенцем слишком уж напомнила мне меня саму. Она обвела цепким взглядом купе и мгновенно оценила ситуацию.
– Э, красавица, сама родила, без мужа, – резко бросила она. – Да ты не переживай. Все еще будет хорошо, все узлы развяжутся. Он сам за вами прибежит, да только ты… А-а, позолоти ручку…
Дальше я ничего не помнила – ни как открывала кошелек, ни как протягивала деньги. Вот только когда цыганки след простыл, я недосчиталась очередной сотни. Я расплакалась от отчаяния – деньги мои уплывали быстрее, чем я приближалась к своей цели. Перепуганный резким голосом цыганки, мой ребенок орал во всю мочь. Я мучительно вспоминала, что мне сказала цыганка, о чем хотела предупредить, но ничего вспомнить так и не смогла. У меня страшно разболелась голова, я была как будто чуть пьяная.
Часом позже я услышала залихватские звуки гармони – от них что-то задрожало внутри. Я выглянула в проход: гармонисту протягивали руки с деньгами со всех сторон. Ну почему вот так в жизни бывает: часом раньше гитарист и пел вроде бы не хуже, и играл, и лицо молодое, может, чуть провинциальное – да разве в этом дело? Но вот не удалось ему задеть некую тайную струну в людях, зажечь в глазах блеск. Может быть, народ еще в тот момент не проснулся или решил, что артист слишком молод и не следует приучать его к легким деньгам? Под уплывающие звуки гармони я радовалась успеху и признанию одного и плакала невидимыми слезами о судьбе другого. Это были слезы и о себе.
Словом, мало-помалу я приближалась к конечной точке моего пути. За окном вагона бурлила жизнь, далекая от светских раутов, фестивалей и конкурсов красоты, что густо разворачивались на экранах столичных телевизоров. И я вдруг со всей отчетливостью осознала, что она бурлит – независимо от меня, независимо от того, насколько плохо мне или хорошо. Что для всех этих людей вообще не важно, существую ли я на белом свете и какие драмы рвут мое сердце.
Итак, мое путешествие подходило к концу, да только вот незадача: я не знала, не помнила, где мне выходить. Вроде бы станция называлась Раздоловка, что невероятно соответствовало тому раздолью, которое открывалось глазу, стоило лишь миновать последний дом селения, но уверенности у меня не было. Когда-то мы с Тоней – в ту пору она еще жила не здесь, а в своей Никитовке – приезжали погостить к нашей двоюродной племяннице Аленке. Мы выходили на этой самой Раздоловке, а потом час или два – не помню точно сколько – шли пешком. И Тоня, и Аленкина мама Любаша – мои двоюродные сестры, их матери – сестры моего отца, – такой вот сложный семейный расклад, правда, далеко не полный. Это было давно, лет пять или шесть назад, теплый летний воздух струился и дрожал над бесконечными полями с кукурузой и подсолнечником. Тогда я была совсем молодой и мечтала о большой любви.
У меня был еще один вариант: доехать до Артемовска и попытаться оттуда автобусом добраться до деревни Бояки, или Баяки, или еще как-то так. Но когда не знаешь даже названия, трудно быть уверенной в успехе. В общем, я решила выходить на станции Раздоловка, тем более такая значилась в графике движения поезда.
Усатый проводник со свирепым лицом и добрыми глазами подал мне дорожную сумку, после того как я с Ванюшкой осторожно спустилась на перрон, подмигнул мне и сказал на прощание:
– Эх, где наша не пропадала! Если тебя не встретят – приходи, я бесплатно доставлю тебя обратно.
Я вышла на станции – к убогому железнодорожному вокзальчику времен прошлого столетия. Меня никто не встречал. Моему приезду никто не радовался. Я была один на один с жизнью. При этом у меня на груди в рюкзачке посапывал мой двухнедельный сын – самое большое счастье в моей жизни и самое большое испытание.
Я подошла к единственному окошку в зале ожидания, оно было закрыто, и я постучала в него. Никакого результата. Я постучала еще раз, но уже настойчивее. Когда минут через пять оно все же распахнулось и я увидела сонное недовольное лицо, я спросила, – наверно, очень робко, потому что тетка сразу же сжалилась, а может, ее растрогал вид младенца в рюкзачке, – я спросила, как мне добраться до Баяков.
– До Баячивки, маебутэ? – переспросила она. – Да як жэ ты с дитем малым та с сумкой? Туды ж бильшэ, чим пъять километрив будэ, та шлях зов-сим разруины.
– А может, кто подвезет? Я заплачу.
– Ну, попытай свого щастя, – маебутэ, и подвезэ. Тильки машина не пройдэ. Хиба шо яка подвода.
Я вышла из здания вокзала. Сумка оттягивала руку. На углу я увидела нечто, напоминающее очертаниями почту, и побрела в том направлении. Это оказалась на самом деле почта. На последние разменянные гривны отправила родителям телеграмму со словами раскаяния о том, какая я неблагодарная дочь. Я просила их не тревожиться. Обещала непременно исправиться. Я раскаивалась и в самом деле. Ведь не война же, в конце концов, думала я, не великое переселение народов, чтобы вот так с грудным младенцем отправиться в другую страну – налегке, не имея в сумке и одной смены белья.
Я вышла на дорогу. День медлил на переходе к ночи. Небо было серое и низкое. Ветер рвал мои волосы, и я набросила капюшон. Пахло влажной черной землей, птицы тревожно носились над полями – во всем чувствовалось приближение весны – той ранней, которая подобна осени. Сапоги мои стали тяжелыми от налипшей грязи, они были безнадежно испорчены. «А ведь когда-то я отвалила за них круглую сумму», – равнодушно подумала я. Я тащилась из последних сил, мне хотелось присесть, отдохнуть, покормить малыша, он слабо попискивал в рюкзаке – видно, воздух, напоенный терпкими запахами жирной земли, опьянил и его. Но присесть было негде. Закончились хаты, впереди лежала бесконечная дорога, скудные горизонты. Сумка оттягивала мне руку, я постоянно перекладывала ее из одной в другую, пока не поняла, что это ничего не меняет, – я делаю это практически поминутно. Я остановилась у обочины, раскрыла сумку и вывалила из нее все грязные пеленки Ваньки, которые накопились за дорогу, и, хотя по объему сумка резко похудела, легче она не стала. Через полчаса я снова остановилась и выбросила в канаву четыре коробки с молочными смесями, кроме одной, которую я оставила в качестве «НЗ». Ванька вел себя сносно, и это давало мне силы идти. Через полчаса я заметила впереди какое-то деревянное строение, напоминающее очертаниями то ли церковь, то ли часовню. В прошлый мой приезд его здесь не было. Минут через десять я поняла, что не ошиблась. Я бросила сумку у входа, мне было все равно, украдут ее или нет. Да и красть здесь ее было абсолютно некому, не говоря уже о том, что и поживиться-то было особо нечем. Я вошла, внутри все было очень скромно – иконостас по центру, свечи перед аналоем, какая-то старушка неистово молилась на коленях у иконы Божьей Матери, маленькая девочка в огромных резиновых ботах стояла рядом, понуро опустив голову. Мелькнуло лицо немолодого, в черном, священнослужителя. Очень хотелось присесть, но нигде не было ни одной скамьи, и я приткнулась к стене, закрыла глаза и постояла минут десять. Я попыталась вспомнить хотя бы одну молитву. С трудом, своими словами, совсем неумело прошептала «Отче наш», а потом слова раскаяния и благодарности, мольбы о прощении и надежде – все перемешалось в моем воспаленном мозгу – полились легко сами, со слезами вместе.
Когда я вышла из храма, было уже достаточно темно. Наверно, я одолела еще километр, за спиной вдруг послышался звук несмазанной телеги. Вскоре – я все-таки нашла силы обернуться – увидела ее позади: белеющее в ночи пятно своими размытыми очертаниями напоминало лошадь, она понуро тащила за собой раздолбанную телегу.
– Сидай, – сказал мне возница, поравнявшись со мной. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы помочь мне. Я сама забросила сумку, потом аккуратно положила на солому Ваню, потом с трудом взобралась сама, при этом мне пришлось стать спиной к подводе и подпрыгнуть, и только затем взяла малыша на руки.
Всю долгую ухабистую дорогу нас трясло, подбрасывало, я повизгивала на колдобинах, цепляясь одной рукой за борт телеги, другой изо всех сил прижимая к себе Ваньку. Мужик не проронил ни слова. Ему было неинтересно – ни откуда я еду, ни к кому, ни зачем. Я была благодарна ему за это. Я была благодарна всем, кто не вламывался в мою жизнь, не обливался надо мной слезами. Мы въехали в небольшой лесок, лошадь зафыркала. Минут через пять среди деревьев мелькнула большая вода. Пахнуло сыростью и тревогой. На какой-то момент я будто очнулась – в недоумении оглянулась и как бы увидела картинку со стороны: мрачный в ночи лес с уродливыми остовами кряжистых деревьев, заросший пруд с сухими стрелками камышей, впереди – широкую спину мужика в грубом тулупе и за ним… себя с ребенком на руках. Зачем я здесь? Что ищу в чужой стороне?
У самой деревни, раскинувшейся на километры, а эта протяженность определялась даже в ночи по редким огням, возница спросил:
– Дэ тэбэ везты?
– Серебряковых знаете?
– А хто ж их не знае? Пивроку тильки живут, а вжэ прославились, – ответил он равнодушно и повез меня дальше.
Когда мы остановились у вросшей в землю хатки с покосившимся, а кое-где и вовсе провисшим забором, забрехали собаки всей деревни. За забором в свете единственного фонаря я увидела старый, добитый, трофейного вида уазик. «А ведь мы с Ванькой вполне могли приехать со станции на нем», – подумала с запоздалым сожалением я. Минут через пять вышла Тоня. Она всплеснула руками так, как всегда делала наша бабушка, вот только теперь я поняла, насколько она на нее похожа. Тоня запричитала:
– Ой! Что же это такое! Не предупредила, не позвонила. Мы бы встретили тебя на машине. А что же это у тебя в рюкзаке? Никак дите? О Господи!
Мы вошли в хату. Меня обдало удушливой волной деревенского жилья. Я никогда прежде не была в этом доме. Да и Тоня с мужем здесь жили меньше года. Они бежали из небольшого шахтерского городка, в котором был обустроенный, с камином, каменный дом, крепко сбитое хозяйство с разными службами, и даже была маленькая коптильня, но в городке не стало главного – работы. И вот после долгих сомнений, поиска возможных покупателей, которых, понятное дело, трудно найти в малохлебном месте, после долгого торга тот знаменитый дом был продан за копейки, и прикатила Тоня с мужем в деревню, вольно раскинувшуюся среди холмов, богатую черноземом, а значит, в доме всегда будет еда. Вот только работать придется от зари до зари – чтобы на новом месте заново отстроить жизнь.
Тоня не задала мне вопроса, которого я ждала и больше всего боялась. Она сразу же начала греть воду для Ваньки, побежала за молоком к соседке – для меня. Виктор улыбался мне, но по тому, как улыбка, в конце концов, застыла у него на лице, я поняла, как много проблем я принесла в дом.
– Витя, я ненадолго. Может быть, до конца лета. Я привезла кое-какие деньги. Они ваши.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?