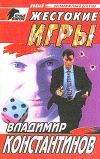Читать книгу "Черный треугольник"

Автор книги: Сергей Зверев
Жанр: Шпионские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 8
В Лебяжьем собралось около ста пятидесяти бандитов. И идти с нашими тремя десятками бойцов, из которых только половина – обученные красноармейцы, а остальные из отряда самообороны, было самоубийственно.
Лучше, конечно, дождаться подхода основных сил, да еще бы с пушкой, и по науке взять врага в кольцо, а потом уничтожить. Вот только времени на это у нас не было. Перебежчик с той стороны только что сообщил – весь актив, партийных и двух милиционеров, собрали в старом лабазе в центре села и намерены показательно подпалить, зажарить живьем. При народном сходе. И при живом одобрении крестьянских масс.
Так что надо было штурмовать и с этим не затягивать. Сколько нас поляжет? Ну так на то и война. Тем более когда идет она за правое дело. А правда, она ведь такая – и из огня спасет.
– Ты вперед не лезь, – напутствовал меня красный командир – высокий, молодой, перепоясанный ремнями, очень строгий. – Ты хоть и ОГПУ, но больше по бумагам специалист.
– Не бойся, – улыбнулся я. – В свое время тоже повоевать пришлось. На Гражданской.
Командир с сомнением посмотрел на меня – в свои двадцать четыре года я выгляжу куда моложе. Пришлось коротко пояснить, как попал я в двенадцать мальчишеских лет на войну, где освоил профессию полкового разведчика. А потом еще были курсы красных командиров, где я стал отличником боевой и политической. Так что военной науке слегка обучен.
– В двенадцать лет, – покачал головой красный командир.
– Тогда на возраст не смотрели, – сказал я.
– Ну, тогда сам понимаешь, какая наша наука, – командир подошел к нашей обозной телеге, взял с нее винтовку и протянул мне: – Владей.
У меня даже как-то на душе потеплело. «Мосинка», родная моя винтовка, с такой вот столько пережито. В умелых руках оружие серьезное и очень надежное. И штык еще к ней – вещь полезная. В общем, повоюем.
У самого командира оружие было редкое и весьма необычное – пистолет-пулемет Томпсона, чудо американской инженерной школы. Скорострельность – девятьсот выстрелов в минуту, можно кусты сбривать. Дисковый магазин на пятьдесят патронов. Таких бы побольше, и можно горы своротить. Видел я такой только в нашей оружейке и в единственном экземпляре. Интересно, откуда он оказался в обычной пехотной части? И еще интереснее, как он покажет себя в бою?
И вот перед нами Лебяжье – большое, зажиточное село, на множество дворов. К нему вела широкая дорога. На околице она была перекрыта баррикадами, за которыми щерились винтовками враги. Их много. Мне кажется, даже чересчур. При таком подавляющем превосходстве можно согнать их с позиции уж очень отчаянным броском и бесшабашным устрашением. Но как это сделать?
– В атаку! – не став тянуть кота за хвост, скомандовал командир. – Вперед, братцы! Бей врага!
Растянувшиеся в цепь красноармейцы рванули в атаку. А я, присев на колено, мягко выжал спусковой крючок и свалил прячущегося за перевернутой телегой мужика с охотничьим ружьем. А потом рванул следом.
Я бежал. Едва не споткнулся. Стрелял. Свистели пули. Казалось, прямо над ухом короткими очередями щелкал пистолет-пулемет Томпсона. Атака – это безжалостная лотерея. Кому-то не повезет вытащить несчастливый билет. Кому-то улыбнется счастье, и пуля пролетит мимо.
Вжик – пролетела, проклятая, чуть ли не около уха и ушла вдаль. Значит, не моя была… Бежим. Стреляем. Кричим.
Нам еще повезло, что у «освободителей» не имелось пулемета. Иначе шансов у нас не было бы. Но и без пулемета ответили нам плотным огнем. И я понял – не прорвемся. Положат на подступах.
– Отступаем! – заорал командир. Он понял то же самое и не собирался понапрасну губить своих людей.
Пришлось отходить обратно, к полосе леса, а где-то и отползать под огнем. Перед селом осталось лежать безжизненное тело красноармейца. Еще трое были ранены, и санинструктор бросился их перевязывать.
Мы залегли, чтобы не стать жертвой случайной пули. В нас постреливали, но больше для порядка.
Перевели мы дыхание, лежа на земле и разглядывая противника.
Красный командир задумчиво посмотрел в сторону деревни и сказал:
– Если сейчас не снесем, то, считай, опоздали. Убьют актив. Укрепятся еще сильнее, силу свою почувствуют. Нет, надо их немедленно атаковать.
– Да я завсегда. Коль страшна тебе атака, то ты вовсе не вояка, как говаривал мой комполка. Но вот только как? Вон у них стволов столько. А у нас потери.
– Вторая попытка. Натиск, напор и наглость города берут. Пан или пропал!
Командир огляделся на своих притихших бойцов. Неудавшаяся атака действует деморализующе. И вдруг весело, отчаянно заорал:
– Вперед, красноармейцы! Раздавим контру!
И рванул вперед как бешеный. Я устремился за ним, видя, как срываются с места красноармейцы и бойцы добровольческой дружины.
Хороший командир умеет своей энергией толкнуть вперед бойцов. Подразделение вдруг стало единым, хищным организмом, для которого главное в этой жизни – раздавить врага, впиться ему в глотку зубами. Тут уже не думаешь о себе, о пулях и боли. Ты должен идти вперед. И твоя ярость бежит впереди тебя, пригибая траву и сминая волю противника.
– Ура-а-а! – послышался старый русский клич, заставлявший цепенеть врагов земли Русской многие столетия.
И к этому «ура» добавился отчаянный треск «мистера Томпсона». Командир, отчаянно матерясь, стремительно продвигаясь вперед, щедро поливал обороняющихся, даже не особо стремясь попасть в цель. Патронов он сейчас не жалел, отбросил пустой диск, прикрепил второй.
И расчет на напор и наглость сработал. Крестьяне и есть крестьяне. Сила агрессивная, жестокая, но неорганизованная. И под новым натиском, ошарашенные треском длинных очередей, они сперва пригнулись. Потом один перекрестился и бросился прочь. Вскоре бежали и остальные.
Теперь главное не ослаблять нажима. Перво-наперво – освободить актив. А это значит – стремительно двигаться вперед по селу, где из каждого дома в тебя могли выстрелить.
Красноармейцы действовали достаточно умело, прикрывая друг друга, выцеливая сопротивляющихся. Из двухэтажного деревянного дома по нам открыли отчаянную стрельбу, заставив залечь за укрытиями нашу штурмовую группу.
– Сейчас умиротворим, – пообещал я и рванулся вперед, используя укрытия – сарайчики, дровни, заборы, ямы.
Тут уж мои навыки разведчика сыграли, и я смог подобраться к дому на нужное расстояние. А потом воспользовался моим любимым оружием – гранатой, которую я заныкал еще перед выходом на боевую задачу.
– На! – воскликнул я азартно.
Бросок получился мировой. Угодил я точнехонько в окно на втором этаже, откуда по нам лупили из нескольких стволов. Грохнуло, хлопнуло, пошел дым, что-то осыпалось, треснуло. И оставалось только, не мешкая, ворваться в дом и безжалостно добить шевелящихся. Один мужичонка, оглушенный и не понимающий, что творится, все же вовремя сообразил поднять руки и прохрипеть:
– Сдаюсь, православные! Не казните!
По ходу продвижения по селу мы разметали еще одну баррикаду из телеги и всякого деревянного мусора. Вторая штурмовая группа шла параллельно.
На сельской площади, где бунтовщики уже собрали народ на аутодафе, хватило двух выстрелов в воздух, чтобы враги побросали оружие и сдались.
Основная масса бунтовщиков все же уцелела. Бандиты не бросились грудью на пули, не стали сдаваться. Они просто попытались позорно сбежать из села неорганизованной толпой, подбадривая себя выстрелами в воздух.
Но вот только им это не помогло. С той стороны села их умело размазал подходящий отряд войск ОГПУ, у которого имелся даже пулемет. Застрекотал тот методично.
Вскоре оба наших подразделения начали основательную проверку села. Шли от хаты к хате, стреляя при малейшей опасности. Расставляли во дворах и на улице всех мужчин с поднятыми руками. По ходу выявляли боевиков с помощью освобожденных активистов, отводили негодяев в сторону, борясь с желанием расхлопать их на месте за творимые зверства.
Последним брали просторный кулацкий дом, где окопалась целая группа разбойников. Они отстреливались и сдаваться не желали.
– Выходи, – крикнул я. – Убивать не будем!
Там молчали. Потом послышался глухой мужской бас:
– На нас крови невинной нет. Мы в богопротивных казнях не участвовали! Поклянись, что по совести все будет!
– Да клянусь! – крикнул я в ответ. – Хватит уже кровь лить!
И из дома с поднятыми руками начали выходить бородатые кряжистые мужики, чем-то похожие друг на друга. Первым шел статный пожилой мужчина, смотрящий окрест себя гордо и скорбно.
– Как звать? – спросил я его.
– Пантелеймон Иванович мы. Из Агафоновых.
Ну вот и встретились. Он-то мне и нужен…
Глава 9
Штаб нашей небольшой группировки располагался в Нижнереченске. Пару лет назад поселок городского типа вырос в статусе в ранг города, но все же больше походил на поселок – жалкая одноэтажная застройка, заборы и плетни, сады и огороды. Жил городишко в основном за счет речного порта, небольшой мебельной фабрики и еще нескольких небольших предприятий. Хотя изначально здесь и концентрировалась верхушка антисоветского заговора, но сейчас сюда восстание не докатилось. Да и перспектив оно тут не имело бы – народ в районном центре по большей части рабочий, ему не до крестьянских бунтов.
В административных и общественных зданиях, в заводских конторах разместились штаб борьбы с бунтом, прибывающие войсковые подразделения и сотрудники различных ведомств. Поликлиника была превращена в лазарет, куда доставляли раненых – наших бойцов, противников и просто невинно пострадавших.
В этом лазарете я увидел хирурга, взатяг курящего на крыльце папиросу. Мы церемонно поздоровались. Яцковский опал с лица, взгляд у него был отсутствующий, но глаза наполнились радостным лихорадочным блеском, когда медсестра прокричала:
– Вениамин Ираклиевич, у нас очередной пациент!
И он резко сорвался с места. Было видно, что человек не спит, не ест вовремя, работает на износ и всему этому счастлив.
Другой мой знакомый – Идеолог – со своей свитой обосновался вполне комфортно в здании школы. Оттуда он, как Наполеон, взмахом руки отправлял подчиненных ему агитаторов на идеологический бой – в освобожденные села. Да и сам не стеснялся съездить в растревоженное осиное гнездо и выступить перед народом с зажигательной речью. Это дело он знал и умел.
При отделе милиции имелось несколько камер для временно задержанных и арестованных, но, конечно, наплыв такого количества новых постояльцев они выдержать не могли. Арестовано уже было больше двух сотен человек. Потому несколько зданий на юге города в припортовом районе – склад, нэпманский лабаз, строящаяся картонная фабрика были определены для их содержания. Так появился целый арестантский квартал.
В этот арестантский квартал доставили и мы своих пленных с Лебяжьего. Со старшим Агафоновым я так и не успел обстоятельно переговорить. Лишь закинул вопрос про сына, получил в ответ гордое молчание и понял – орешек крепкий, его стальными щипцами давить надо.
Да и не до него было. Когда пожар вокруг, все для тебя меняется, в том числе приоритеты. Надо тушить огонь и спасаться, а не по заведенной привычке разогревать чайник, резать бутерброд и выкуривать сигару. Ситуация чрезвычайная, не до старых дел, числящихся в твоем производстве. Вот только старые дела имеют особенность никуда не деваться, и к ним все равно придется возвращаться.
Что касается работы с бунтовщиками, то ее был просто завал. Бесконечные допросы, когда перед глазами рябит бескрайняя чреда лиц, и начинаешь теряться, кто же тебе что сказал. Выявление и изоляция зачинщиков. Документирование преступного поведения подозреваемых. То, без чего настоящая чекистская работа невозможна. Долго, нудно, кропотливо, утомительно, зато в итоге перед тобой предстает полная картина, и каждому классовому врагу воздается по заслугам. А «заслуг» у мятежников было немало. Одни вырезанные сельсоветы и убитые учителя с медсестрами чего стоят.
Занимая села и объявляя мобилизацию, бунтовщики набирали людскую массу. Сперва их было не больше двух сотен человек, через пару дней уже семьсот, а сейчас количество подбиралось к тысяче. Вот только с вооружением дела у них обстояли неважно. Часть архаровцев имели винтовки, гранаты, револьверы, шашки из заранее припасенных «Крестьянской вольностью» запасов, а также появившихся после нападений на пункты милиции, военизированные организации. Но у большинства народа были только охотничьи дробовики. А у многих так и просто палки, вилы, топоры.
Передвигались бандиты довольно быстро. Везде изымали лошадей, телеги. Набирали запасы, а иногда просто грабили «большевиков и их приспешников», в которых записывали произвольно кого вздумается, и часто расправлялись жестоко – топориком по голове, засов задвинуть да подпалить запертый сарай. Чего не сделаешь ради народной воли!
Первые дни казалось, что мы с нашими наличными силами, особенно учитывая большие территории охвата, необходимость рассредоточения бойцов, не справимся с этой растущей лавиной. Но я уже имел кое-какой опыт и знал, что страхи эти излишни. Проходил уже такое и в Тамбове, и когда стажировался в специальной группе ОГПУ, заточенной как раз на подавлении мятежей. Потому что повстанцы, особенно из крестьянства, всегда будут организованы и вооружены хуже регулярных войск. А еще вечный вопрос дисциплины, когда каждый архаровец творит, что ему нравится, а не то, что надо. Тем более, как всегда в таком кровавом загуле, в рядах мятежников процветали ощущение вседозволенности и повальное пьянство. Винные склады атаковались в первую очередь. И тогда допивались до свинячьего состояния не только простые мужики, а даже старообрядцы, у которых в обычное время на спиртное строжайший запрет.
Так и получалось, как я просчитывал. Восстание ширилось, но вместе с тем теряло твердость, единство и все больше напоминало размазанную по котелку кашу. Им бы надо в единый кулак собраться, да план подробный составить, да порядок в своих нестройных рядах навести. Успеха, конечно, не достигли бы, но головной боли прибавили бы нам сильно. Однако предводителями овладела иллюзия, что успех в том, чтобы поднять на дыбы как можно больше народу. А там хоть трава не расти. Эх, крестьяне, они и есть крестьяне.
В общем, распространялся бунт, как чума. И, как с чумой, главный метод борьбы – это качественная изоляция. Вот и старались изолировать мы лиходеев, как могли – перекрывали дороги, отбивали у них села. Преследовали. И бойцов нам страшно не хватало, даже с учетом мобилизованных в отряды самообороны лояльных советской власти местных жителей и активистов. Нормальных людей, не поддавшихся общему психозу и видевших, куда мятежники тянут крестьянство и какие порядки заводят, было все же большинство, хотя и не подавляющее.
Наша оперативно-следственная работа приносила свои плоды. Помимо протоколирования бесчинств восставших, мы постепенно восстанавливали схему подполья в других местах, которые еще не горели, но которые контрики намеревались запалить в ближайшее время. В райцентре, в больших селах проходили аресты. Заодно мы загребали всех находящихся на оперативном учете противников советской власти. Изымали оружие. И опять допросы, показания. И снова тягостные мысли по поводу того, насколько крупную контрреволюционную сеть мы проморгали.
Дни шли за днями в непрекращающемся напряжении. Но обстановка постепенно менялась. После нескольких ощутимых ударов по мятежникам их боевой дух начал стремительно рушиться. Да и с идеологией у них все было не так радужно. Против кого воевали – это крестьянам объяснили. Против колхозов и хлебозаготовок. А вот за что воевали и как будет выглядеть их победа – тут уж большой туман и еще большие терзания. А еще часть народа, протрезвев и скинув окутавший их дурман толпы, начинала прикидывать: а что же за их подвиги причитается? И ничего, кроме расстрела, в голову не приходило. Поэтому многих посетила самая здравая в таком положении мысль – пора бежать.
Местами повстанцы отступали. Местами дезертировали. Потом началось общее паническое бегство. Кто просто бросал оружие, кто прятался по домам и затаивался, кто бежал в леса. Восстание было деморализовано.
Бои были порой кровопролитные. Но всегда поле боя оставалось за нами. И вот настал долгожданный миг – последний организованный отряд повстанцев, не более полусотни человек, окопался в селе Тимофеево, куда я и отбыл вместе с бойцами войск ОГПУ.
Начали штурм мы на рассвете и уже к полудню заняли фактически все село, взяв в плен пару десятков бандитов, перебив столько же.
Последние повстанцы засели в белоснежной Свято-Троицкой церкви с золотыми куполами и создавали нам немалые проблемы. Там враг установил пулеметную точку. Оттуда и шпарил по нам «максим» – и где только взяли его, гады, вещь-то дорогая и редкая. И патронов было в достатке – лупили не жалея и достаточно умело.
Мы скрывались во дворах и за домами. И никак не могли подойти к церкви.
Командир отряда ОГПУ, усатый, тертый мужик в кожаной куртке и кожаной кепке с красной звездой, попытался показать пример и попробовал собственноручно снять пулеметчика из винтовки. Но далековато было. Промазал и страшно обиделся:
– Вот ведь сукины дети! Прячутся, как тараканы в щелях!
– Дай-ка я попробую. – Я взял у него «мосинку».
Командир скепсиса не скрывал:
– Ну, давай, уполномоченный, покажи, что вас не только дела подшивать учат.
Да, учили меня многому, притом учила больше война. Это как научиться однажды плавать – навыки никуда не деваются. Я умело скользил между укрытий, прятался за складками местности и строениями. И наконец присмотрел за поленницей удобную позицию, достаточно близко к церкви. Теперь надо было перевести дыхание, чтобы руки не дрожали. А там можно и заявить о себе со всей свинцовой категоричностью.
Противник заметил какое-то движение в моей стороне и высказал свое недовольство длинной очередью. Пули простучали по доскам сарая за моей спиной. Я замер, затаившись. Настала тишина. То ли позабыл пулеметчик обо мне, то ли ждет, когда я высунусь.
Я отполз немножко в сторону. Выглянул из-за поленницы. Вон пулеметное гнездо, в арочном окне под куполом церкви. Даже цилиндр ствола «максима» различим. И зеленый противопульный щиток.
Я поднял винтовку. Замер. Стал ждать. И когда в проеме появилась неприкрытая щитком голова пулеметчика, аккуратно нажал спуск.
Голова дернулась. Пулеметчик распрощался с жизнью. А я заорал что есть силы:
– Готов!
И пулеметчик готов. И я еще годен на что-то!
Главное, теперь не медлить и идти вперед. Враг лишился основного прикрытия. И мне теперь оставалось только контролировать, чтобы за пулемет не сел никто другой и чтобы не откатили пулемет на новую огневую точку.
Наши бойцы ринулись в атаку. Со стороны обороняющихся прозвучало еще несколько винтовочных выстрелов. Но атакующих не могло сдержать ничто.
Вскоре из церкви стали выводить пленных, картинно задиравших руки вверх и нарочито демонстрирующих свою покорность, – их было четыре человека, и умирать они как-то совсем раздумали. Перед ступенями церкви разложили в ряд тела погибших мятежников. Притащили и пулеметчика, который доставил нам столько неприятностей, ранив нескольких наших боевых товарищей.
– Экий ты везучий, – сказал командир отряда ОГПУ, глядя на меня, как мне показалось, с завистью. – Самого Тиунова шлепнул.
– Вот и конец «Крестьянской вольнице», – усмехнулся я, разглядывая человека, утопившего район в крови. Вряд ли он хотел вот так вот закончить свою никчемную жизнь. Вынашивал планы, надувался от самомнения, злобы и самодовольства, считал, что вершит людские судьбы. Это страшно притягательный наркотик – иллюзия вершителя судеб. Ну и в конце концов его судьбе подвел итог мой выстрел из «мосинки». Только я себя вершителем не считаю. Так, инструмент возмездия и средство наведения справедливости.
С задачей мы справились. Правда, останется зачищать много концов, выносить приговоры, искать сбежавших. Но это уже меня не будет касаться. Не моя линия – есть кому с этим работать.
А на мне висит дело сектантов. И я намерен теперь, переведя дыхание, начать тянуть ниточку. То есть допросить старообрядца Пантелеймона Ивановича Агафонова…
Глава 10
– Полтысячи контры. К стеночке бы их всех. Или лучше перевешать. А вы все цацкаетесь! – сплюнул в сердцах Идеолог, наблюдая в окно, как по улице ведут очередную партию пленных.
– Мы ж не буржуи какие-нибудь английские, чтобы массово народ расстреливать, – произнес я, завязывая тесемки на очередной папочке из скопившихся на столе в выделенной мне под рабочий кабинет небольшой комнате, где на полках от старых хозяев остались конторские папки и брошюрки по маслобойному производству. – Все должно быть по закону и по совести.
– По закону! – возмутился Чиркаш. – Эх, размякли мы совсем! Забыли, что такое пролетарская воля, которая сильнее закона! В восемнадцатом всех бы в расход! А Глущин уже половину по домам распустил!
Действительно, руководящий операцией заместитель постпреда ОГПУ Глущин, когда количество арестованных перевалило за все разумные рамки, по окончании необходимых мероприятий и допросов отпустил по домам насильно мобилизованных бандитами и тех, кто просто шел вместе со всеми по дури или со страху, но рук кровью при этом не замарал.
– Это преступная мягкотелость… По закону. Эх, не пытали тебя, малец, в застенках господа белогвардейцы, – с досадой махнул рукой Чиркаш.
Я бы ему много мог сказать. И про застенки. И как вешают. И ты, малец, смотришь, как белогвардейская мразь накидывает петлю на твоих родных – отца и мать, потому что они за большевиков и за революцию. И как потом двенадцатилетний пацан прибивается к полку, ставшему ему родным домом, и уже к четырнадцати становится матерым разведчиком, лазящим в тыл врага, как к себе в прихожую. Но, конечно, говорить я ничего не стал. А просто заметил:
– С бунтовщиками особое совещание разберется. А отпустил их Глущин согласно директиве из Москвы. Представителей сельской бедноты и середняков, участвовавших в контрреволюционной деятельности и не причинивших особого вреда, освобождать, а активным участникам вместо расстрела давать не больше десяти лет.
Чиркаш сделал кислую мину, потом покачал головой:
– Это прям какое-то всепрощение христианское. Неправильно это. Некоторые наши товарищи полагают, что из взрослой личности можно зверя изжить и на его место человека поставить. Главное, только слова правильные найти и ими перевоспитать. Так все это чушь! Раз проснувшегося в душе зверя уже не усыпить! Единственное лекарство тут – пуля!
– Ну, это уж совсем не моего ума дела, – произнес я, меньше всего желая ссориться с влиятельным обкомовским функционером. – Тут пускай мое компетентное руководство разбирается. Кому пару лет тюрьмы, а кому пятерку. Пускай вину свою на социалистических стройках заглаживают. А за зверства и кровь наших товарищей, уверен, расплата одна будет – стеночка.
Когда Чиркаш, выговорившись и вылив на меня ушат своего недовольства деятельностью ОГПУ, все же оставил меня в покое и удалился, я углубился в сортировку и подшивку протоколов допросов. У меня голова шла от них кругом.
Допросить надо было каждого участника и свидетеля. В конторке маслобойной фабрики, отданной под уполномоченных ОГПУ, одного за другим приводили озлобленных или, наоборот, смущенных деревенских мужиков. Некоторые заверяли, что их бес попутал на недостойное дело и никогда больше против родной власти слова дурного не скажут, а пойдут строем в колхоз. У многих же, преимущественно старообрядцев, с раскаяньем были проблемы. Сельские трудяги, не кулаки, а самые что ни на есть эксплуатируемые в прошлом классы, они искренне были уверены, что страдают за правое дело, и по-христиански успокаивали себя: «Это ничего. Если мы терпим за правду, то там, на небесах, нам за это Господь заплатит. А вы, ироды гэпэушные, еще вспомните в геенне огненной, как разорение православному люду чинили!»
Варясь в самой гуще расследования, собирая информацию, я никак не мог отделаться от чувства, которое только крепло с каждым новым допросом, – кто-то сунул фитиль в эту пороховую бочку. Бунт вспыхнул слишком неожиданно и без особых поводов. Не считать же таковыми ставшие уже привычными слухи, которые вбросили в селе Негодово: «Кто в колхоз не запишется, тех на выселки, а хлеб будут весь забирать и по нормам войны выдавать потом». «Командующий» Тиунов же зацепился за это, сорвался с цепи и бросился вперед, не глядя и не думая. Да еще его приспешники умело накалили народные агрессивные настроения. И понеслось!
Один из выживших помощников предводителя поведал, что особой радости Тиунову такое развитие событий не доставило. Не слишком он хотел бунт поднимать именно сейчас. Считал, что время еще не созрело. Но ведь поднял. И наша задача – установить, кто за ним стоит. Но тех, кто мог дать ответ, в живых не осталось…
Когда еще через день мне удалось перевести дыхание и передать руководству подшитые материалы с соответствующей пояснительной запиской, я вернулся к отложенному, но чрезвычайно важному для меня вопросу – разговору с Пантелеймоном Агафоновым. И отправился в припортовые склады, переоборудованные под место предварительного заключения.
Зря спешил. В камерах не было никого. Все арестованные под строгой охраной выстроились во дворе неровным строем. Перед ним, возвышаясь богатырским ростом над окружающими, неторопливо расхаживал Идеолог, агитировал за построение коммунизма и расписывал несмываемую вину собравшихся людей перед пролетарским государством. За ним следовал, как привязанный, хирург Яцковский. Он останавливался напротив некоторых арестованных и тут же осматривал их на предмет травм, увечий и необходимости госпитализации.
Когда я подошел, Идеолог как раз сделал перерыв в пламенной речи и занялся индивидуальной воспитательной работой. То есть принялся докапываться до отдельных повстанцев. Навис над одним из них и грозно вопрошал:
– Бунт сеял?
– Я? – совершенно спокойно отвечал собеседнику уверенный в себе, с прямой осанкой, смотрящий прямо в глаза пожилой бородач. – Наоборот.
Тут я рассмотрел, что этот бунтовщик и был Пантелеймоном Агафоновым, ради которого я пришел.
– Против колхозов агитировал? – не отставал Чиркаш.
– Не агитировал. Свое слово говорил. Нам колхоз не нужен. Нам надо, чтобы старым укладом жилось. А колхозы у себя в огороде устраивайте.
– Ах ты! – Идеолог от избытка чувств замахнулся рукой, но старовер даже не дрогнул.
Я аж зашипел, как от зубной боли. Ну Чиркаш, ну затейник. Зачем, спрашивается, с таким энтузиазмом наламывать новые дрова? Одного бунта мало?
Быстро приблизившись к месту «агитации и пропаганды», я вежливо оттер Идеолога и забрал старовера с собой в сопровождении конвоира.
– Курить, чайку? – завел я разговор в моем кабинете.
– Курить не курим, Богу то баловство неугодное, – устраиваясь поудобнее на стуле, произнес старик Агафонов. – А чайком не побрезгую.
Заварил я на примусе в большой металлической кружке чай и разлил по треснутым фарфоровым чашкам, тоже оставшимся от прошлых хозяев.
– Мягко стелить будете? – улыбнулся старовер. – Так напрасное то дело. Много я не знаю. Не я бузу зачинал. Не я ваших активистов резал. Наоборот, говорил народу, чтобы вилы куда ни попадя не совали. Чтобы волю свою заявили непреклонно, но без крови. Однако разозленный народ, он такой, его просто так не остановишь.
Я внимательно посмотрел на собеседника. Вообще выглядел он больше не арестованным на допросе, а каким-то инспектором, явившимся проверять мою работу. Ни толики испуга, уверен в себе, даже снисходителен. Раньше такое поведение людей вызывало во мне некоторую робость и сбивало. Но за время службы в ОГПУ таких гордецов насмотрелся я великое множество. И большинство из них ломались или хотя бы гнулись, когда за них брались основательно. А некоторые не ломались – тут на сто процентов не угадаешь. Ладно, будем говорить, нащупывать слабые места арестованного и выуживать информацию.
– А дети твои в восстании участвовали? – спросил я.
– Что тебе мои дети? – недовольно произнес старик. – Еще до начала бузы я их отослал подальше. Всех… Почти всех.
– И кого же не отослал?
– А, – только махнул рукой Агафонов, всем своим видом показывая: последнее, что он сделает, – это сдаст своих чад и домочадцев. Но я знал, что один из сыновей точно замечен среди активных участников восстания.
– А Савву ты куда отослал?
Агафонов помрачнел. По его лицу пробежала тень. Он глубоко вздохнул, но тут же вернул себе самообладание.
– Убили его, ты же знаешь, – продолжил я.
– Знаю, – угрюмо кивнул старовер. – Еще как знаю.
– Кто убил – тоже знаешь?
– Тебе-то какая забота?
– Да был я на месте убийства. И труп видел. И человека, хорошо мне знакомого, потом убили те же люди. Так что счеты у нас схожие.
– Схожие? А ты знаешь, что такое кровиночку терять?! – воскликнул Агафонов, на миг сдернув маску невозмутимости.
– Эх, много чего я знаю, – произнес я со вздохом, и всколыхнулась темная масса, лежащая в глубине души, в которой закопана вся горечь моих потерь.
Собеседник почувствовал мой настрой. И, помолчав, начал говорить:
– Пришли ко мне от одного человека. Просили кое-чего.
– Книгу? – спросил я.
– Книгу, – кивнул Агафонов.
– А ты?
– А я отказал. Тогда они, как цыгане, решили дело свое черное через детей моих сотворить – обмануть их, охмурить. Ну, в общем… – Он опять замолчал.
– Как я понимаю, Савва решил сам эту книгу им отдать. Так?
– Правда горькая, но это правда, – кивнул Агафонов.
– В заброшенном месте Савва встретился с покупателем. А за что тот его убил? Чтобы не платить?
– Платить-то он согласен был, только цену назови. Однако книга не та оказалась. И сильно это обидело.
– Ты этого самого покупателя знаешь?
– Нет. Не видел. И не слишком много слышал. От него приходил человек, с ним и разговор был.
– Поможешь мне найти эту таинственную и наверняка неприятную личность?
– Зачем?
– Как зачем? Поквитаться.
– Пустое это, – равнодушно произнес старообрядец. – Дети Сатаны сами себя наказали вечными муками, которые их ждут. Жизнь наша бренная – это ничто, когда знаешь, что за ней стоит жизнь вечная. Главное – спасти душу.
– Лукавишь, старый, – улыбнулся я иронично. – А ведь вижу, что поквитаться хочется.
Агафонов внимательно посмотрел на меня. И неожиданно улыбнулся, правда, невесело. Ну что же, я попал в точку. Староверы никогда не отличались всепрощением и никогда не боялись крови – ни своей, ни чужой.
– Хочется, – согласился он. – Но чем помочь могу?
– Чистосердечным признанием. Все рассказать, до малейшей детали…
– Чистосердечным. – Старовер замялся. – Так тут покумекать надо. Я тебе все, а ты мне что?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!