Текст книги "Песнь клетки. Медицинские исследования и новый человек"
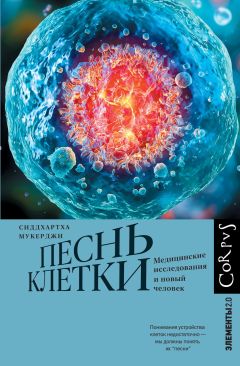
Автор книги: Сиддхартха Мукерджи
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мы сумма частей.
Открытие клеток и переосмысление человеческого тела как клеточной экосистемы ознаменовали рождение медицины нового типа, основанной на терапевтических манипуляциях с клетками. Перелом шейки бедра, остановка сердца, иммунодефицит, болезнь Альцгеймера, СПИД, пневмония, рак легкого, почечная недостаточность, артрит – все эти состояния можно воспринимать как результат аномального функционирования клеток или групп клеток. И все они могут быть объектами клеточной терапии.
Новые возможности, появившиеся в медицине благодаря этому новому пониманию клеточной биологии, можно разделить на четыре основные категории.
К первой относится применение лекарств, химических веществ или физических стимуляций, изменяющих свойства клеток: их взаимосвязь, коммуникацию и поведение. Примерами терапии такого рода является применение антибиотиков для борьбы с инфекцией, химиотерапия и иммунотерапия против рака, стимуляция нейронов электродами для модуляции сетей нервных клеток в мозге.
Ко второй категории относится перенос клеток из тела в тело (в том числе и в исходное тело), например, при переливании крови, пересадке костного мозга или при оплодотворении in vitro.
Третья категория – использование клеток для синтеза веществ (инсулина или антител), оказывающих терапевтическое действие при заболевании.
Совсем недавно появилась четвертая категория – генетическая клеточная модификация и последующая трансплантация с целью создания клеток, органов и тел с новыми свойствами.
Некоторые из этих способов лечения, например использование антибиотиков или переливание крови, так глубоко укоренились в медицинской практике, что мы уже не воспринимаем их в качестве “клеточной терапии”. Однако они появились в результате развития нашего понимания биологии клеток (как мы вскоре увидим, инфекционная теория заболеваний является продолжением клеточной теории). Другие методы лечения, такие как противоопухолевая иммунотерапия, являются достижениями XXI века. Ну а третьи, такие как введение модифицированных стволовых клеток при диабете, настолько новые, что все еще считаются экспериментальными.
Однако все они – как старые, так и новые – представляют собой варианты “клеточной терапии”, поскольку в значительной степени зависят от нашего понимания клеточной биологии. И каждое из этих достижений изменило развитие медицины, а равно и наше представление о человеке и его жизни.
В 1922 году четырнадцатилетнего мальчика с диабетом первого типа вывели из комы, буквально подарив ему новую жизнь, при помощи инъекции инсулина, выделенного из клеток поджелудочной железы собаки. В 2010 году, когда Эмили Уайтхед ввели ее собственные Т-клетки с химерным антигенным рецептором5, или двенадцатью годами позднее, когда благодаря генно-модифицированным стволовым клеткам крови излечились первые пациенты с серповидноклеточной анемией, начался переход из “эпохи генов” в пересекающуюся с ней “эпоху клеток”.
Клетка – единица жизни. Но из этого следует более глубокий вопрос: что такое жизнь? Вероятно, одна из метафизических биологических загадок заключается в том, что мы все еще пытаемся описать суть нашего существования. Жизнь нельзя определить каким-то единственным параметром. Как сказал украинский биолог Сергий (или Сергей, как его звали раньше) Цоколов, “каждая теория, гипотеза или точка зрения принимает такое определение жизни, которое соответствует конкретным научным интересам и предположениям. В научном языке есть сотни рабочих и условных определений жизни, но ни одно из них не является общим”6. (Цоколов, который, к сожалению, умер в 2009 году в расцвете своей интеллектуальной жизни, знал, о чем говорил, поскольку это была и его головная боль. Он был ^гстробиологом, и в круг его интересов входили поиски жизни за пределами Земли. Но как найти жизнь, если ученые все еще не могут дать ей определение?)
Определение жизни можно сравнить с меню. Это не одна какая-то вещь, а набор вещей, набор поведений, серия процессов, а не единственное свойство. Живой организм должен иметь возможность воспроизводиться, расти, осуществлять метаболизм, адаптироваться к внешним стимулам и сохранять свое внутреннее содержимое. Кроме того, сложные многоклеточные организмы обладают так называемыми эмерджентными[6]6
Эмерджентное свойство – это свойство, присущее той или иной системе за счет взаимодействия ее компонентов, но не присущее этим компонентам по отдельности. – Прим. ред.
[Закрыть] свойствами – такими свойствами, которые возникают в системах клеток, например, механизмы защиты от повреждений и заражений, органы со специфическими функциями, физиологические способы коммуникации между органами и даже разум и познание[7]7
Следует пояснить: эти “эмерджентные” свойства не являются определяющими признаками жизни. Скорее это свойства, которые эволюционировали в многоклеточных организмах из систем живых клеток.
[Закрыть]. И далеко не случайно, что все подобные свойства в конечном итоге основаны на клетке или на системах клеток[8]8
Не все клетки обладают всеми этими свойствами. В частности, клетки многоклеточных организмов специализированы: например, за накопление питательных веществ отвечают одни клетки, а за утилизацию отходов – другие. Одноклеточные организмы, такие как бактерии и дрожжи, имеют специализированные внутриклеточные структуры, которые отвечают за эти функции, но у многоклеточных организмов, в том числе у человека, для реализации этих функций появились специализированные органы со специализированными клетками.
[Закрыть]. И в этом смысле жизнь можно определить как наличие клеток, а клетку определить как наличие жизни.
Такое рекурсивное определение – не бессмыслица. Если бы Цоколов встретил первое астробиологическое существо, скажем эктоплазматическое создание из созвездия Альфа Центавра, и поинтересовался, является ли он/она/оно “живым” или нет, он должен был бы выяснить, соответствует ли это существо списку критериев жизни. Или просто спросить у существа, есть ли у него клетки. Трудно вообразить жизнь без клеток, как невозможно вообразить клетки без жизни.
Вероятно, это подчеркивает важность истории клетки: чтобы понять функции человеческого тела, нужно понимать функции клетки. Это нужно, чтобы понимать возможности медицины. Но еще важнее, что через историю клеток мы можем рассказать историю жизни и нас самих.
Что же такое клетка? В узком понимании клетка – это самостоятельная живая единица, играющая роль машины по расшифровке генов. Гены обеспечивают инструкции (код, если хотите) для построения белков – молекул, которые выполняют в клетке фактически всю работу. Белки осуществляют биологические реакции, координируют передачу внутриклеточных сигналов, формируют структурные элементы, включают и выключают гены, чтобы контролировать идентичность, метаболизм, рост и смерть клетки. В биологии они главные действующие лица – молекулярные машины, которые делают жизнь возможной[9]9
Гены обеспечивают матрицу для синтеза рибонуклеиновых кислот (РНК), а те, в свою очередь, расшифровываются и служат матрицей для синтеза белков. Кроме функции матрицы для построения белков некоторые молекулы РНК выполняют в клетке и другие функции, причем не все они уже известны. Также в некоторых биологических реакциях РНК регулируют активность генов и действуют совместно с белками.
[Закрыть].
Гены с инструкциями для построения белков физически организованы в виде двунитевой спиральной молекулы, называемой дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК), которая в человеческих клетках упакована в хромосомы, напоминающие клубки пряжи. Насколько нам известно, ДНК есть во всех живых клетках (но может оттуда исторгаться). Ученые занимаются поиском клеток, использующих в качестве источника информации не ДНК, а другие молекулы, например РНК, но до сих пор не нашли клеток с инструкциями в форме РНК.
Под расшифровкой генов я подразумеваю процесс, в рамках которого внутриклеточные молекулы считывают конкретные фрагменты генетического кода, как музыканты в оркестре читают свою часть партитуры (песнь конкретной клетки), тем самым превращая генетические инструкции в реальный белок. Говоря проще, ген содержит код, а клетка его расшифровывает. Таким образом, клетки превращают информацию в форму – превращают генетический код в белки. Ген без клетки лишен жизни – это инструкция к действию в инертной молекуле, музыкальная партитура без музыкантов, библиотека без единого читателя. Клетки дают генам материальное, физическое обличье. Клетки оживляют гены.
Однако клетка – не просто аппарат для расшифровки генов. Расшифровывая код путем синтеза специфического набора закодированных в генах белков, клетка превращается в интегратор. Клетка использует этот набор белков (и продукты их биохимических реакций) в зависимости от других клеток, чтобы скоординировать их функцию, их поведение (движение, метаболизм, передачу сигналов, доставку питательных компонентов к другим клеткам, обнаружение посторонних объектов), соответствующее критериям жизни. Метаболизм организма определяется метаболизмом клеток. Репродукция организма основана на репродукции клеток. Репарация, выживание и гибель организма основаны на репарации, выживании и гибели клеток. Поведение органа или организма определяется поведением клетки. Жизнь организма определяется жизнью клетки.
Наконец, клетка имеет механизм деления. Внутриклеточные молекулы (опять-таки белки) инициируют процесс удвоения генома. Меняется внутренняя организация клетки. Делятся хромосомы, в которых хранится генетический материал клетки. От деления клетки зависят рост, репарация, регенерация и в конечном итоге репродукция наряду с другими важнейшими процессами жизнеобеспечения.
Я постоянно и давно занимаюсь клетками. И каждый раз, когда я смотрю на них в микроскоп – сияющих, блестящих, живых, – я как бы заново переживаю волнение, которое ощутил, когда увидел их впервые. Днем в пятницу осенью 1993 года, примерно через неделю после прибытия в лабораторию Алана Таунсенда в Оксфордском университете для работы над своей диссертацией по иммунологии, я измельчил мышиную селезенку и поместил этот кровавый суп в чашку Петри с факторами для стимуляции роста Т-клеток. Вернувшись в лабораторию в понедельник утром после выходных, я уселся за микроскоп. Комната была освещена так слабо, что мне не нужно было даже задергивать шторы: в Оксфорде всегда сумрачно (безоблачная Италия словно создана для телескопов, а сумрачная туманная Англия – по-видимому, для микроскопов). Я поместил чашку под объектив микроскопа. Под слоем питательной среды плавали полупрозрачные Т-клетки, которые, я бы сказал, лучились внутренним светом и полнотой – признак здоровых активных клеток. (Когда клетки умирают, это сияние меркнет, клетки съеживаются и становятся зернистыми, “пикнотическими” на языке клеточной биологии.)
“Как глаза, которые смотрят на меня в ответ”, – прошептал я сам себе. И вдруг, к моему удивлению, Т-клетка сдвинулась – намеренно, целенаправленно, в поисках инфицированной клетки, которую она могла бы найти и уничтожить. Она была живая.
Годами позже такое же волнующее и завораживающее ощущение я испытывал, наблюдая за распространением клеточной революции в медицине. Когда я в первый раз увидел Эмили Уайтхед в Пенсильванском университете в освещенном флуоресцентными лампами коридоре рядом с аудиторией, у меня возникло ощущение, что мне позволили войти в некую дверь, отделявшую прошлое от будущего. Прежде чем стать врачом-онкологом, я изучал иммунологию, потом стволовые клетки и, наконец, биологию опухолей[10]10
Между 1996 и 1999 годами я даже немного занимался нейробиологией, когда работал с профессором Конни Чепко в Медицинской школе Гарварда и исследовал развитие сетчатки. Я изучал глиальные клетки задолго до того, как они стали популярным объектом исследований в нейробиологии. Чепко – специалист в области биологии развития и генетики, он обучал меня науке и искусству отслеживания линий, о чем мы поговорим позже.
[Закрыть]. Случай Эмили объединял все эти прошлые жизни, причем не только мои, а, что важнее, жизни и труды тысяч исследователей, глядевших в тысячи микроскопов на протяжении тысяч дней и тысяч ночей. Эмили воплощала наше желание добраться до светящегося сердца клетки и понять ее бесконечно захватывающие тайны. А еще воплощала наше жгучее желание увидеть зарождение новой медицины, клеточной терапии, становящейся возможной благодаря пониманию физиологии клеток.
Встречи с моим другом Сэмом в его больничной палате и наблюдения, неделя за неделей, за его ремиссиями и рецидивами дали мне опыт противоположного рода – не возбуждения, а понимания того, как много нам еще предстоит усвоить и узнать. Меня как онколога интересовали мятежные клетки – которые оказались там, где их не должно было быть, клетки с неконтролируемым делением. Эти клетки нарушают и ниспровергают законы поведения, которые я описываю в этой книге. Я пытаюсь понять, почему и как это происходит. Меня можно назвать клеточным биологом, попавшим в перевернутый мир. И история клетки глубоко вплетена в полотно моей научной и личной жизни.
Пока я активно занимался написанием книги, начиная с первых месяцев 2020 года и закачивая 2022-м, в мире продолжала бушевать пандемия COVID-19. В моем госпитале, в радушно принявшем меня городе Нью-Йорке и на моей родине росло число больных и умерших. К февралю 2020 года койки в отделении интенсивной терапии в Медицинском центре Колумбийского университета, где я работаю, были забиты людьми, захлебывавшимися собственными выделениями, пока аппараты искусственного дыхания прокачивали воздух через их легкие. Начало весны 2020 года было черным периодом: Нью-Йорк превратился в неузнаваемый, продуваемый ветрами мегаполис с опустевшими переулками и улицами, где одни люди шарахались от других. В Индии пик смертности пришелся на год позже, на апрель и май 2021 года. Тела сжигали на парковках, в проходах между домами, в трущобах и на детских площадках. В крематориях печи так часто работали на полную мощность, что прогорали и плавились металлические решетки, на которые клали тела.
Сначала я проводил время в клинической комнате госпиталя, а затем, когда онкологическую клинику урезали до минимума, оставался дома с семьей. Глядя в окно на линию горизонта, я вновь думал о клетках. Об иммунитете и его мятеже. Вирусолог из Йельского университета Акико Ивасаки рассказывала мне, что главной патологией, которую вызывает SARS-C0V-2 (тяжелый острый респираторный синдром коронавируса-2), было “ложное срабатывание иммунной системы” – нарушение регуляции работы иммунных клеток7. Я никогда прежде не слышал этого термина, но масштаб проблемы меня поразил: по сути, пандемия тоже была клеточной болезнью. Да, конечно, был вирус, но вирус без клеток инертен и лишен жизни. Наши клетки разбудили эту “чуму” и дали ей жизнь. Чтобы понять ключевые элементы пандемии, нужно понять не только особенности этого вируса, но также биологию иммунных клеток и причины их недовольства.
Тогда казалось, что все тропинки и нити моих размышлений и самого моего естества опять вели к клетке. Не знаю, я ли дал жизнь этой книге, или это она сама захотела, чтобы ее написали.
В книге “Царь всех болезней” я писал о нашем острейшем желании найти средства для борьбы с раком или для его предотвращения. Книга “Ген” посвящена поискам способов декодирования и расшифровки кода жизни. А в “Песни клетки” мы отправляемся в совсем другое путешествие: к познанию жизни через ее простейший элемент – клетку. Эта книга не о поисках методов лечения и не о расшифровке кода. Здесь нет одного явного злодея. Главные герои стремятся понять жизнь через понимание анатомии, физиологии и поведения клеток и их взаимодействия с соседними клетками. Понять музыку клетки. А их медицинские цели заключаются в поисках методов клеточной терапии – возможностей использовать строительные кирпичики человеческого тела для перестройки и обновления людей.
В этой связи я посчитал нужным выбрать не хронологический, а иной порядок изложения. Каждая часть книги затрагивает то или иное важнейшее свойство сложных живых организмов и исследует его историю. Каждая часть освещает одно фундаментальное свойство жизни (воспроизводство, автономность, метаболизм), связанное с определенной системой клеток. И каждая описывает зарождение какой-то новой клеточной технологии (например, пересадку костного мозга, искусственное оплодотворение, генную терапию, глубокую стимуляцию мозга, иммунотерапию), возникшей благодаря нашему новому пониманию клеток и поставившей под сомнение наши представления о строении и функционировании человека. Эта книга – тоже сумма частей: мировая и личная история, физиология и патология, прошлое и будущее (а также история моего становления в качестве клеточного биолога и врача) сливаются в ней в единое целое. Такая вот клеточная организация, если угодно.
Я начал работать над этой книгой зимой 2019 года и собирался посвятить ее Рудольфу Вирхову. Меня вдохновляет этот прогрессивный, скромный и мягкий человек, немецкий врач и ученый8, который противостоял патологическим социальным движениям своего времени, пропагандировал свободу мысли, защищал идею общественного здравоохранения, презирал расизм, издавал журнал, проделал самостоятельный и уникальный путь в медицине и предложил рассматривать заболевания органов и тканей как результат нарушения функций клетки – он назвал это “клеточной патологией.
Но в итоге я посвятил ее моему другу и пациенту, которого лечили от рака с помощью нового варианта иммунотерапии, и Эмили Уайтхед; такие пациенты позволяют по-новому понять функцию клеток и клеточную терапию. Они были одними из первых пациентов, для лечения которых мы пытались использовать клетки, превращая клеточную патологию в клеточную медицину – с переменным успехом. И поэтому данная книга посвящается им и их клеткам.
Часть первая
Открытие

Мы с вами оба начались с единственной клетки.
Наши гены различаются, но несильно. Пути развития наших тел разнятся. Наша кожа, волосы, кости и мозг строились по-разному. У нас совершенно разный жизненный опыт. Двое моих дядей умерли от психических заболеваний. Мой отец умер после каскада нарушений, вызванных неудачным падением. У него был артрит колена. Друг (так много друзей) – от рака.
И при этом, несмотря на очевидные различия между нашими телами и опытом, у нас с вами два общих свойства. Во-первых, мы появились из одноклеточного эмбриона. Во-вторых, из этой клетки образовались многие другие – те, которые ныне составляют ваше и мое тело. Мы построены из одинаковых материальных единиц, как два комочка материи, состоящие из одинаковых атомов.
Из чего мы сделаны? В древности одни люди считали, что мы состоим из менструальной крови, которая затвердела и оформилась в тела. Другие полагали, что мы зарождаемся заранее сформированными – мини-существа, со временем просто увеличивающиеся в размере, как воздушные шары в форме человеческих тел, которые надувают на праздник. По мнению третьих, человек слеплен из глины и речной воды. Ну а четвертые думали, что в матке мы сначала превращаемся из головастика в некое подобие рыбы и в конечном итоге в человека.
Но если вы поглядите в микроскоп на свою и на мою кожу или печень, вы обнаружите, что они поразительно похожи. И вы поймете, что все мы на самом деле состоим из живых единиц – клеток. Первая клетка дала начало другим, а затем делилась еще и еще, пока постепенно не сформировались печень, кишечник и головной мозг – все сложные анатомические элементы тела.
Когда люди поняли, что состоят из независимых живых единиц? И что эти единицы являются основой всех функций тела? Иными словами, что наша физиология в конечном итоге определяется физиологией клетки? И когда мы установили, что наше здоровье и будущее неразрывно связаны с изменениями этих живых сущностей? Что наши болезни – результат клеточной патологии?
Именно к этим вопросам (и к связанной с ними истории одного открытия, затронувшего и радикально изменившего биологию, медицину и наши представления о человеке) мы обратимся в первую очередь.
Исходная клетка. Невидимый мир
Истинное знание заключается в осознании незнания1.
Рудольф Вирхов, из письма отцу, 1830-е годы
Сначала давайте отдадим должное тихому голосу Рудольфа Вирхова2. Вирхов родился в Померании, в Пруссии (теперь эта территория поделена между Германией и Польшей) 13 октября 1821 года. Его отец Карл был фермером и местным казначеем. О его матери Йоханне Вирхов, урожденной Хессе, нам известно мало. Рудольф был прилежным и блестящим учеником – вдумчивым, внимательным, способным к языкам. Он выучил немецкий, французский, арабский и латынь и был отмечен за свои учебные работы.
В восемнадцать лет он написал дипломную работу “Жизнь, полная работы и трудов, – не груз, а благословение” и уже готовился стать священником. Он хотел быть пастором и проповедовать прихожанам. Но его угнетала слабость собственного голоса. Вера передается через воодушевление, а воодушевление порождается красноречием. Но что, если никто даже не услышит, как он вещает с кафедры? Медицина и наука казались более подходящими занятиями для застенчивого и прилежного юноши с тихим голосом. По окончании школы в 1839 году Вирхов получил военную стипендию и решил изучать медицину в Институте Фридриха Вильгельма в Берлине.
Медицинская среда, в которую вошел Вирхов в середине 1800-х годов, условно делилась на две составляющие: на анатомию и патологическую анатомию – одна сравнительно продвинутая, другая все еще неупорядоченная. Начиная с XVI столетия анатомы все точнее и точнее описывали форму и структуру человеческого тела. Самым известным среди всех анатомов был фламандский ученый и профессор Падуанского университета в Италии Андреас Везалий3. Он был сыном аптекаря и прибыл в Париж в 1533 году, чтобы учиться и заниматься хирургией. Хирургическая анатомия тогда находилась в состоянии полнейшего беспорядка. По этому предмету было лишь несколько учебников, и еще не существовало системного атласа строения человеческого тела. Большинство хирургов и их учеников в какой-то степени ориентировались на анатомические труды римского врача Галена, жившего между 129 и 216 годами. Труды Галена тысячелетней давности, основанные на анатомии животных, давно устарели и, честно говоря, во многом были просто ошибочными.
Цокольный этаж парижского госпиталя Отель-Дьё, в котором производили анатомирование разлагающихся человеческих трупов, был грязным, затхлым и плохо освещенным пространством, где под каталками бродили полудикие собаки, грызшие обрезки плоти, – “мясной рынок”, как Везалий называл одно из таких мест. Профессора сидели в “высоких креслах [и] кудахтали, как куры”4, писал он, а их помощники рубили и кромсали тела случайным образом и вытаскивали из них органы и фрагменты, как вату из набивных кукол.
“Доктора даже не пытались резать, – с горечью писал Везалий, – а их цирюльники, которым было вверено ремесло хирургии, были слишком плохо обучены, чтобы понимать записи профессоров анатомии… Они лишь вырезали то, что нужно было показать по инструкции врача, который никогда сам ничего не вырезал и просто руководил происходящим – и не без высокомерия. Все преподавалось неправильно, дни проходили в глупых диспутах. В этой суете зрителям представляли меньше фактов, чем мясник мог бы представить врачу у себя на мясном рынке”. И мрачно завершал: “Кроме восьми мышц живота, изуродованных и представленных в неправильном порядке, никто и никогда не показал мне ни одной мышцы и ни одной кости, не говоря уже о последовательности нервов, вен и артерий”.
Разочарованный и раздраженный Везалий решил самостоятельно построить карту человеческого тела. Он делал вылазки в склепы вблизи госпиталя, иногда по два раза за день, чтобы пополнить свою лабораторию новыми образцами. Могилы на Кладбище Невинных, часто вскрытые, где от тел оставались одни скелеты, предоставляли превосходные образцы для зарисовки костей.

Литография из труда Везалия De Humani Corporis Fabrica (1543), демонстрирующая его метод создания последовательных срезов анатомических структур, позволяющих устанавливать связь между нижними и верхними слоями, как это делает современная компьютерная томография. Такие книги, как эта, проиллюстрированные Яном ван Калькаром, произвели настоящую революцию в изучении анатомии человека, однако аналогичных полных учебников по физиологии или патологической анатомии в 1830-е годы не существовало.
А прогуливаясь под трехъярусной парижской виселицей Монфокон, Везалий разглядывал казненных заключенных. Он тайком уносил тела недавно повешенных, чьи мышцы, внутренние органы и нервы оставались сравнительно нетронутыми – достаточно, чтобы вскрывать их слой за слоем и зарисовывать расположение органов.
Сложные рисунки, выполненные Везалием за последующее десятилетие, изменили представление об анатомии человека5. Иногда он проводил диссекцию мозга на срезы в горизонтальной плоскости, как срезают верхушку с дыни, и делал такие же изображения, какие получают теперь при помощи современной компьютерной аксиальной томографии. На других иллюстрациях он накладывал на мышцы кровеносные сосуды или открывал в мышцах “окошки”, чтобы было видно, что находится в более глубоких слоях.
Он зарисовывал человеческую брюшную полость в проекции снизу вверх, как тело Христа на полотне итальянского художника XV века Андреа Мантеньи “Мертвый Христос”, и делал срезы рисунка, как теперь это делает сканер для магнитно-резонансной томографии. Самые точные и тонкие рисунки анатомических структур человека он создал вместе с художником и литографом Яном ван Калькаром. В 1543 году он опубликовал свои работы по анатомии в виде семи томов, озаглавленных De Humani Corporis Fabrica (“О строении человеческого тела”)6. Слово fabrica (ткань) в названии было ключом к содержанию и назначению этого труда: человеческое тело рассматривалось как физическая материя, а не как тайна, оно состояло из физической материи, а не из духа. Отчасти это был учебник по медицине, содержащий около семи сотен иллюстраций, отчасти научный трактат с картами и диаграммами, заложивший основы для изучения анатомии человека на столетия вперед.
Так вышло, что этот труд был опубликован в том же году, в котором польский астроном Николай Коперник составил “анатомию небес” в своей монументальной книге De Revolutionibus Orbium Coelestium (“О вращении небесных сфер”), содержавшей карту гелиоцентрической Солнечной системы, на которой Земля находилась на орбите, а Солнце было твердо установлено в центральное положение7.
Везалий же поместил анатомию человека в центр медицины.
В то время как анатомия (изучение структурных элементов человеческого тела) развивалась быстро, патологическая анатомия (изучение человеческих болезней и их причин) все еще оставалась неструктурированной. Это был неопределенный, беспорядочный мир. По патологической анатомии не было таких книг, как по анатомии, и не существовало общей теории болезней – не было ни открытий, революций. На протяжении XVI и XVII веков большинство болезней объясняли миазмами – ядовитыми парами, исходящими из загрязненных стоков или зараженного воздуха. Миазмы якобы переносили частицы разлагающейся материи, называемые миазматами, которые каким-то образом проникали в тело и приводили к его распаду. (В слове “малярия” по сей день сохранились следы этой истории: оно состоит из итальянских слов mala и aria, что в сочетании означает “плохой воздух”.)
По этой причине первые реформы в здравоохранении, направленные на предотвращение заболеваний и лечение больных, касались общественной санитарии и гигиены. Для утилизации отходов жизнедеятельности рыли сточные канавы, а в домах и на производствах открывали вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить накопление зараженных миазмов. Казалось, эта теория подкреплялась неоспоримой логикой. Многие города, переживавшие быструю индустриализацию и не справлявшиеся с размещением рабочих и их семей, представляли собой зловонные скопления смога и нечистот, и болезни очевидно выбирали наиболее смрадные и перенаселенные районы. Периодические волны холеры и тифа выискивали самые бедные районы Лондона и его окрестностей, такие как Ист-Энд (теперь там блестят витрины магазинов и ресторанов и продаются высококачественные льняные фартуки и бутылки дорогого джина). С бешеной скоростью распространялись сифилис и туберкулез. Рождение ребенка было опасным и жутковатым делом, поскольку с большой вероятностью могло закончиться не рождением, а смертью либо плода, либо матери, либо обоих. В более благополучных частях города, где воздух был чище, а нечистоты утилизировались несколько эффективнее, люди были здоровее, но беднота, жившая в зараженных миазмами районах, неизбежно постоянно болела. Если чистота была залогом здоровья, следовательно, болезни разумно было считать результатом грязи или заражения.
Но несмотря на то, что представление о заразных парах и миазмах, казалось бы, содержало в себе некое зерно истины (и давало людям прекрасное основание для дальнейшего отделения богатых районов города от бедных), на пути к пониманию патологической анатомии оставались странные загадки. К примеру, почему женщины, рожавшие в родильном доме в одном районе Вены в Австрии, вскоре умирали примерно в три раза чаще, чем те, которые рожали в соседнем родильном доме?8 В чем заключалась причина бесплодия? Почему совершенно здоровый молодой человек внезапно заболевал и его суставы сковывала чудовищная боль?
На протяжении XVIII и XIX веков врачи и ученые настойчиво искали системные причины человеческих болезней. Но самыми успешными результатами их трудов оказались лишь несколько несущественных дополнений к прежним объяснениям, основанным на макроскопической анатомии: любая болезнь представляет собой нарушение функции конкретного органа. Печень. Желудок. Селезенка. Был ли какой-то более глубокий организационный принцип, связывающий эти органы с непонятными и таинственными нарушениями их функции? Стоило ли вообще рассуждать о патологии человека в систематическом плане? Возможно, ответ нельзя было найти в анатомии видимых структур, а только на микроскопическом уровне. На самом деле в XVIII веке химики уже начали понимать, что свойства вещества (взрывоопасность водорода и текучесть воды) являются эмерджентными свойствами невидимых частиц, молекул, а также составляющих их атомов. Могла ли биология оказаться устроенной схожим образом?
Рудольфу Вирхову едва исполнилось восемнадцать, когда он поступил в медицинский Институт Фридриха Вильгельма в Берлине9. Институт был создан с целью обучения военных медиков для прусской армии, и там царила соответствующая военная этика: предполагалось, что студенты в дневное время должны проводить по шестьдесят часов в неделю на занятиях, а материал запоминать по ночам. (В военной медицинской школе Pepiniere старшие военные врачи часто проводили неожиданные проверки посещаемости10. Если выяснялось, что кого-то из учащихся нет на занятиях, наказывали весь класс.) “Так происходит каждый день без остановки с шести утра до одиннадцати вечера, кроме воскресенья, – мрачно писал Вирхов отцу, – <… > и к вечеру устаешь так, что уже мечтаешь о жесткой постели, с которой, проспав почти в летаргическом сне, встаешь утром почти таким же усталым, как накануне”11. Учащимся выдавали дневную порцию мяса, картошки и водянистого супа, а жили они в маленьких изолированных комнатках. В камерах.
Вирхов зазубривал материал. Анатомию преподавали вполне разумно: макроскопическая карта тела слегка уточнилась со времен Везалия усилиями многих поколений вивисекторов в результате тысяч вскрытий. Но в патологической анатомии и физиологии того времени не было основополагающей логики. Почему органы работают, что они делают и почему теряют свою функцию – на этот счет существовали лишь спекулятивные рассуждения, натянутые, как по военному приказу, от гипотезы до факта. Патологоанатомы уже давно разделились на разные школы мысли в отношении происхождения болезней. Сторонники гипотезы миазмов полагали, что болезни возникают от загрязненных испарений, последователи галенизма верили, что болезнь – это патологическое нарушение равновесия между четырьмя жидкими и полужидкими средами тела, называемыми “туморами”, а сторонники “психиатрической теории” доказывали, что болезнь – это проявление расстройства разума. К тому времени, когда Вирхов занялся медициной, большинство из этих теорий находились в плачевном состоянии или уже умерли.









































