Текст книги "Киногид извращенца. Кино, философия, идеология"
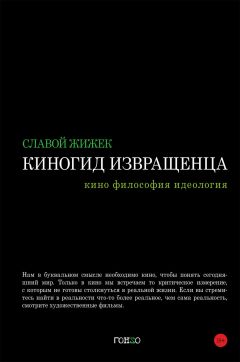
Автор книги: Славой Жижек
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Клейст уже «постмодернист» в своем методе ультраортодоксального ниспровержения закона посредством чрезмерного отождествления с ним. Хрестоматийный пример тому – это, конечно, длинная повесть «Михаэль Кольхаас», основанная на реальных событиях XVI в.: пострадав от мелкой несправедливости (с двумя его лошадьми жестоко обошелся местный дворянин, безнравственный барон фон Тронка), саксонец Кольхаас, уважаемый торговец лошадьми, начинает упрямо добиваться справедливости; проиграв из-за коррупции дело в суде, он берет правосудие в собственные руки и создает вооруженную банду, которая нападает на несколько замков и городов, где, по его подозрению, скрывается Тронка, и сжигает их, утверждая при этом, что хочет лишь компенсировать причиненный ему небольшой ущерб. В парадигматическом диалектическом противоположении само безоговорочное следование Кольхасса правилам, его насилие, поддерживающее закон, становится насилием, устанавливающим закон (если использовать классическое противопоставление Беньямина): здесь стандартная последовательность развернута в обратную сторону, то есть это не создающее закон насилие, которое после установления правил становится насилием, поддерживающим закон, – напротив, это именно поддерживающее закон насилие, которое, будучи доведенным до крайности, превращается в насильственное установление нового закона. Однажды убедившись в том, что сами основы правовых структур, которые не могут придерживаться собственных правил, прогнили, он меняет символический регистр в параноидальную, по сути, сторону, заявляя о намерении создать новое «мировое правительство», которое будет представлять архангела Михаила, и призывая всех добрых христиан поддержать его дело. (Хотя эта история была написана в 1810 г., через пару лет после «Феноменологии духа» Гегеля, кажется, что на самом деле Кольхаас является парадигматическим примером гегелевского «закона сердца и безумия самомнения» в гораздо большей степени, чем герои Шиллера.) В финале истории достигается странное примирение: Кольхаас приговорен к смертной казни и спокойно принимает приговор, поскольку достиг своей очевидно мелочной цели: две лошади возвращены ему целыми и здоровыми, а барон фон Тронка приговорен к двум годам тюрьмы… Это история о том, как чрезмерное стремление к справедливости человека, «всегда следующего правилам», без понимания неписаных правил, готовящих почву для применения закона, заканчивается преступлением: в соответствии с правовым аналогом так называемого эффекта бабочки незначительный проступок запускает последовательность событий, приносящих непропорционально большой ущерб всей стране. Не удивительно, что Эрнст Блох назвал Кольхааса «Иммануилом Кантом от юриспруденции»[187]187
Bloch E. Über Rechtsleidenschaft innerhalb des positiven Gesetzes. Frankfurt: Suhrkamp, 1972. S. 96. Здесь я ссылаюсь на выдающуюся Lizentiatsarbeit Дэвида Ратмоко: Ratmoko D. Agency, Fiction and Act: Paranoia’s Invisible Legacy. Zurich, 1999.
[Закрыть].
Фильмы о Джеймсе Бонде представляют симметричную инверсию этих двух текстов Клейста. С одной стороны, большинство этих фильмов заканчиваются одной и той же странно утопической сценой полового акта, одновременно являющегося интимным и общим, коллективным опытом: в то время как Бонд, наконец уединившись и соединившись с женщиной, занимается с ней любовью, за действиями пары наблюдает (подслушивает или регистрирует иным способом, например с использованием цифровых технологий) большой Другой, в данном случае воплощенный в профессиональном сообществе Бонда (М, мисс Манипенни, Q и др.). В одном из последних фильмов о Бонде, «И целого мира мало» (1999) Эптеда, этот сексуальный акт деликатно показан как теплое пятно на изображении со спутника – заместитель Q (Джон Клиз) осторожно выключает экран компьютера, не давая другим удовлетворить любопытство. Бонд, в остальных случаях играющий роль большого Другого (идеального обязательного свидетеля) для Большого Преступника, здесь сам нуждается в большом Другом: лишь такой свидетель «позволяет осуществиться» его сексуальной деятельности. (Такой утопический половой акт, признаваемый большим Другим сообщества, изображен даже в «Minima moralia» Адорно: Адорно дает свое прочтение хрестоматийной сцены, в которой богач демонстрирует публике свою молодую любовницу, с которой на самом деле не занимается сексом, в качестве фантазии о полностью освобожденном сексе.) С другой стороны, сам этот финал создает пробел, требующий постмодернистского переписывания. Иными словами, загадка фильмов о Джеймсе Бонде в том, что происходит между – между этим финальным блаженством и началом следующего фильма, в котором М снова просит Бонда выполнить очередную миссию. Возможно, постмодернистский фильм о Бонде, скучная экзистенциальная драма об угасающих отношениях, был бы таким: Бонду постепенно надоедает его девушка, возникают небольшие ссоры, девушка хочет замуж – Бонд нет и т. д., так что поступающий от М вызов, позволяющий Бонду сбежать из становящихся все более удушающими отношений, наконец приносит ему облегчение.
В результате в «постмодернистских» фильмах у нас больше нет «официальной» сюжетной линии, которую мы могли бы дополнить множественными придуманными альтернативами, – публичный текст, который мы видим, прямо предлагает себя как один из вариантов. Это смещение очевидно в переходе от романа к его кинематографической версии: в традиционном Голливуде киноверсия подавляет (цензурирует) литературный источник, который начинает функционировать как альтернативный, неприличный, публично отвергнутый текст фильма (например, проститутка из романа превращается в певичку в баре); версии кинематографа после Кодекса Хейса, напротив, прямо выставляют напоказ то, что якобы было «подавлено» в оригинале (см. пример «Талантливого мистера Рипли», в котором герой превращен в явного гея). Ремейк «Психо», снятый ван Сентом, следовал той же идее «показать все»: мы видим, как Норман мастурбирует, подсматривая за Мэрион, прежде чем зарезать ее, – и вновь необходимо заметить, что подобная «радикализация» является формой проявления ее противоположности, отступлением от настоящей чудовищности фигуры Нормана.
Пример «Рипли» – который, выставляя напоказ скрытое, подавленное содержимое, кажется «радикальнее оригинала» – ясно дает понять, что именно не так с этим методом: в оригинале имело значение не «подавление» якобы запретного (сексуального и т. д.) содержания, но пустота этого «подавления» как такового. За этим жестом заполнения пустот Рипли теряется его не-психологическая холодная чудовищность, сверхъестественно близкая к странной «нормальности». Иными словами, что, если, «заполняя пробелы» и «показывая все», мы уходим от пустоты как таковой, которая, разумеется, в конечном итоге является не чем иным, как пустотой субъективности («субъектом $» Лакана)? Таким образом, Мингелла добивается перехода от пустоты субъективности к внутреннему богатству личности: вместо вежливого человека, одновременно являющегося чудовищным автоматом, которому незнаком внутренний хаос, перед нами появляется человек с множеством психических травм – в общем, тот, кого мы можем понять – в полном смысле этого слова. Таким образом, действие «заполнения пробелов» служит принуждению к пониманию, «нормализации» и, следовательно, избеганию пустоты, то есть субъективности.
Возможно, противопоставление «простого» героя Линча и «нормального» Рипли Хайсмит определяет крайние координаты сегодняшнего этического опыта позднего капитализма с его странным разворотом, при котором Рипли сверхъестественным образом оказывается «нормальным», а «простой» человек Линча сверхъестественным образом оказывается странным, даже извращенцем. Так мы получаем неожиданное противопоставление странности исчерпывающей этической позиции и чудовищную «нормальность» исчерпывающей неэтической позиции. Как в таком случае можем мы выбраться из этого тупика? Героев роднит бескомпромиссная преданность достижению своей цели, и может показаться, будто выход в отказе от этой общей черты и требовании более «теплого» и сострадательного человечества, готового идти на компромисс. Но разве такое «мягкое» (иначе – беспринципное) «человечество» не является доминирующей сегодня формой субъективности, так что два фильма просто демонстрируют две ее крайности? В конце 1920-х Сталин определил большевика как союз страстного русского упрямства и американской находчивости. Возможно, вслед за ним нам также следует заявить, что выход нужно искать, скорее, в невозможном синтезе двух героев, в фигуре линчевского «простого» человека, идущего к своей цели с коварной находчивостью Тома Рипли.
Таким образом, перед нами один и тот же фундаментальный выбор, повторяющийся на трех различных уровнях: во-первых, у Кеслёвского – как непосредственный выбор между Миссией-Делом и Жизнью; затем, у ЛаБута – как два вида Зла, этически-радикальное и патологическое; наконец, у Линча и Мингеллы – как два вида непривязанности к обычной жизни. И возможно, тема нашей первой главы, выбор между Теорией и Посттеорией, это еще один пример этического выбора между Событием и Бытием, между Этикой и Моралью, между Миссией и Жизнью? Говоря языком Фрейда, это, конечно же, выбор между принципом удовольствия и (смертельным) влечением, выходящим за пределы принципа удовольствия: между «хорошей жизнью», ориентированной на счастье, «заботу о себе», мудрую умеренность и т. д., и жизнью, принуждающей нас пренебречь собственным Благом. Иногда эти два варианта сосуществуют в одном и том же виде деятельности. Хотя «Талантливый мистер Рипли» Мингеллы полностью искажает оригинальную фигуру Рипли из романа Хайсмит, этот фильм по-своему интересен: он тонко изображает парадокс положения Рипли в финале: с одной стороны, он достиг успеха, он «воплотился», позаимствовав личность Дики, он богат, свободен делать все, что ему захочется, идти к своему счастью, вести такую жизнь, какая ему нравится; с другой стороны, после первого убийства он стал заложником маниакальной логики, вынужденный совершать новые убийства, поскольку единственная открытая перед ним дорога – идти до конца по выбранному пути. Возможно, именно это напряжение, а не «чувство вины» объясняет его ночные кошмары.
Кеслёвский не поддерживает ни моралистического отказа от жизни во имя Миссии, ни дешевой Мудрости, возводящей простую Жизнь выше Миссии; он полностью осознаёт ограничения Миссии. Здесь показателен фильм «Шрам» (1976), история честного коммунистического работника, приехавшего в небольшой провинциальный город, чтобы построить новый химический завод, и назначенного его директором. Он хочет сделать жителей города счастливее, принести им прогресс, однако завод не только создает экологические проблемы и разрушает традиционный образ жизни, его появление противоречит краткосрочным интересам горожан. Разочаровавшись, он уходит со своей должности… Здесь проблема Блага: кто на самом деле знает, что Благо для других, кто может навязать свое Благо другим? Эта противоречивость Блага и есть тема фильма: хотя с социальной точки зрения директор добивается успеха (завод построен), он осознаёт свое этическое поражение. Здесь мы видим, почему Фрейд скептически относился к девизу «Всегда поступай с другими так же, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой!». Проблема не в том, что он слишком идеалистичен и переоценивает этические возможности человека, – скорее, мысль Фрейда в том, что если принять во внимание фундаментальную извращенность человеческого желания, применение этого девиза на практике приведет к странным результатам: вряд ли кому-то захочется, чтобы этому принципу последовал мазохист.
Личный выбор Кеслёвского был столь же проблематичен: закончив «Красный», он удалился в деревню, чтобы провести свои последние дни за рыбалкой и чтением – в общем, чтобы воплотить в жизнь фантазию о тихой жизни пенсионера, освобожденного от долга Призвания. Однако, трагическим образом, он проиграл со всех сторон: выбор «призвание или спокойная жизнь» оказался ложным, было уже слишком поздно, так что, выбрав спокойствие и отойдя от дел, он умер; возможно также, его внезапная смерть указала, что удалиться от дел в тихую деревню было ошибочным исходом, фантазийным экраном, фактически метафорой смерти, то есть для Кеслёвского единственным способом выжить было продолжать снимать фильмы, даже если это означало постоянно заигрывать со смертью. Кажется, по крайней мере с нашей ретроактивной позиции, что Кеслёвский умер в подходящий момент: хотя его смерть и была преждевременной, она – подобно смерти Александра Великого или Моцарта – похоже, наступила именно тогда, когда его труды были завершены. Разве это не окончательный пример чудесных совпадений, вокруг которых вращаются его фильмы? Кажется, будто смертельный сердечный приступ был свободным актом, постановочной смертью, поражающей в нужный момент – сразу после того, как Кеслёвский объявил, что больше не будет снимать фильмы.
В таком случае, возможно, нам следует рассматривать второй (неэтический) выбор Вероники как новую версию традиционного возвышенного противоположения (sublime reversal), которую можно встретить, например, в «Больших надеждах» Чарльза Диккенса? Когда новорожденного Пипа называют «человеком, подающим большие надежды», все воспринимают это как предсказание его мирского успеха; однако в конце романа, когда Пип оставляет фальшивый блеск Лондона и возвращается в скромное общество, где провел детство, мы осознаём, что он осуществил предсказание, ознаменовавшее его жизнь, лишь найдя в себе силы оставить пустые волнения лондонского высшего света, с которым он отождествляет понятие «человека, подающего большие надежды». Здесь мы имеем дело со своего рода гегелевской рефлексивностью: в ходе тяжелых испытаний, с которыми сталкивается герой, меняется не только его характер, но и сам этический стандарт, по которому он свой характер оценивает. Возможно, что-то подобное произошло на церемонии открытия Олимпийских игр в Атланте в 1996 г., когда Мухаммед Али зажег олимпийский огонь от факела, который держал в сильно трясущейся из-за тяжелого заболевания руке – когда позже журналисты писали о том, что, сделав это, он подтвердил свой титул «Величайшего» (отсылка к хвастливому самоназванию, которое Али дал себе десятилетия назад, названию фильма о нем, в котором он же сам и снялся, а также к его автобиографии), они, конечно, хотели подчеркнуть, что Мухаммед Али достиг подлинного величия именно сейчас, через благородную стойкость перед лицом болезни, лишившей его сил, а не тогда, когда находился на пике популярности и крушил соперников на ринге…[188]188
Вспомним также комедию Альберта Брукса «Защищая твою жизнь» (Defending Your Life): вслед за преждевременной смертью в результате автомобильной аварии герой обнаруживает себя на божественном суде (удивительно похожем на туристический курорт); там оценивают жизнь каждого человека: тот, кто без страха вел этичную жизнь, поднимается на более высокий уровень бытия; тот же, кто не проходит тест, обречен вновь родиться обычным человеком. Ближе к концу фильма герой проваливает тест и отправляется обратно на землю; из автобуса, который везет его к месту отправления, он видит другой автобус, проходящий мимо в обратном направлении, – в нем сидит женщина, в которую он влюбился во время испытаний. Она значит для него «больше, чем сама жизнь», поэтому он прыгает в ее автобус и воссоединяется с ней, хотя его прыжок связан с большим риском и ужасной болью. В этот момент мы видим, что за событиями через скрытые камеры наблюдают судьи – именно это было настоящим испытанием, и он прошел его… Подлинное испытание не там, где мы его ожидаем, – это выбор, который мы должны сделать после мнимого суда. Когда нам кажется, что мы уже не можем ничего потерять или обрести, мы проходим настоящий тест.
[Закрыть] Что, если то же самое касается второго выбора Кеслёвского – и есть вещи важнее пения, такие как обычная человеческая доброта, которую излучает француженка Вероник?
Когда и почему именно Вероник возвращается к своему отцу, чтобы обрести рядом с ним тихую гавань? После того, как ее любовник-кукловод разыгрывает перед ней (бессознательный) выбор, который изображают две марионетки. От чего же бежит Вероник, когда бросает своего любовника? Она воспринимает эту постановку как акт руководящего вмешательства, тогда как на самом деле все наоборот: это постановка ее окончательной, невыносимой свободы. Иными словами, травмирующий ее компонент представления кукловода не в том, что она видит себя как марионетку, которую дергает за нити невидимая рука Судьбы, но в столкновении с тем, что Ф. В. Й. Шеллинг назвал изначальным решением-дифференциацией (Ent-Scheidung), бессознательным вневременным деянием, посредством которого субъект «выбирает» свой вечный характер, который впоследствии в его/ее сознательно-временной жизни переживается им/ею как суровая необходимость, как «то, каким/какой он/она всегда был/была»[189]189
«Однажды совершенное деяние немедленно проваливается в бездонную глубину, тем самым обретая свой устойчивый характер. То же самое относится к воле, которая, будучи однажды постулированной и вынесенной наружу, обязана немедленно потонуть в бессознательном. Это единственный способ, делающий возможным начало, такое начало, которое не перестает быть началом, подлинное вечное начало. Ведь он также предполагает, что начало не должно знать себя. Совершенное однажды деяние совершено навеки. Решение, которое с любой стороны является истинным началом, не должно возникать перед сознанием, не должно вспоминаться умом, поскольку это было бы равно его отмене. Тот, кто оставляет за собой право вновь пролить на решение свет, никогда не осуществит начала» (Schelling F. W. J. von. Ages of the World. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997. P. 181–182). Более подробный анализ понятия Ent-Scheidung см. в главе 1 (Chapter 1): Žižek S. The Indivisible Remainder. London: Verso Books, 1997.
[Закрыть]. Этот парадокс вневременного выбора объясняет двусмысленное напряжение между случаем и необходимостью во вселенной альтернативных реальностей Кеслёвского: хотя выбор радикально случаен, внутри каждой из трех реальностей «Случая» (Blind Chance) детерминизм абсолютен: Витек неизбежно опаздывает на поезд, бьет кондуктора, успевает на поезд.
Что представляет собой кукла (а точнее, марионетка) с точки зрения субъективной позиции? Здесь следует обратиться к эссе Генриха фон Клейста 1810 г. «Über das Marionettentheater», ключевого в его отношении к философии Канта (мы знаем, что чтение Канта вызвало у Клейста тяжелый духовный кризис – это чтение было главным травматическим столкновением его жизни). Где у Канта мы встречаем термин «марионетка»? В загадочной главе его «Критики практического разума», озаглавленной «О мудро соразмерном с практическим назначением человека соотношении его познавательных способностей», в которой он пытается ответить на вопрос о том, что случилось бы с нами, если бы мы получили доступ к царству сверхчувственного, Ding an sich:
Но вместо спора, который моральному убеждению приходится вести со склонностями и в котором после нескольких поражений должна быть постепенно приобретена моральная сила души, у нас перед глазами постоянно стояли бы бог и вечность в их грозном величии (ведь то, что мы можем доказать полностью, имеет для нас такую же степень достоверности, как и то, в чем мы убеждаемся своими глазами). Нарушений закона, конечно, не было бы, и то, чего требует заповедь, было бы исполнено, но так как убеждение, на основе которого должно совершать поступки, не может быть внушено никакой заповедью, а побуждение к деятельности здесь всегда под рукой и оно внешнее, следовательно, разум не должен пробивать себе дорогу, собирая силы для противодействия склонностям с помощью живого представления о достоинстве закона, – то большинство законообразных поступков было бы совершено из страха, лишь немногие – в надежде и ни один – из чувства долга, а моральная ценность поступков, к чему единственно сводится вся ценность личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости, вообще перестала бы существовать. Таким образом, пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, поведение их превратилось бы просто в механизм, где, как в кукольном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах нет жизни[190]190
Kant I. Critique of Practical Reason. New York: Macmillan, 1956. P. 152–153. (Цит. по изд.: Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 482–483. – Примеч. ред.)
[Закрыть].
Итак, с точки зрения Канта, прямой доступ к царству сверхчувственного лишил бы нас той самой «спонтанности», которая образует ядро трансцендентной свободы: это превратило бы нас в безжизненные автоматы, или, выражаясь современным языком, в «умные машины»… Клейст же изображает обратную сторону этого ужаса: блаженство и грацию марионеток, созданий, имеющих прямой доступ к божественному царству сверхчувственного и напрямую управляемых им. Для Клейста марионетки представляют совершенство спонтанных, бессознательных движений: у них есть лишь один центр тяжести, их движения контролируются лишь из одной точки. Кукловод управляет лишь этой точкой, и, когда он перемещает ее по простой прямой траектории, конечности марионеток неизбежно и естественно следуют за ней, поскольку фигура марионетки полностью скоординирована. Таким образом, марионетки символизируют существ невинных и чистых по своей природе: они естественно и грациозно отвечают на божественное руководство, в отличие от обычных людей, которым приходится постоянно бороться со своей неискоренимой склонностью ко Злу – ценой, которую они вынуждены платить за свободу. Эта грация марионеток подчеркивается их кажущейся невесомостью: они едва касаются пола, они не привязаны к земле, поскольку задуманы небом. Они представляют собой состояние грации, рай, потерянный для человека, чье своевольное «свободное» самоутверждение делает его самосознающим. Примером этого человеческого падения служит танцор: он лишен опоры сверху, но чувствует себя привязанным к земле – и все же должен казаться невесомым, чтобы совершать свои искусные движения с видимой легкостью. Он должен сознательно пытаться обрести грацию, и поэтому эффектом его танца становится скорее искусственность, чем грация. В этом заключается парадокс человека: он и не животное, полностью погруженное в земную среду, и не ангельская марионетка, грациозно порхающая в воздухе – он свободное существо, которое, в силу своей свободы, ощущает невыносимое давление, притягивающее и привязывающее его к земле, которой он в конечном счете не принадлежит. Именно с точки зрения этого трагического расщепления следует анализировать такие образы, как Кетхен из Глейбронна из одноименной пьесы Клейста, этот сказочный образ женщины, идущей по жизни с ангельским спокойствием: подобно марионетке, она подчинена божественному руководству и исполняет свою славную судьбу, просто следуя спонтанным велениям своего сердца. Клейст не способен посмотреть в лицо не только тому факту, что подобное ангельское положение просто невозможно в силу человеческой конечности, но и более страшному факту, состоящему в том, что, если бы такое положение было достигнуто, оно свелось бы к своей противоположности, к ужасной, безжизненной машине. Показательна сама метафора, используемая Клейстом (марионетка): чтобы она могла действовать, Клейсту приходится исключить ее машинный аспект.
«Счастливые тоже плачут»
Как «Декалог» (навязанные через травму божественные заповеди) соотносится со своей современной противоположностью – прославляемыми «правами человека»? В «Трех цветах» Кеслёвского права человека затронуты напрямую: три цвета представляют три лозунга Французской революции: голубую Свободу, белое Равенство и красное Братство. В нашем постполитическом либерально-снисходительном обществе Права человека в конечном итоге сведены к Правам на нарушение десяти заповедей. «Право на неприкосновенность частной жизни» – прелюбодеяние, совершаемое втайне, когда меня никто не видит и не имеет права совать нос в мою жизнь. «Право на стремление к счастью и владение частной собственностью» – право красть (эксплуатировать других). «Свобода прессы и выражения собственного мнения» – право на ложь. «Право свободных граждан на владение оружием» – право на убийство. И, наконец, «свобода вероисповедания» – право почитать ложных богов. Такое принижение прав человека вписано в само понятие о них: права человека порождают собственные нарушения под видом либертинажа (libertinage)[191]191
Здесь я ссылаюсь на неопубликованную работу Джулии Рейнхард Луптон и Кеннета Рейнхарда: Lupton J. R., Reinhard K. The Subject of Religion: Lacan and the Ten Commandments. Более подробный анализ этой темы см.: Žižek S. The Fragile Absolute. London: Verso Books, 2000.
[Закрыть]. Как в таком случае можем мы сдержать подобные нарушения? Похоже, урок либертинажа заключается в том, что Права без Заповедей неизбежно ведут к взаимному порабощению людьми друг друга и эксплуатации: нарушая заповеди, либертин порабощает и эксплуатирует других людей как средство получения своих необузданных удовольствий. Однако трилогия «Три цвета» предлагает другой выход, не предусматривающий того, что действие Прав должно ограничиваться Заповедями. Поскольку «Декалог» имеет дело с заповедями Ветхого Завета, возникает искушение толковать «Три цвета» как скрытое обращение к трем добродетелям Нового Завета: Вере, Надежде и Милосердию (Любви): тройка Свобода-Равенство-Братство будет иметь истинную силу только при поддержке другой тройки – Веры-Надежды-Милосердия. Свобода может быть истинной только с опорой на Милосердие, любящее приятие других (в «Синем» Джулия проходит путь от холодной абстрактной свободы к реальной свободе любящего приятия других); Равенство опирается на принцип взаимности, который никогда не реализуется полностью, но остается утопической Надеждой («Белый», фильм о равенстве, заканчивается тем, что герой наблюдает за своей заключенной в тюрьму возлюбленной: есть надежда, что они воссоединятся); Братство опирается на Веру – без Веры оно остается холодной абстрактной взаимной зависимостью (в «Красном» судья может вновь войти в человеческое «братство» лишь через фундаментальную веру, доверие к Другим). Здесь любопытно вспомнить о том, что в исходной концепции «Декалога» жилой дом, в котором обитают герои, должен был взорваться из-за утечки газа, убив их всех – ироничное указание на Страшный суд и подтверждение того, что Бог «Декалога» – это жестокий, ревнивый и карающий Бог Ветхого Завета, в глазах которого все мы должны заплатить за свои грехи (явная противоположность трилогии «Три цвета», в финале которой также случается большая катастрофа – тонет паром, однако Избранные, то есть главные герои трех фильмов (три пары: Жюли и Оливье, Кароль и его жена, а также Валентина и Огюст), чудесным образом выживают)[192]192
На самом деле выживших семеро, и возникает искушение предположить, что дополнительный анонимный выживший – не кто иной, как загадочный, похожий на Христа бородатый бездомный незнакомец, появляющийся в большинстве серий «Декалога».
[Закрыть].
Таким образом, возникает искушение противопоставить «Декалог» и «Три цвета» по принципу Ветхий Завет против Нового Завета (жестокий немилосердный Бог против примиряющей силы Любви), а также по оси разницы между полами[193]193
См.: Helman A. Women in Kieślowski’s late films // Coates P. Op. cit.
[Закрыть]. «Декалог» мужецентричен: почти все истории в нем рассказаны с точки зрения персонажа-мужчины, а женщины сведены к стандартной роли проводников истерических вспышек, нарушающих покой героя-мужчины. Женщины неумеренны и представляют опасность для самих себя и для других: как жены они неверны и наносят удар своим мужьям в тот момент, когда те наиболее уязвимы (больны раком, как в «Декалоге 2», или страдают импотенцией, как в «Декалоге 9»); как femme fatale они унижают невинных мальчиков, влюбленных в них («Декалог 6»); как дочери они выплескивают свою инцестуальную ярость («Декалог 4»). В «Декалоге 3» и «Декалоге 4» героини разыгрывают истерический спектакль, обращенный к мужчине с чрезмерным бескомпромиссным требованием: бывший любовник должен покинуть свою семью в святой день, чтобы помочь героине найти ее мужа; отец должен столкнуться с инцестуальной провокацией дочери. В «Декалоге 6», узнав, что за ней наблюдают, Магда, вместо того чтобы просто задернуть шторы, начинает извращенную игру с Томеком; в «Декалоге 7» Майка нарушает хрупкое семейное равновесие, убегая со своей (биологической) дочерью. Разве это не очередной базовый диспозитив истерической женщины, угрожающей стабильности мужчины и даже самой его личности, диспозитив, выраженный в конце XIX в. Рихардом Вагнером, Отто Вейнингером, Августом Стриндбергом и Эдвардом Мунком?
В «Веронике» и «Трех цветах» перемена видна уже на уровне внешности и одежды женщин: в «Декалоге» Кеслёвский либо выбирает сексуально непривлекательных актрис, либо (во 2, 4 и 6-й частях) изображает красивых женщин так, что они явным образом обесцениваются: они плохо одеты, неопрятны, освещены с такого ракурса, который безжалостно подчеркивает все их недостатки… Напрашивается сравнение с Ирен Жакоб, Жюли Дельпи и Жюльет Бинош: они и сами по-настоящему красивы, и камера относится к ним как к красивым женщинам, любовно осматривая их тела[194]194
Helman A. Op. cit. P. 120.
[Закрыть]. В этих фильмах история рассказана с женской точки зрения (за примечательным исключением «Белого», заканчивающегося диспозитивом аристократической любви, в которой жестокая Дама является недоступным предметом обожания): женщина (Ирен Жакоб, Жюльет Бинош) не только обеспечивает фокус и ракурс истории, но и воплощает глубинный интуитивный взгляд на ситуацию:
Она «знает», потому что наделена женским талантом, полностью отсутствующим у мужчин, – сверхрациональной проницательностью, позволяющей заглянуть под поверхность вещей, даром озарения, делающим возможным мгновенное проникновение в суть, до которой мужчине пришлось бы добираться путем долгого и сложного исследования[195]195
Helman A. Op. cit. P. 126.
[Закрыть].
Этот отрывок процитирован не потому, что мы согласны с его утверждением, а потому, что он адекватно отражает идеологию, на которую опираются фильмы: самим своим возвышением «женского» он сводит «женское» к дорациональной интуиции:
Фраза, чаще всего слетающая с губ Вероники, Жюли и Валентины: «Я не знаю», – своего рода декларация беспомощности, связанная с определенным видом знания или получения знания. Если бы они сознательно воспринимали природу своей связи с миром, возможно, они употребляли бы такие фразы, как «Я вижу» или «Я предвижу»[196]196
Helman A. Op. cit. P. 127.
[Закрыть].
«Если бы они сознательно воспринимали…» – но смысл как раз в том, что они не в состоянии этого сделать. Разве не ясно, что это видимое повторное утверждение «женского», далекое от того, чтобы представлять настоящую угрозу для патриархальной вселенной, просто обратная сторона и дополнение упомянутой выше фигуры истерической женщины, склонной к чрезмерным театральным взрывам эмоций? Женщина хороша до тех пор, пока поддерживает свою дорациональную интуитивную пассивную позицию, отвергая любые агрессивные импульсы самоутверждения, – если же она поддается этому искушению, она немедленно превращается в жалкое истерическое чудовище, представляющее угрозу для всех, включая себя саму…
Здесь следует обратить внимание на тематическую близость между экзистенциальной загадкой женских образов в фильмах Кеслёвского и рассказами Кристы Вольф, путеводной звезды литературы бывшего ГДР. Шедевр Вольф «Размышления о Кристе Т.» изображает – через призму взгляда рассказчиц, которые собирают мемуары, письма и другие записи Кристы Т., дополняя их собственными воспоминаниями и размышлениями, – историю жизни молодой женщины, рожденной в 1927 г. и выросшей в небольшой деревушке, будучи единственным ребенком деревенской учительницы. После гимназии она вынуждена бежать из своей деревни в связи с вторжением Красной армии. В первые послевоенные годы она преподает в начальных классах и один или два раза влюбляется. Около 1951 г. она решает вернуться в Лейпцигский университет, чтобы изучать немецкую литературу. Она ищет смысл жизни и начинает сомневаться в своем выборе профессии, даже размышляет о самоубийстве. Однако в 1954 г. она все-таки получает диплом и становится учительницей старших классов; в этом качестве она несколько раз спорит с суровыми функционерами и обнаруживает, как сложно донести уроки гуманизма до учеников. Затем она встречает Юстуса, молодого ветеринара, от которого беременеет; они женятся, и она решает вместе с ним искать убежища от своей бессмысленной работы в небольшом городке на севере. Там она собирается посвятить себя писательству и семье. Однако бегство в деревенскую идиллию не удается. Когда они с мужем строят новый дом, ее охватывает ощущение бессмысленности «новой жизни», она заводит непродолжительный роман с лесничим и, как раз перед тем, как они с мужем въезжают в новый дом, узнаёт, что больна лейкемией; в 1963 г. она умирает.
Хотя такая история может показаться простой, читателю следует избегать нескольких ловушек: начиная с антикоммунистического тезиса о том, что Криста Т. на самом деле умирает не от лейкемии, а от гнета деспотической системы ГДР, ее серой повседневности, в которой нет места для подлинной реализации человеческих возможностей, и заканчивая протохайдеггеровским прочтением окончательной неудачи героини как неизбежного следствия ее метафизического нигилизма, крайнего утверждения ее субъективности – данное прочтение рассматривает Кристу Т. как последнее звено в великой цепи современных европейских героев и героинь – от Дон-Кихота и Жюльена Сореля до мадам Бовари и Йозефа К., становящихся жертвами не социальных обстоятельств, но собственного субъективного hubris (высокомерия), собственной неготовности принять жизнь такой, какая она есть, независимо от тех великих метафизических проектов, которые они хотят ей навязать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































